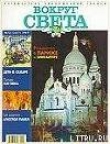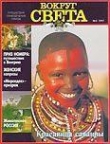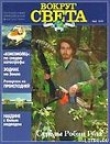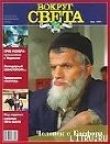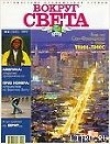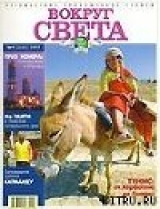
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №9 за 1997 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Сегодня никто не сомневается, что посредине плавневой «густянки» Великого Луга в древности существовал большой город. Что это было за поселение? Древнегреческий город Серимон? Столица татарских ханов Самые, в которой было «семьсот мечетей»?
...Молчит звездное небо. Молчит темная плавневая вода. Молчим и мы. Пан Шовкун лежит на траве и смотрит на звезды. Я примостился на корме и смотрю на их отражение в озере.

Вербы и тростники
Много, очень много света вокруг: будто не было ночи, и впереди – один длинный и радостно понятный всему сущему на земле день. Деревья и травы замерли под пристальным взглядом лета. Нет ветра. Но каким-то непонятным образом запахи льются и льются со всех сторон, и даже посредине озера пахнет чем-то очень сладким и вязким. «Воздух, как узвар...
Как в пчельнике воздух», – не устает удивляться и по-детски радоваться мой спутник. На первый взгляд зеленый мир плавней однообразен и даже скучен, однако достаточно провести в плавнях два-три дня, чтобы убедиться, насколько он ярок и многолик.
Встречались нам по пути свисающие со старых осокорей плети дикого винограда, лакомились мы в плавневых дебрях и яблоками, и грушки недозрелые грызли, и варили на привалах чаи из вишен и шелковицы. Однако чаще всего мы имели дело с ивой, которую тут повсеместно называют «вербой». Естественно, не могла не встретиться нам и проточка, которую рыбаки окрестили Вербичкой, не могли мы не проехать и мимо озера, известного как Вербное.
Жизнь вербы от рождения до смерти нельзя представить без плавневой воды. В трактовке Володи Шовкуна, именно с водой и плавнями связана этимология слова «верба». – В старину, чтоб как-то обозначить броды в плавнях, вдоль них втыкали лозинки. Весной эти низменные места заливало водой, и рыба валом валила туда на нерест. Вот «верба» и означает «в рыбе». Тоже самое и с тополем. Эти приметные издалека деревья сажали вдоль степных дорог. «То в поле», – говорили про эти верстовые топольки.
Для лугарей верба была символом их родной плавневой земли. «Без вербы и калины нет Украины», – и поныне говорят приднепровские жители. С вербой у них связано множество примет и поверий. Хочешь иметь длинные красивые волосы – полощи их в вербовой купели, прислонись к вербе – уйдет печаль, верба возле огорода – минует напасть и порча.
В музее на острове Хортица хранится ствол дуба, который нашли подводные археологи на днепровском дне. В древности обитатели Великого Луга под кронами таких исполинов разводили жертвенные костры, молили небеса о дожде, победах, попутном ветре. «На этом острове руссы совершают свои жертвоприношения: там стоит огромный дуб...», – писал византийский император Константин Багрянородный. О размерах деревьев на островах Великого Луга любили судачить старожилы окрестных сел. «А толщина деревьев? Вербы, так, ей Богу, десять аршин в обхвате», – сообщал одному краеведу старый потомок лугарей. И это не было похвальбой. Нам не раз доводилось слышать от местных жителей, что во время выпаса скота в плавнях в стволах толстых верб выжигали довольно просторные пещеры – в них можно было спрятаться в непогоду. Иные ловкачи даже умудрялись продалбливать оконца и вешать двери, которые запирались, когда хозяин вербового жилища уходил.
...Давно, очень давно отшелестел ветер в кроне раскидистой вербы. Но остались корни – они якорной хваткой сидят в грунте. Сердцевина пня прогнила, кора набухла, отслоилась, но комель прочно, как чугунная тумба, стоит на песчаном дне. А над тихой водой поднимаются их трухлявые срезы. Ветер роняет туда семена других деревьев и растений. И на пнях, переплетаясь ветвями, растут топольки, клены, аморфы; среди листвы – желтые, белые, синие цветы, красные бусинки ягод. Когда водоемы ровно и плотно затягиваются ряской, на зеленых озерных скатертях стоят вазы с букетами. Опадают листья, уходят из ветвей соки, трескается, гниет, надламывается ствол, но остаются корни. Они дают жизнь другим деревьям. Те в свою очередь... Пройдет время, и трудно будет сказать, что чем стало, что откуда и на чьем месте растет. А может, и не понадобится заводить об этом разговор?
Рядом с вербами и другими деревьями на всем пространстве Великого Луга – камыши. Не раз нам в поисках нужной протоки приходилось плутать, пробиваясь через их заросли. Чего греха таить, иногда и жутковато становилось в комариных камышовых дебрях. Чего только не наслушаешься в них! Шлепки, шорохи, вздохи, шипенье, чмоканье, всхлипы. Листья трутся друг об друга, пилят полные стебли, шлепают по воде. Но разве об этом думаешь? Кажется, вот сейчас, сию же минуту из зарослей должно вылететь, выпрыгнуть, выползти, выкатиться некое доселе никем не виданное и не познанное тростниковое существо. И не по себе, и любопытно: какое оно и как это произойдет?
«А камыш рос, как лес; издалека так и белеет, так и лоснится на солнце», – любят вспоминать о былых камышовых богатствах Великого Луга местные жители. Кстати, на Днепре «камышом» или «очеретом» обычно называют вообще густую плавневую растительность на мелководьях. На самом же деле в зарослях прибрежных трав, вокруг островов можно найти и прямые безлистые стебли камыша, и темно-коричневые качалки рогоза, и саблевидные листья аира болотного, но, конечно, больше всего метелок тростника.
Эти растения издавна были в почете у обитателей Великого Луга, которые повсюду находили им применение. «Покинь сани, возьми воз, та и поедем по рогоз», – не уставали напевать весенние птахи лугарям. Однако раньше взрослых в плавнях оказывались дети. Они рыскали по болотам и мелководьям в поисках «панянок» – сладких внутренностей рогоза. Метелками же тростника пацаны набивали кожаные чехлы мячей. Чуть повзрослев, луговская ребятня с помощью тростниковых палочек, очинённых наподобие карандаша, начинала выводить первые буквы. Тростником покрывали крыши хат, чабанские телеги – «котыги», рыбацкие шалаши. Рыбаки из рогоза плели маты, которыми перегораживали протоки; «ки-тецем» у днепровских рыбарей называлось отверстие во льду, обставленное тростниковым заборчиком. Когда цвел камыш, отовсюду в плавни слетались пчелы. Медовую же добычу они несли в ульи – «кошарки», сплетенные плавневыми пасечниками из рогоза. Не могли обойтись без «горобынца» (так еще в народе называли рогоз) и хозяйки. «Рогожкой» у них называлась щетка для побелки хаты, а «хвощанкой» – пучек рогоза, которым мыли деревянные полы.
Исчезает, тает на глазах хрупкий зеленый мир Великого Луга. Стонут чайки над залитыми водой островами, мечутся стрижи над обрушивающимися каховскими берегами, задыхается рыба. И в который раз звучат над вербами и камышами слова старинной казацкой песни: «Ой не пугай, пугаченьку, в зеленому байраченьку! – Ой, як мени не пугаты, що хотять байрак вырубаты, а мени ниде та прожываты, ниде мени гнизда звы-ты, малых диток выглядиты...»

Острова и островитяне
«Мужики, большая просьба не мусорить. Приятного отдыха. Хозяин Кузьмич». Такую наспех начертанную то ли углем, то ли сажей записку мы нашли в одном из фанерных домиков на острове Седластом (его еще называют и Каневским, и Безымянным, на одной из карт он даже обозначен как Даманский).
– Давай к этой хатке, – сказал Володя. – Курень что надо.
К этой, так к этой. А можно и вон к той, что стоит под шелковицей. Или к хибарке на берегу. Можно, правда, и на самом берегу под вербой заночевать. Еще лучше в лодке под звездами посреди Днепра расположиться. Под любой крышей здесь, в плавнях, как у себя дома. И все же после недолгих колебаний мы пристали к довольно уютному и снаружи, и изнутри (даже сетки от комаров на окнах были) домику Кузьмича. На несколько дней он стал нашей базой, откуда мы отправлялись по окрестным островам.
Оценить зеленую островную красоту Великого Луга можно лишь с высоты орлиного полета. Или хотя бы поднявшись на один из холмов правого берега Днепра – на ту же Лысую гору. Куда сложнее разобраться в системе островов, разбросанных в живописном беспорядке по плавням. Однажды турки, преследуя запорожцев, поднялись выше устья Днепра, однако быстро заплутали среди островов Великого Луга и были перебиты.
Вольготно и уверенно чувствовали себя на островах Великого Луга и бродники, и лугари, и добытчики рыбы, которая здесь, по свидетельству очевидцев, «задыхалась от множества», и пасечники, и скотари. На больших неприступных островах по краю Великого Луга располагались казацкие Сечи, в дебрях же его, на островах помельче, стояли хуторки казаков-зимовчаков. Богатые пастбища и сенокосы Великого Луга способствовали развитию скотоводства в этом краю (кстати, уже в наше время в засушливые годы в плавни сгоняли скот со всего юга Украины). Поэтому для казака, который решил стать «гнездюком» и завести свое хозяйство, имело смысл построить зимовник ни где-нибудь, а именно в Великом Лугу, в котором за два года молодая телка уже давала приплод. Перед походом казакам, что жили в зимовниках по плавням, из Сечи посылалась «круговая повестка». Казак-лугарь оставлял хозяйство на жену и присоединялся к сечевикам.
Плавневая «густянка» принимала всех, кому свобода была милее сытого, но подневольного хлеба, чинов и наград. У лугарей существовал особый этикет гостеприимства. Первое знакомство гостя и хозяина могло начаться с такого диалога. «А пугу, пугу?» – «Казак з Лугу!» – «Базавлук!» – «Саламаха и тузлук!» А означало это вот что. Прилетел пугач (филин) к пугачу, то есть казак к казаку, и спрашивает: «Что ты есть за птица?» Тот ему отвечает: «Я казак с Луга!» Очередь гостя держать ответ перед лугарем: «А я казак с Базавлука!» Тогда хозяин радушно распахивает двери перед путником, приглашая его отведать «саламахи» – каши из густо сваренной ржаной муки и «тузлука» – ухи. День-другой проводит в гостях сечевик. Наконец хозяин посылает к нему сына: «Пойди, глянь, что поделывает бурлака». «Воши бьет», – подглядев за гостем, доносит пацан. «Значит, еще погостюет», – вздыхает лугарь. Через пару дней сын докладывает отцу, что казак заплаты на сорочку ставит. «Ну, теперь уже скоро поедет», – с облегчением восклицает хуторянин.
Лугари, как правило, держали свои дома открытыми. Записок, правда, гостям они не оставляли, но те и так знали, как себя вести в чужой хате. «Казаки ни в чем не таились, – вспоминали об этой луговой старине чубатые деды с окрестных сел. – Как идет куда – курень не закрывает. Войдешь в курень – казан висит, пшена мешочек, мука, вяленая рыба, а у другого – ваганы меда стояли. Хочешь мед ешь, хочешь – тетерю вари чи кулеш. За еду ничего не скажут, а брать из куреня не бери, узнают – дадут нагаек».
В домике у Кузьмича меда нам не оставили, однако подсолнечное масло, мука, пшено и даже яйца были к нашим услугам. Мы не воспользовались этими запасами – своих харчей хватало. Лишь позаимствовали пригоршню-другую соли. Володя, правда, предложил сохранить рыбу, что удалось мне добыть с помощью подводного ружья, по-казацки – обсыпать золой и зарыть в сырой песок. Я все же отдал предпочтение соли, напомнив Шовкуну чумацкое: «Без соли и беседа суха и рыбка брыдка».
Таких домиков, как у Кузьмича, на плавневых островах немало.
Крохотный, размером с парковую танцплощадку, островок Дядин, расположенный по правому берегу Днепра чуть выше Лысой горы, рыбаки называют «Шанхаем», настолько тесно здесь лепятся к друг другу хатки, флигельки, сарайчики, навесы. Это, пожалуй, единственный остров, который с годами не уменьшается, а увеличивается. Укрепляя его берега и расширяя территорию, дядинцы забивают на мелководьях сваи, нанизывают на них старые покрышки, закладывают пространство между сваями и берегом камнем, а потом все это присыпают землей, которую засаживают огородами. Не хватает огородных соток (тут, правда, речь может идти о квадратных метрах) – используют (скажем, для огурцов) старые фонарные плафоны, которые подвешивают над водой. Горазд на выдумки человек в плавневой «густянке» на своей земле!
Напротив Дядиного острова в плавнях – хуторок Бориса и Людмилы Овчинниковых. Борис когда-то был егерем в этих местах, а потом раздумал возвращаться в город и «сел зимовником» на острове. Зимой, правда, иногда приходится туговато. В плавнях без лодки, как без рук. У Овчинниковых есть и баркасик для перевозки сена, которое они заготовляют на соседнем острове Седластом, и каючок для рыбной ловли, и даже легкий жестяной челн, в котором можно переправляться через Днепр по первому тонкому льду, отталкиваясь от него двумя палками с железными наконечниками. Лодочка от берега до берега скользит, не проваливаясь. А где вдруг треснет лед, там можно и веслами поработать.
Есть в плавнях острова для людей, есть островки и для птиц, и для зверушек, и для рыб. Речь идет о плавучих рогозовых островах, которые местные ныряльщики называют «плывунами». Островки эти издалека можно определить по желтой полосе внизу. Обычно плывуны прибивает к зарослям камыша. На этой довольно твердой и прочной рогозовой подстилке любят селиться чайки, устраивают свои гнездовья ондатры. А под плывунами в сумрачных пещерах стоят красноперые сильные щуки и отлеживаются громадные осклизлые сомы.
Все эти маленькие островки и большие островные земли, все эти камыши и вербы, все здесь под водой, на воде и возле воды – прежде всего для насущных нужд природы Великого Луга. А значит, и для насущных нужд человека. Даже того, который когда-то превратил цветущие плавни в мутное море...
Украина, Каховское водохранилище
Владимир Супруненко / фото автора
2001 и дальше: О конце века, конце света и начале тысячилетия

Принято считать, что когда приближается новое столетие – а сейчас на нас надвигается не только новый век, но и новое тысячелетие, – в обществе нарастает тягостное предощущение грядущих перемен. Так было в конце прошлого века, то же самое можно наблюдать и сейчас, причем в ближайшие годы эти тревожные ожидания будут скорее всего нарастать. Не исключено, что объявятся новые мессии, предрекающие Страшный Суд, мировую катастрофу, после которой спасутся лишь избранные...
Справедливы ли эти настроения? Скорее всего нет. Что такое, в сущности, рубеж веков? Календарная отметка, порожденная десятичной системой счета, реформой летосчисления, произведенной когда-то Юлием Цезарем и астрономом Сосигеном, и нововведением папы Григория XIII. Есть немало стран, в которых и век ныне – не двадцатый, и цифра 2000 не маячит на горизонте. Однако для очень многих людей – особенно христианской веры – понятие «тысячелетие» представляется священным, а сама «круглость» даты – двухтысячный год – обладает магической силой. Не будем подвергать эту магию сомнению. Времена на дворе, действительно, необыкновенные, только вряд ли следует окрашивать наши ожидания в трагические тона.
Закончится ночь с 31 декабря 2000 года на 1 – января 2001-го, наступит первое утро третьего тысячелетия, и люди увидят – мы надеемся, это будет именно так, – что ничего особенно не произошло. Просто мир стал немного старше, а следовательно – немного умнее. О том, как умнеет человечество, о том, каких открытий, изобретений, идей, новаций следует ожидать в следующем веке и дальше, и будет рассказывать наша новая рубрика.
А начнем мы все-таки с конца. С конца века.
Не будем верить пророкам
Сколько осталось жить двадцатому веку? Тем, кто откроет этот журнал 18 сентября 1997 года, не нужно прибегать к калькулятору. Скажу сразу: до начала третьего тысячелетия остается 1200 дней. Акцент в последней фразе следует сделать не на круглой цифре «1200», а на слове «начало».
Ведь можно сказать «конец века» и можно – «начало тысячелетия». Разница есть, не правда ли? Мне кажется, человеку – как разумному биологическому социальному существу – более пристало мыслить категориями надежды, чем категориями отчаяния. Ведь именно видение будущего отличает человека от животного. Гадалки, предсказатели, провидцы, футурологи, пророки, ясновидцы, фантазеры и фантасты всегда были и будут: клапан, открывающийся в будущее, необходим, иначе неудовлетворенность настоящим, порожденная всем опытом прошлого, переполнит разум и взорвет его.
Найдется немало людей, которые будут связывать ближайшие годы не просто с концом века, но с окончанием времен – концом света. Возьму на себя смелость сказать: конца света не будет. Точнее, он уже много раз наступал. Еще точнее – его столько раз «назначали», что к несбывае-мости этого прогноза можно и привыкнуть.
Монтанисты – последователи пророка Монтануса – ждали Судного Дня в конце второго столетия нашей эры, потом в третьем, четвертом, пятом веках...
Все крестовые походы осуществлялись под знаком близкого конца света. Христофор Колумб в своих «Пророчествах» относил конец света на 1656 год. Мир спокойно пережил эту дату.
Книги с предвестиями самого близкого конца света выходили в 1891-м, 1901-м и других годах, при этом некоторые опусы имели значительный успех – например, книга, вышедшая в 1904 году и назначившая конец света на 1921 год, мгновенно разошлась тиражом 20 тысяч экземпляров.
Прогноз никогда не бывает нейтральным. Правилен он или неправилен, прогнозирующий анализ неизбежно вызывает побуждение к действию.
Карл Ясперс
...Все, что будет ложно сказано о будущем, не может состояться.
Цицерон
Самый кровавый «конец света» был отмечен в 1900 году в Каргопольском уезде России. Из всего человечества пострадали только члены секты «Братья и сестры красной смерти». Лидеры этой религиозной группы, имевшей за плечами двухсотлетнюю историю, установили дату конца света – 13 ноября 1900 года – и объявили верующим, что Господь будет очень доволен, если они сами принесут себя в жертву посредством самосожжения. Как только известия о планируемом массовом самоубийстве достигли Санкт-Петербурга, в Каргополь были направлены войска. Однако, когда солдаты добрались до места назначения, более ста сектантов уже погибли. Когда день закончился и никакого страшного суда не произошло, оставшиеся в живых в разочаровании покинули секту.
Уже в наше время – в 1970-е и 1980-е годы – было немало пророчеств, предрекающих конец света задолго до конца тысячелетия. В 1988 году некто Эдгар Уизенант, бывший инженер в области аэрокосмической техники, выпустил книгу с предсказанием, что конец света наступит именно в этом году; книга разошлась тиражом 4 миллиона (!) экземпляров, и автор получил недурной гонорар. Конец света, как мы хорошо знаем, не наступил. Тогда Уизенант выпустил «пересмотренное» издание, в котором перенес конец света на 1989 год. Публика, однако, успела разочароваться в пророке, и книга успеха не имела.
Корейские христиане выступили с пророчеством, что конец света наступит в 1992 году. Один из «пророков» даже выпустил облигации, срок погашения которых истекал через два месяца после обещанного конца света, когда деньги уже никому не будут нужны. Публика облигации купила, конца света не дождалась, а «пророк» заработал 345 тысяч долларов.
В США есть особый общественный институт – «Вахта тысячелетия», – занимающийся проблемой конца века. По оценке института, уже более тысячи мелких издательских организаций и частных лиц выпустили книги и книжонки, где утверждается – разумеется, в мрачных тонах, – что грядет «глобальная трансформация».
Ожидая конца света, можно, конечно, ссылаться и на авторитеты – например, на Нострадамуса. Известно, что одно из его пророчеств гласит:
Год 1999, семь месяцев пройдет. Сначала Сойдет с небес великий Царь террора, Чтоб воскресить великого царя Ангулмуа, Затем же будет править Марс на счастье всем. Совершенно неясно, кто такой Ангулмуа и причем здесь Марс. Впрочем, если принять во внимание другие предсказания Нострадамуса, относящиеся к нашему времени, то мы уже должны жить посреди большой войны, чумы и голода – именно этими явлениями пророк охарактеризовал последнюю четверть двадцатого века. А еще должны быть ужасные ветры, страшное весеннее наводнение в Англии и великое землетрясение, которое, не исключено, расколет Африку на три части, – и все это к середине 90-х годов. Что касается непосредственно 1997 года, то «огромное разбросанное пламя накроет новый город». Что ж, больше половины 1997 года уже прошло...
Мне могут возразить: мы живем не просто в конце века, а в конце тысячелетия. Страшные перемены просто НЕ МОГУТ не состояться.
Обратимся к истории. Не было ли великих потрясений в конце первого тысячелетия?
Если почитать «Историю Франции» Жюля Мишле, то эти потрясения мы найдем там в изобилии:
«Казалось, сам порядок времен года пошел вспять, и стихии стали подчиняться новым законам. Страшный мор опустошил Аквитанию, плоть больных казалась обугленной пламенем и гнила прямо на костях. Несчастные страдальцы толпились на дорогах к местам паломничества и осаждали церкви, особенно церковь Святого Мартина в Лиможе; они скопились вокруг ворот душной толпой, и даже вонь, окутавшая церковь, не могла отвратить их. Большинство епископов с юга отправились туда, неся с собой реликвии своих церквей. Толпа разрослась, но усилилась и инфекция; страдальцы умирали на реликвиях святых.
Несколькими годами позже стало еще хуже. Голод свирепствовал по всему миру, начиная с Востока, он накрыл Грецию, Италию, Францию и Англию... Богатые чахли и покрывались бледностью; бедные пожирали корни растений; страшно сказать, люди пожирали даже человеческую плоть. Более сильные хватали слабых на больших дорогах, рвали на куски, поджаривали и ели. Иные предлагали детям яйцо или фрукт, отводили в сторону и пожирали». Мишле вторили и другие французские историки прошлого века.
Люди и впрямь ожидали, что, когда на большом соборе зазвонят колокола, начнется последний отсчет времени перед концом света».
Что тут ложь, а что намек? Намек в том, что мы должны ожидать похожих вещей, а ложь... ложь здесь практически все. Медиевисты, то есть историки, изучающие средние века Европы, поставили под сомнение – уже в наше время – «открытия» Мишле, а также других историков прошлого столетия, и тщательно изучили хроники, рукописи и прочие документы, относящиеся к рубежу первого и второго тысячелетий. Выяснилось: не было мора в Аквитании, не было массового паломничества, не было каких-то особых эпидемий – болезни косили людей примерно так же, как до и после знаменательной даты, не отдавали купцы свои товары, и узников не выпускали из тюрем, потому что и самих тюрем, в нашем понимании, еще не было. Жуткая картина сначала нарисовалась в воображении французских историков-романтиков, по своему воевавших с католической церковью, а потом уже стала «писаной историей».
На самом деле люди средних веков (кстати, термин «средние века» нам подарен историками Просвещения) не обратили особого внимания на приход второго тысячелетия. Прежде всего потому, что человек тогда вообще иначе мерил само время, эпоха единого календаря еще не наступила, да и понятие «столетие» не успело войти в жизнь. Если уж всерьез копаться в истории, то первое празднование «успешного» окончания столетия произошло не в 1000-м, а только в 1300 году: 22 февраля папа Бонифаций VIII выпустил буллу «Антикворум», которой обещал христианам индульгенции, если они в течение года посетят главные римские базилики, отдав таким образом долг памяти прошедшему столетию и ознаменовав приход новой эры.
Если вы не думаете о будущем, возможно, оно для вас и не наступит.
Джон Голсуорси
Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас.
Петр Чаадаев
Если хочешь прочитать будущее, изучай прошлое.
Конфуций
В России, как известно, начало года с первого января будет введено Петром I, но это произойдет весьма не скоро – только в 1699 году.
Интересно, а что напишут «романтические» историки будущего о нашем времени, о конце второго тысячелетия?
Еще раз повторю: не будем ждать конца света и не будем верить пророкам, которые его предсказывают. Тем же людям, для кого мои аргументы не убедительны, напомню слова Иисуса, обращенные к апостолам: «...не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти...» (Деян. 1, 7).
Эпоха упадка или открытий?
Тем не менее с календарной точки зрения мы живем в переломный момент эпохи. Самое время вспомнить, что именно в последнее десятилетие прошлого столетия родился особый культурно-политический феномен – fin de siecle, «конец века». И тому были веские причины.
К концу XIX века накопились мощные геополитические изменения. Практически вся Африка была поделена между европейскими державами – лишь Эфиопия оказала успешное сопротивление «цивилизаторской миссии» белого человека, да Либерия была основана сразу как независимое государство.
Развитые страны увлеченно размещали капиталы за пределами своих территорий. Именно тогда были заложены основы транснациональных экономических связей. Стали возникать международные картели, бравшие под свой контроль мировую торговлю сырьем. Родились первые гигантские частные монополии – «Стандард Ойл» и «Ю-Эс-Стил».
Мир вступил на путь урбанизации. Городское население Великобритании к 1890 году составило уже 72 процента общей численности страны. Человечество стало знакомиться с канализационными системами, электрифицированными подземными железными дорогами, которые впоследствии назовут «метро», в крупных городах возникли огромные магазины. Нам теперь трудно представить жизнь без универмагов и супермаркетов, а ведь не так давно они были сенсационным новшеством.
Азия не отставала от Европы. Япония невероятно быстро прошла фазу модернизации и превратилась в мировую державу. Нарастали мощные национальные движения в Китае и Индии. Это все – конец девятнадцатого века. Но и взлет расизма – тоже конец девятнадцатого столетия: распространение теорий Жозефа Артюра де Гобино о неравенстве человеческих рас, социал-дарвинизма, идей Генриха фон Трейчке, призывавшего к объединению Германии под гегемонией Пруссии, антисемитизма...
В военной области создавались дальнобойная артиллерия и мощные взрывчатые вещества.
Было, было отчего впасть в депрессию. И художники – люди с особо тонкой организацией души – остро чувствовали приближение грозного двадцатого века.
В литературу пришло новое направление – натурализм, снявшее табу с таких тем, как секс, преступность, нищета и коррупция, что видно по романам Гюстава Флобера и Эмиля Золя, Жориса Гюисманса и Томаса Харди. В России умами властвовал Достоевский. Тяжелое мироощущение сквозило в пьесах Ибсена и сатирах Уайльда. Поэты-символисты – Поль Верлен, Артюр Рембо – возвещали упадок и демонстрировали презрение к истеблишменту. В психологии начиналась эпоха психоанализа. В философии конец века воплотился в Фридрихе Ницше, мыслителе, который скончался в последнем году девятнадцатого столетия.
Fin de siecle пришел и в научную фантастику. Вообще говоря, девятнадцатое столетие можно назвать веком утопий, но именно в конце его, отражая те самые драматические умонастроения, появляются и первые антиутопии – прежде всего романы Герберта Уэллса «Машина времени» и «Когда спящий проснется», а чуть раньше – роман «Колонна Цезаря» некоего Эдмунда Буажильбера. В русском переводе он был назван «Конец цивилизации». Под псевдонимом Буажильбер скрывался известный американский писатель Игнатиус Доннелли. Время действия романа – 1988 год, то есть буквально наше время. Автор действительно описывает конец цивилизации – восстания рабочих в Европе и Америке, гибель Нью-Йорка и, наконец, крушение мирового сообщества, от которого остается лишь пятитысячная община в горах Уганды.
Что это – перенос ощущения конца девятнадцатого века на конец двадцатого? Первое предчувствие конца тысячелетия?
Как бы мы ни ответили на этот вопрос, посмотрим теперь на конец XIX века совсем с другой стороны.
Что происходило в науке и технике в последнее десятилетие XIX столетия? О, картина совсем-совсем другая.

Вот, например, воздухоплавание. Бразильский пионер авиации Альберто Сантос-Дюмон заканчивает постройку дирижабля с двигателем в полторы лошадиные силы и поднимается на нем в первом полете на 400 метров над землей. Граф Фердинанд фон Цеппелин строит свой первый воздушный корабль с жестким корпусом, запуск этого 128-метрового гиганта, оснащенного бензиновым двигателем, состоялся в 1900 году. И совсем немного времени остается до первого полета братьев Райт.
Наземный транспорт. Изобретен бензиновый двигатель и запатентован дизель. В 1896 году Генри Форд строит свою первую машину. Карл Бенц, изобретатель первого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, переходит с трехколесных машин на четырехколесные, и автомобили очень быстро начинают оснащаться пневматическими шинами.
Кораблестроение. В России выходит первое сочинение Алексея Николаевича Крылова о расчете формы кораблей – рождается теория кораблестроения. Американский изобретатель Джон Филип Холланд строит первую дееспобоб-ную подводную лодку, которая поступает на вооружение ВМФ США в 1898 году. Первая яхта с водометным движетелем сконструирована тоже в конце прошлого века.

Медицина – целый фейерверк достижений. Илья Мечников открывает фагоциты, а Дмитрий Ивановский – вирусы. Австрийский медик Карл Ландштейнер закладывает основы иммунологии, он предлагает разделить красные кровяные шарики на три группы – это важнейшее открытие останется непризнанным почти тридцать лет. Роберт Кох добивается поразительных успехов в лечении туберкулеза – за это он получит в 1905 году Нобелевскую премию. Французский хирург и патофизиолог Алексис Каррель работает над сшиванием кровеносных сосудов и начинает проводить опыты по трансплантации.
Телефонная связь. В одном из банков американского города Хартфорда установлены первые платные телефоны-автоматы, а в другом городе – Ла-Порт – вводится в эксплуатацию «первая АТС на 99 номеров. К концу века каждый тринадцатый дом в США уже имеет телефонный аппарат.
А счетная техника? Уже производятся: «арифмографы» (карманные калькуляторы), «комптографы» (счетные машинки, Дозволяющие записывать вычисления) и арифмометры с полной клавиатурой (чем не прообраз будущих компьютеров?). Герман Холлерит разработал электрифицированную систему обработки данных на перфокартах, благодаря) чему перепись населения 1890 года в Америке произведена в два раза быстрее, чем за десять лет до этого (и обошлась на полмиллиона долларов дешевле). Возникает индустрия деловых машин, рождается «Табулейшн Машин Компани», которая шесть десятилетий спустя получит название IВМ.

Фотография. Перестав быть таинственным профессиональным ремеслом, она становится доступной широкой публике; тысячи любителей пользуются камерами фирмы «Кодак» лозунг: «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное» – уже родился), ролика целлулоидной пленки хватает на Сто кадров. А изобретатель Фредерик Айвз с успехом разрабатывает технологию цветной фотографии.