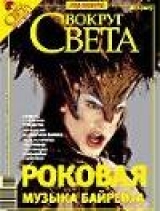
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Во всяком случае, именно при Винифред и при Третьем рейхе Байрейтский фестиваль превращается в ассамблею партийной верхушки, куда стремились попасть все, кто жаждал карьеры или укреплял свое общественное положение в условиях нацистского режима, – промышленники, банкиры, директора театров, художники, писатели. «Центр тяжести» фестиваля переместился со сцены в «кулуары» (во многом он, кстати, пребывает там и до сих пор. Высший свет Германии не мыслит себя без ежегодного паломничества в Байрейт). В вагнеровской усадьбе Ванфрид, куда Гитлер был вхож на правах члена семьи, за фюрером закрепилось прозвище «дядюшка Волк» – так его называли дети Винифред. Байрейт объявляется «памятником культуры национального значения» и заваливается субсидиями. Планировалось даже строительство нового театра на Зеленом холме, рядом со старым Фестшпильхаусом, но помешали всем известные исторические события. После крушения рейха Винифред Вагнер была признана судом «причастной к преступлениям нацизма». Впрочем, она сумела добиться смягчения приговора, доказав, что спасла от транспортировки в концлагерь нескольких неарийских сотрудников фестиваля. Она умерла в 1980 году.

Рихард Вагнер

Козима Вагнер

Зигфрид Вагнер с отцом

Винифред Вагнер

Виланд Вагнер

Вольфганг Вагнер
Страсти «франконского двора»
«Что виндзорское семейство для Великобритании, то мы, байрейтские Вагнеры, для Германии», – эта фраза принадлежит жене Вольфганга Вагнера Гудрун. Уж, как говорится, «чья бы корова мычала»: Гудрун Мак несколько лет работала простым секретарем «главы династии». Только в 1976 году он развелся со своей первой женой и через несколько недель женился на этой девушке. Но вот уже четверть века «матушка-кормилица», и внешне стилизующая себя под королеву-мать, участвует, и весьма активно, во всех байрейтских делах. Дети Вольфганга Вагнера от первого брака активно встали на сторону своей матери и прервали все отношения с отцом. Вообще, согласно договору, заключенному между германским государством и «династией» в 1973 году, человек, носящий от рождения фамилию Вагнер, имеет приоритетное право на должность директора фестиваля. Конечно, не исключен приход и человека со стороны, но на деле никто к этому не стремится и этого не мыслит себе в Байрейте – страна не хочет терять своих «Виндзоров». На сегодняшний день все более походящий на престарелого дракона Фафнера из «Кольца», Вольфганг имеет пожизненный договор на должность руководителя. Но ему только что исполнилось 88, и вопрос о преемнике будоражит общественность. Из в общей сложности пятидесяти шести здравствующих членов клана интерес к «престолу» в разное время проявляли тринадцать человек. Наиболее вероятные претенденты на роль преемниц нынешнего руководителя – две представительницы поколения правнуков композитора: Ника и Катарина Вагнер.

29-летняя Катарина Вагнер специализируется на постановках опер прадеда
Внуки
От брака Винифред и Зигфрида, как уже говорилось, на свет появились четверо детей.
Дочь Верена прожила относительно тихую жизнь (не считая брака с Бодо Лаферентцем, оберштурмбанфюрером СС). Сейчас ей 87, и она по-прежнему принимает посильное участие в байрейтских делах.
Фриделинда еще двадцати лет от роду сбежала из «семейной Валгаллы» и отправилась в Америку, где ее фактически удочерил знаменитейший дирижер Артуро Тосканини. Свою карьеру в публицистике она начала в 1946 году автобиографической книгой
«Ночь над Байрейтом». До конца жизни (Фриделинда Вагнер умерла в 1991-м в Швейцарии) она не восстановила отношений ни с матерью, ни с остальной байрейтской родней.
Гораздо большую лояльность к династическим традициям проявили братья Виланд и Вольфганг. Вместе с матерью оба еще в 1947 году начали дело нелегкого – в тогдашних-то условиях – возрождения вагнеровского культа в Байрейте, а с 1951-го вместе возглавили вновь разрешенный властями фестиваль. Поначалу творческая роль в тандеме отводилась лишь Виланду, а Вольфганг был вынужден ограничиваться административными функциями, хотя он, как и брат, серьезно учился режиссуре. Как бы там ни было, Виланд Вагнер решительно взял курс на эстетическое и идеологическое обновление фестиваля. Из спектаклей исчезли все «лишние детали», вся помпезность прошедших эпох, что вызвало гнев вагнерианцев старой гвардии, но возвратило Байрейт в когорту культурных событий международного уровня.
В 1966 году Виланд умер от рака легких, и теперь единовластным правителем на Зеленом холме остается Вольфганг.
Здравствующий патриарх
С именем Вольфганга Вагнера все единогласно связывают реставрацию байрейтского духа старого образца. По дружному свидетельству всех, кому приходилось с ним работать, внук великого Рихарда одержим идеей гиперконтроля надо всем, что творится на Зеленом холме и на нескольких квадратных километрах вокруг. От декораций к спектаклям до меню в фестивальной столовой – все подлежит его личному одобрению. От его крутого нрава не спасают никакие заслуги: так, однажды он выгнал из байрейтского ансамбля знаменитую «Валькирию» Вальтраут Майер только из-за того, что она не смогла присутствовать на двух предфестивальных репетициях.
Впрочем, если упреки руководителю фестиваля в самодурстве, видимо, имеют под собой почву, то обвинения в реакционности и самовлюбленности по тому же адресу – не вполне справедливы. В самом деле: ведь только в первые послевоенные десятилетия почти все спектакли ставили «собственноручно» Вольфганг или Виланд Вагнеры, а в последние 30 лет в Байрейте работают ведущие и часто радикально мыслящие режиссеры.
Иное дело – репертуар. Здесь уже давно ничего не меняется. Как и раньше, байрейтская история измеряется «Кольцами» – то есть постановками тетралогии «Кольцо Нибелунга». Понятно, что осуществлять ежегодно новую инсценировку шестнадцати с лишним часов музыки невозможно, да и не нужно. Но цикл «переставляется» на фестивале раз в шесть лет: спектакль идет пять лет, затем следует год перерыва и – новая версия. Правда, в течение этих пяти сезонов режиссеры не только могут, но и должны дорабатывать и слегка изменять свои постановки (это касается не только создателей «Кольца», но и всех работающих здесь людей театра) – подобный принцип был учрежден в конце 1970-х.
Одним из первых гостей так называемой «байрейтской мастерской» стал в 1976 году Патрис Шеро – его блестящие спектакли театральная критика назвала «кольцом двадцатого века». Затем пришел Гарри Купфер, который не преминул использовать в консервативном Байрейте все свои фирменные приемы из арсенала левого искусства (Брунгильда, Зигфрид и Вотан играли и пели в комиссарских кожанках, галифе и солнцезащитных очках). Наконец, в 1994-м «байрейтской шанс» был предоставлен Альфреду Кирхнеру, создавшему так называемое «дизайнерское кольцо» – опять-таки в духе времени. Ну, а сегодня публике явилось актуальное «Кольцо».
Фестивальные реалии
Сам фестиваль – это около тридцати спектаклей, идущих с конца июля по конец августа. Помимо ключевого элемента, о котором уже было рассказано – тетралогии «Кольцо Нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов»), это: Прежде всего, последняя опера Вагнера «Парсифаль», идущая здесь почти каждый год, как того и желал сам основатель. Редкий сезон обходится без «Тристана и Изольды». Кроме того, из года в год ставятся то одна, то другая из более ранних опер неистового Рихарда – «Тангейзер», «Летучий голландец», «Лоэнгрин» или «Нюрнбергские мейстерзингеры» (единственное комическое сочинение композитора). Всего на сезон распродается порядка 50 тысяч билетов. Цена относительно скромна – от 30 до 300 евро, но попасть на Зеленый холм во время «священнодейства» простому смертному крайне сложно. Ежегодно в Байрейт поступает около полумиллиона заявок – нетрудно подсчитать, что удовлетворяется лишь каждая десятая. Желающие могут занять место в очереди и ежегодно возобновлять свою заявку, продвигаясь к вожделенной цели. В среднем ожидание длится около 12 лет… Зато есть лица, которые появляются в фойе Байрейтского фестиваля ежегодно. Причем речь идет не только о политиках, финансовой элите и прочих знаменитостях, с которыми по понятным причинам хочет «дружить» любой фестиваль. Непрозрачная процедура распределения билетов – одна из главных претензий к байрейтскому руководству. Последнее ведет бесконечную и безнадежную борьбу с черным рынком – несмотря на все запреты, некие таинственные фирмы из года в год предлагают билеты по баснословным ценам (1000 евро и выше). Что не мешает отчаянным «искателям счастья» проводить ночи перед кассой в надежде, что землетрясение в Токио или обвал нью-йоркской биржи приведут к массовому отказу от билетов на самый знаменитый музыкальный фестиваль современности. Так, каждый вечер, нарядившись по-парадному, дежурят они перед входом в Фестшпильхаус с табличкой «Ищу билет на любой спектакль». Говорят, что иногда везет.
Актуальное «кольцо»
Оно «сковалось» на фестивале в 2006 году при драматических обстоятельствах. «Кольцом века» должна была стать эта постановка, за которую взялись крупнейший режиссер современного мирового авторского кино, датчанин Ларс фон Триер и самый значительный из младшего поколения немецких дирижеров, Кристиан Тилеман. Два этих бескомпромиссных харизматика казались идеальной парой, достойной замыслов Вагнера. Но за мизерные для такого проекта полтора года до премьеры Триер отказался. Причины отказа (как и своего изначального интереса к Вагнеру) он изложил в кратком и весьма интересном тексте. Вот выдержки из этого манифеста (автор «Догвилля» и «Рассекая волны», как правило, говорит манифестами): «...все, что в «Кольце» есть действительно интересного, не может (!) быть увиденным. Из этого я делаю вывод, что «ультимативная» постановка должна происходить в полной темноте! Мое предложение: «черный театр». Или: инсценировка «обогащенной темноты».
...Но «черный театр» – непростая вещь. Потребовались бы тысячи и тысячи тщательно выверенных «световых указаний» – не говоря уже о других сложностях, которые возникли при первой же попытке создать – и сохранить – «божественную темноту»...
Подобная инсценировка могла бы утратить любое значение и с грохотом провалиться в тартарары полной бессмысленности в результате первой же малейшей технической неточности, первой ошибки. Я не утверждаю, что осуществление такой постановки невозможно в принципе – но работа над ней для меня, человека, одержимого стремлением к перфекционизму, означала бы превращение моей жизни в ад.
Вагнер взял миф и создал из него миф, и если кто этого боится – руки прочь, господа!»
В результате «не испугался» и взялся за проект в порядке «скорой помощи» обремененный летами и опытом восьмидесятилетний литератор старой школы Танкред Дорст. Вышло тяжело и скверно. Суетливая беспомощность режиссера служит теперь лишь контрастом к великолепному музыкальному решению «Кольца» – дирижер Тилеман блистает и мерцает в одиночестве. Кстати, именно в Тилемане многие видят будущего правителя Байрейта и залог того, что здесь будут сохранены все столь милые сердцу вагнерианцев обычаи, традиции и...

«Тангейзер» в постановке Филиппа Арло 2002 года радовал зрительский глаз зеленым газоном, усеянным алыми маками, однако не вызвал восторга со стороны критиков
Ритуалы
В самом деле, какой же культ без ритуалов? Есть они, конечно, и здесь. И суть их в первую очередь в подготовке «верующих» к главному «действу», – собственно, походу на оперу. Утро спектакля и свободные дни уходят на посещение собраний многочисленных вагнеровских обществ или лекций о композиторе и его операх. Так, вот уже не первый год байрейтские дамы без ума от некоего Штефана Микиша, который рассказывает им об эзотерической сути сюжетов, имеющих отношение к фестивалю: например, о том, что рыцари Грааля – это люди, «отработавшие свою земную карму». Вообще, в посещении здешнего спектакля всегда, даже для «неверующего», есть нечто религиозное. Уже восхождение нарядной толпы вверх по Зеленому холму, среди посаженных еще при Вагнере дубов, выглядит несколько экстатической – во всяком случае, торжественной – процессией. (Естественно, открытие фестиваля освещается и репортерами светской хроники: так, последний раз обильный материал для ехидных комментариев дала Ангела Меркель, явившаяся в костюмчике невообразимого лилового цвета и под руку с супругом Йоахимом Зауэром. Своего супруга канцлер Германии показывает народу примерно раз в году, и, как правило, именно в Байрейте, что даже принесло угрюмому профессору химии прозвище «призрак оперы».)
После «дефиле» вся публика – а также изрядное количество зевак – собираются на площадке перед театром и ждут «звонка». «Звонок» по-байрейтски – это торжественные фанфары, которые «выдувает» с балкона октет оркестрантов-духовиков. Медь их инструментов сияет на солнце, словно регалии богов, а фанфара – это всегда тема из предстоящего действия. За пятнадцать минут до начала трубят один, за десять – два, за пять – три раза. Начинаются спектакли рано, в четыре часа, идут долго, в среднем часов по шесть, с двумя почти часовыми перерывами. В этих антрактах истинные вагнерианцы расстилают пледы на скамейках парка или на траве и устраивают пикник с принесенной с собой снедью – кровяная колбаса отлично идет под шампанское. Поскольку публика в Байрейт съезжается специфическая, то кое-кто устраивает в антракте и «собачий час»: псов (видимо, не выносящих долгой разлуки с хозяевами) приводят «на свидание» камердинеры. Что же – пример гипертрофированного собаколюбия показал нам и сам Вагнер.
Есть на фестивале и своя «штатная» клака, разражающаяся при случае шквалом возмущенных криков «буу!» и такой оглушительной чечеткой, что всякий раз боишься, не провалится ли дощатый пол. Впрочем, «браво!» тут тоже умеют кричать на разные лады.
После спектакля по домам не разъезжаются, но расходятся по многочисленным «Летучим голландцам», «Лоэнгринам» и «Тангейзерам» окрестностей – за гордыми названиями часто скрываются обыкновенные пиццерии. Вообще, кухня в Байрейте скорее чешская, чем баварская (до Чехии тут рукой подать): кнедлики, пиво и много мяса. А порции – типично баварские, даже в итальянских или французских заведениях: как правило, одного блюда хватает на двоих. Наличие же большого университета обеспечивает изрядное количество хорошеньких официанток…
Можно пойти и в ресторанчик «Вайнштефан» напротив вокзала, где собираются «отпетые» вагнерианцы: тут до четырех утра можно участвовать в бурном обсуждении услышанного (правда, чтобы чувствовать себя «на уровне», вам надо знать несколько сотен имен байрейтских исполнителей за последние двадцать, а лучше – пятьдесят лет) и слушать фестивальные сплетни. Например, что Катарина Вагнер, радикальный режиссер и дочь Вольфганга, наконец-то ушла от своего друга – тенора Хендрика Вотриха, освистанного в роли Зигмунда (опера «Валькирия»). Или он от нее. Или все-таки не ушла…

Девушки-цветы в «Парсифале» радикального режиссера Кристофа Шлингензифа, поставленном в 2004 году, – жрицы неведомых языческих культов
Русский Байрейт и Байрейт в России
«И снова вагнерит в Байрейте», – так охарактеризовал один русский путешественник форс-мажорное состояние городка во время фестиваля. Однако Байрейт прелестен и вне зависимости от «вагнериады»: он спокоен, но не сонен, невелик и непровинциален. Здесь имеется полдюжины отличных музеев (среди них единственный в Европе Музей масонства, находящийся, кстати, в здании действующей ложи), дворец маркграфов и тенистый дворцовый парк. Последний выходит к уже упомянутой вилле Вагнера Ванфрид, в саду которой похоронены композитор, Козима и любимый пес Рус, черный водолаз высоких, как сообщает история, моральных качеств.
Вернемся, однако, к нашим соотечественникам и их «приключениям» на фестивале. Когда-то «франконский Лурд» (так называют еще Байрейт в честь известного французского места явления Богородицы – туда ведь тоже стекается толпа «верующих» и верующих) был местом паломничества и русских поклонников Вагнера. Основатель с его идеей «искусства будущего» сразу же обрел в России общину горячих последователей, и для светских Москвы и Петербурга поездка во Франконию была таким же непременным номером летней программы, как и поездка на воды (часто оба мероприятия совмещались). Скажем, первая московская красавица рубежа XIX—XX столетий, хозяйка знаменитого салона Маргарита Кирилловна Морозова (урожденная Мамонтова), «заказала» жениху эту поездку в качестве свадебного путешествия.
Велик и российский творческий вклад в байрейтский «гезамткунстверк». Павел Жуковский, сын Василия Андреевича, создавал декорации для первых постановок «Парсифаля» и «Кольца», а первой (и, говорят, несравненной) здешней Изольдой, Кундри и Брунгильдой стала Фекла Литвинова, блиставшая под псевдонимом Фелия Литвин…
С созданием Советского государства весь этот поток, конечно, сразу иссяк. Вагнер, как известно, оказался в числе «буржуазных композиторов», что, кстати, в свете его истинных взглядов и устремлений выглядит величайшим парадоксом. Отечественная байрейтская традиция прервалась и восстанавливается лишь постепенно: наша речь еще и сейчас почти не слышна в фестивальной толпе. Пару русских имен можно, правда, обнаружить в списках оркестрантов, а в хоре вот уже одиннадцатый сезон поет московский бас Юрий Вишняков – по местным меркам уже ветеран. Надежду, впрочем, стоит возлагать на молодое поколение певцов: так, в новом «Кольце» сладкоголосую русалку Флосхильду поет Марина Пруденская. Сильный и светлый, настоящий «вагнеровский» голос и отличная техника явно открывают ей перспективу и более крупных партий.
Маловато пока, конечно. Но завистливый взгляд на это ежегодное торжество немецкого национального духа вызывает в авторе этих строк все более настойчивый обратный вопрос-предложение: а почему бы не устроить Байрейт в России? Почему не выстроить где-нибудь в живописной провинции дощатый театр и не съезжаться туда раз в году слушать музыку – нет, не Вагнера, у него уже «все в порядке». Русскую музыку! У нас же есть свой Вагнер – Римский-Корсаков. Его Снегурочка – русская Изольда, «Сказание о невидимом граде Китеже» – это русский «Парсифаль». В качестве места проведения такого фестиваля идеально подошли бы Псков или Тихвин, где, как в Байрейте, сама природа созвучна музыке.
Безумная идея? Но ведь и основание Байрейтского фестиваля было в свое время не меньшим безумием…
Анастасия Рахманова
Гвельфы и гибеллины: тотальная война

В 1480 году миланские архитекторы, строившие Московский Кремль, были озадачены важным политическим вопросом: какой формы нужно делать зубцы стен и башен – прямые или ласточкиным хвостом? Дело в том, что у итальянских сторонников Римского Папы, называвшихся гвельфами, были замки с прямоугольными зубцами, а у противников папы – гибеллинов – ласточкиным хвостом. Поразмыслив, зодчие сочли, что великий князь Московский уж точно не за Папу. И вот наш Кремль повторяет форму зубцов на стенах замков гибеллинов в Италии. Однако борьба этих двух партий определила не только облик кремлевских стен, но и пути развития западной демократии.
В 1194 году у императора Священной Римской империи Генриха VI Гогенштауфена родился сын, будущий Фридрих II. Вскоре после этого кочевавший по Италии двор остановился на некоторое время на юге страны (Сицилийское королевство было объединено с имперскими территориями благодаря браку Генриха и Констанции Отвиль, наследницы норманнских королей). И там государь обратился к аббату Иоахиму Флорскому, известному своей эсхатологической концепцией истории, с вопросом о будущем своего наследника. Ответ оказался уничтожающим: «О, король! Мальчик твой разрушитель и сын погибели. Увы, Господи! Он разорит землю и будет угнетать святых Всевышнего».

Папа Адриан IV коронует в Риме императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссу из рода Гогенштауфенов в 1155 году. Ни тот, ни другой еще не представляют себе, что вскоре итальянский мир расколется на «поклонников» тиары и короны и между ними разразится кровавая борьба
Именно в правление Фридриха II (1220—1250 годы) началось противостояние двух партий, которое в разной мере и разной форме оказало влияние на историю Центральной и Северной Италии вплоть до XV века. Речь идет о гвельфах и гибеллинах. Эта борьба началась во Флоренции и, говоря формально, всегда оставалась чисто флорентийским явлением. Однако на протяжении десятилетий, изгоняя побежденных противников из города, флорентийцы сделали соучастниками своих распрей чуть ли не весь Апеннинский полуостров и даже соседние страны, прежде всего Францию и Германию .
В 1216 году на одной богатой свадьбе в селении Кампи под Флоренцией завязалась пьяная драка. В ход пошли кинжалы, и, как повествует хронист, молодой патриций Буондельмонте деи Буондельмонти убил некоего Оддо Арриги. Опасаясь мести, родовитый юноша (а Буондельмонте был представителем одного из знатнейших родов Тосканы) пообещал жениться на родственнице Арриги из купеческого рода Амидеи. Неизвестно: то ли боязнь мезальянса, то ли интриги, а может быть, подлинная любовь к другой, но что-то заставило жениха нарушить обещание и выбрать себе в жены девушку из дворянского рода Донати. Пасхальным утром Буондельмонте на белом коне направился к дому невесты, чтобы дать брачную клятву. Но на главном мосту Флоренции, Понте Веккьо, на него напали оскорбленные Арриги и убили. «Тогда, – сообщает хронист, – началось разрушение Флоренции и появились новые слова: партия гвельфов и партия гибеллинов». Гвельфы требовали мести за убийство Буондельмонте, а те, кто стремился затушевать это дело, стали именоваться гибеллинами. Не верить хронисту в рассказе о несчастной судьбе Буондельмонте нет причин. Однако его версия о происхождении двух политических партий Италии, оказавших огромное влияние на историю не только этой страны, но и всей новой европейской цивилизации, вызывает справедливые сомнения – мышь не может родить гору.
Группировки гвельфов и гибеллинов действительно образовались в XIII веке, но их истоком были не будничные «разборки» флорентийских кланов, а глобальные процессы европейской истории.

Так называемый Замок императора (одно время он принадлежал Фридриху II Гогенштауфену) в Прато служил штабквартирой местным гибеллинам
В то время Священная Римская империя германской нации простиралась от Балтийского моря на севере до Тосканы на юге и от Бургундии на западе до Чехии на востоке. На таком большом пространстве императорам было крайне сложно поддерживать порядок, особенно в Северной Италии, отделенной горами. Именно из-за Альп в Италию пришли названия партий, о которых мы ведем речь. Немецкое «Вельфы» (Welf) итальянцы произносили как «Гвельфы» (Guelfi); в свою очередь «Гибеллины» (Ghibellini) – искаженное немецкое Waiblingen. В Германии так именовались две соперничающие династии – Вельфы, которым принадлежали Саксония и Бавария, и Гогенштауфены, выходцы из Швабии (их именовали «Вайблингами», по названию одного из родовых замков). Но в Италии значение этих терминов было расширено. Североитальянские города оказались между молотом и наковальней – их независимости угрожали как германские императоры, так и Римские Папы. В свою очередь, Рим находился в состоянии непрерывного конфликта с Гогенштауфенами, стремящимися захватить всю Италию.
К XIII веку, при Папе Иннокентии III (1198—1216), наступил окончательный раскол между церковью и светской властью. Своими корнями он уходит в конец XI века, когда по инициативе Григория VII (1073– 1085) началась борьба за инвеституру – право назначения епископов. Раньше им обладали императоры Священной Римской империи, но теперь Святой престол хотел сделать инвеституру своей привилегией, рассчитывая, что это будет важным шагом на пути распространения папского влияния на Европу. Правда, после череды войн и взаимных проклятий никому из участников конфликта не удалось достичь полной победы – было решено, что избранные капитулами прелаты будут получать духовную инвеституру от Папы, а светскую – от императора. Последователь Григория VII – Иннокентий III достиг такой власти, что мог свободно вмешиваться во внутренние дела европейских государств, а многие монархи считали себя вассалами Святого престола. Католическая церковь окрепла, обрела самостоятельность и получила в свое распоряжение большие материальные средства. Она превратилась в закрытую иерархию, ревностно отстаивавшую на протяжении последующих столетий свои привилегии и свою неприкосновенность. Церковные реформаторы считали, что пора переосмыслить характерное для раннего Средневековья единство светской и духовной властей (regnum и sacerdotium) в пользу верховной власти Церкви. Конфликт между клиром и миром был неизбежен.
Городам нужно было выбирать, кого взять себе в союзники. Тех, кто поддерживал Папу, назвали гвельфами (ведь династия Вельфов враждовала с Гогенштауфенами), соответственно, тех, кто был против папского престола, – гибеллинами, союзниками династии Гогенштауфенов. Утрируя, можно сказать, что в городах за гвельфов был пополо (народ), а за гибеллинов – аристократия. Взаимное соотношение этих сил определяло городскую политику.

Оттон IV, император из рода Вельфов
Корона против тиары
Слова «гвельф» и «гибеллин», хотя и были «изобретены» на самом раннем этапе великого конфликта, особой популярностью в Средневековье не пользовались. Конфликтующие стороны в итальянских городах предпочитали называть себя просто «партией императора» и «партией Папы». Это было практично: латинизированная немецкая терминология не успевала за политической конъюнктурой. А какое-то время до начала XIII века положение, вообще, было обратным тому, что вошло в историю: Вельфы считались врагами Рима, а Гогенштауфены – его союзниками. Ситуация заключалась в следующем. В 1197 году германским императором был избран Оттон IV (1182—1218) Вельф. Как это обычно и случалось в ту эпоху, далеко не все поддерживали эту кандидатуру. Противники Оттона выбрали себе другого монарха из Дома Гогенштауфенов – Филиппа Швабского (1178—1218). Начались усобицы, разорявшие всех, но выгодные третьей силе, Папе Иннокентию III (1161—1216). Сперва Иннокентий поддержал Оттона. Это был стратегически верный ход. Дело в том, что понтифик являлся опекуном несовершеннолетнего Фридриха Гогенштауфена (1194—1250), будущего блистательного Фридриха II, который занимал тогда трон короля Сицилии. В этой ситуации Папа старался не допустить на германский престол Гогенштауфенов, потому что в этом случае юг Италии мог бы стать частью Империи. Однако, если бы удача улыбнулась Гогенштауфенам, Иннокентий, как регент Фридриха, мог бы влиять на их политику. Однако в 1210 году Оттон сам отступил от союза с Папой, решив прибрать к рукам всю Италию. В ответ год спустя наместник святого Петра отлучил предателя от церкви. Он также сделал все, чтобы совет немецких князей в Нюрнберге избрал теперь германским королем опекаемого им 17-летнего Фридриха. Именно с этого момента понтифик сделался врагом Вельфов и союзником Гогенштауфенов. Но и Фридрих II тоже не оправдал надежд покровителя! Папа умер в 1216 году, так и не получив во владение обещанных земель и не дождавшись начала крестового похода, на который так рассчитывал. Напротив, новый властитель Германии начинает действовать, открыто игнорируя интересы Рима. Теперь-то гвельфы становятся «настоящими» гвельфами, а гибеллины – гибеллинами. Впрочем, процесс окончательного размежевания растянулся еще на 11 лет (до 1227 года), то есть до тех пор, пока новый Папа Григорий IX (1145—1241) не отлучил Фридриха от церкви за самовольное возвращение из Святой земли (куда тот все-таки в конце концов отправился).
Павел Котов
Итак, фигуры на доске геополитики расставлены – император, Папа, города. Нам кажется, что их тройственная вражда была следствием не только человеческой алчности.
Участие городов – вот что было принципиально новым в противостоянии Пап и германских императоров. Горожанин Италии почувствовал вакуум власти и не преминул им воспользоваться: одновременно с религиозной реформой началось движение за самоуправление, которому предстояло за два века полностью изменить соотношение сил не только в Италии, но и во всей Европе. Оно началось именно на Апеннинском полуострове, поскольку здесь городская цивилизация имела крепкие античные корни и богатые традиции торговли с опорой на собственные финансовые ресурсы. Старые римские центры, пострадавшие от рук варваров, успешно возрождались, в Италии горожан было намного больше, чем в других странах Запада.
Городскую цивилизацию и ее характерные особенности в нескольких словах никто не опишет нам лучше, чем вдумчивый современник, германский историк середины XII века Оттон Фрейзингенский: «Латиняне (жители Италии), – пишет он, – по сей день подражают мудрости древних римлян в расположении городов и управлении государством. Они настолько любят свободу, что предпочитают подчиняться скорее консулам, чем синьорам, чтобы избегнуть злоупотреблений властей. А чтобы они не злоупотребляли властью, их сменяют почти каждый год. Город заставляет всех живущих на территории диоцеза подчиняться себе, и с трудом можно найти синьора или знатного человека, который не подчинился бы власти города. Город не стыдится посвящать в рыцари и допускать к управлению юношей самого низкого происхождения, даже ремесленников. Поэтому итальянские города превосходят все прочие по богатству и могуществу. Этому способствует не только разумность их учреждений, но и длительное отсутствие государей, которые обычно остаются по ту сторону Альп».
Экономическая сила итальянских городов оказалась едва ли не решающей в борьбе Империи и Папства. Город вовсе не противопоставлял себя традиционному феодальному миру. Напротив, он не мыслил себя вне его. Еще до того, как коммуна, этот новый способ политического самоуправления, окончательно кристаллизовалась, городская элита поняла, что пользование свободами должно быть признано императором или Папой, лучше – и тем, и другим. Ими же эти свободы должны были охраняться. К середине XII века в понятии свободы сконцентрировались все ценности городской цивилизации Италии. Государь, который посягал на нее, превращался из защитника в поработителя и тирана. В результате горожане переходили на сторону его противника и продолжали непрекращающуюся войну.

Данте Алигьери: поэзия как политика
Первая половина жизни Данте прошла во Флоренции во время бурных событий последних десятилетий XIII века, когда чаша весов склонилась здесь в пользу гвельфов. Великий поэт активно участвовал в общественной жизни родного города, сначала в качестве советника, а с 1300 года – приора. К этому времени светская власть Папы в Тоскане стала ощущаться довольно сильно, а внутри партии гвельфов произошел раскол. Вокруг Корсо Донати объединились фундаменталисты («Черные») – твердые сторонники Папы и французских королей, а вокруг Вьери деи Черки – «Белые», умеренные, склонные к компромиссам с гибеллинами. Апогея конфликт достиг при Бонифации VIII (1295—1303). Согласно его булле «Unam sanctam» от 1302 года, все верующие должны подчиняться понтифику во всех духовных и мирских делах. Этот Папа боялся политического сопротивления строптивых Белых гвельфов (в частности, они готовились приютить у себя его злейших врагов, римское семейство Колонна), и к тому же он задумал включить всю Тоскану в Папскую область. Для наведения мостов «в этом направлении» Бонифаций VIII направил банкира Вьери, контролировавшего более половины флорентийских финансов, но Данте и его товарищи раскусили план понтифика и не приняли посредника. Более того, Белые гвельфы решили «сыграть на опережение» и сами отправили делегацию в Рим (в нее вошел и автор «Божественной комедии»), чтобы обезопасить себя – ведь пойти на открытую конфронтацию с Римом не представлялось мыслимым. А тем временем… оставшиеся во Флоренции приоры впустили в город Карла Валуа, брата французского короля Филиппа Красивого. Присутствие принца крови в городе, настроенном к французам, в общем, доброжелательно, лишило правительство маневра, а Черные гвельфы взялись за оружие и изгнали Белых. Последовали проскрипции, а Алигьери никогда больше не вернулся на родину. Ему вынесли два заочных смертных приговора и лишь через пятнадцать лет заочно амнистировали. В изгнании Белые гвельфы часто объединялись с гибеллинами. Эта политика была удачной формой умеренного гвельфизма, которая вполне устраивала Пап вроде Григория Х (1271—1276) или Николая III (1277– 1280). Но что касается Бонифация VIII, то этот понтифик вызывал у Данте только ненависть. Да и другие гвельфы стыдились личности того, чьи интересы они должны были защищать. Сначала Данте был рупором изгнанников. Однако вскоре он переменил свою точку зрения: поэт уверился в том, что спасти Италию от междоусобиц способна только твердая рука германского монарха. Теперь он возлагал надежды на Генриха VII из династии Люксембургов (1275—1313). В 1310 году король отправился в Италию, чтобы приструнить города и оказать давление на противников. Кое-что ему удалось: он получил императорскую корону. Но после этого Генрих повел себя так же, как и его предшественники, увязнув в бесконечной шахматной партии. Города тоже не знали, как себя вести, их лидеры метались. В 1313 году император скоропостижно скончался в Тоскане. С этого момента Данте решил, что лучше быть «самому себе клевретом» (по-итальянски более точно: «быть самому себе партией»). Он одновременно и лукавил, и был вполне искренен. «Божественная комедия» завершается апофеозом Империи и Любви в райской Розе: мироздание было для него немыслимо без монархии, объединяющей любовью мир людей. Но последний законный, с точки зрения Данте, император Фридрих II (1194—1250) казнится в аду среди еретиков, вместе со своими придворными: казначеем Петром Винейским, осужденным на муки за самоубийство, и астрологом Михаилом Скоттом – за волхвование. Это тем более удивительно, что широтой своих взглядов этот император вызывал у флорентийского поэта глубокую симпатию. Но таков был Данте: когда он чувствовал, что должен карать, он переступал через свои личные чувства. Точно так же его по-настоящему возмутила выходка кардинала Джакомо Колонна, который, согласно народной молве, дал пощечину захваченному в плен Папе Бонифацию VIII. Он ненавидел лично Бонифация, но как истинный католик почитал Папу Римского и не мог представить себе, что можно коснуться его, совершить физическое насилие над понтификом. Точно так же Данте уважал императора Фридриха, но не мог не отправить в ад того, кому молва приписывала еретические высказывания (неверие в бессмертие души и учение о вечности мира). Парадокс Данте – парадокс Средневековья.








