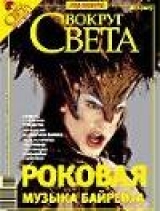
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
«Всем известно, что из непоседливых детей вырастают исследователи, авантюристы, путешественники и создатели компаний, – говорит психолог Маргарита Жамкочьян. – И это не просто частое совпадение. Есть довольно обширные наблюдения: дети, которые в младшей школе изводили учителей своей гиперактивностью, став постарше, уже увлекаются чем-нибудь конкретным – и годам к пятнадцати становятся в этом деле настоящими доками. У них появляются и внимание, и сосредоточенность, и усидчивость. Такой ребенок может все остальное учить без особой прилежности, а предмет своего увлечения – досконально. Поэтому, когда утверждают, что синдром гиперактивности к старшему школьному возрасту обычно исчезает – это не соответствует действительности. Он не компенсируется, а выливается в какой-нибудь талант, в уникальное умение. А вот купируя с детства эту гиперактивность лекарствами, можно лишить ребенка его козырей в будущей взрослой жизни, лишить стержня, вокруг которого эту жизнь можно строить».
Сказкой и лаской
А в самом деле, что можно сделать с такими детьми? Независимо от того, считать ли гиперактивность болезнью или личной особенностью, она безусловно создает немало проблем и самому ребенку, и его одноклассникам, и педагогам, и уж, конечно, родителям. И надежда на то, что к подростковому возрасту она пройдет сама собой или даже выльется в какой-нибудь неожиданный дар, – слабое утешение. Наконец, бывают дети, у которых повышенная двигательная активность проявляется вне всякой связи со школой или детским садом и действительно походит на патологию. Например, двухлетний малыш непрерывно бегает или кувыркается через голову и не может остановиться. Он агрессивен, раздражителен, не может заснуть. Как ему помочь? Оказывается, и в этих случаях не обязательно пичкать ребенка препаратами. Исходя из концепции Пиаже, психологи советуют приобрести «домашний стадион» – тренажерный комплекс, включающий шведскую стенку, канат, кольца, горку. Все расположено рядом, чтобы можно было перебираться с одного снаряда на другой. Вроде бы те же движения, но не бессмысленные: они требуют внимания, собранности, самоконтроля, развивают глазомер, координацию, умение сопоставлять данные разных органов чувств. Как показывает опыт, уже через две недели у ребенка нормализуется сон, он перестает кувыркаться, как заводной, и вообще начинает походить на нормального сверстника. Его неуемная энергия превращается из препятствия развитию личности в средство такого развития.

В работе почти любой структуры мозга можно при желании обнаружить более или менее выраженную связь с гиперактивностью
«Синдром дефицита внимания» (с гиперактивностью или без оной) успешно корректируется тренировками с так называемой «биологической обратной связью». Уж что-что, а сосредоточенность или утрата внимания видны на электроэнцефалограмме, причем настолько четко, что нетрудно научить компьютер различать эти состояния. Дальше все просто: невнимательному ребенку надевают на голову шапочку с электродами и ставят на экране мультфильм, который при отвлечении зрителя будет терять резкость изображения. И ребенок быстро обучается управлять своим вниманием – улучшения могут быть выражены сильнее или слабее, но детей, на которых этот метод вовсе не действует, практически нет. Есть и другие способы помочь гиперактивному ребенку, не мешая естественному развитию его личности. Например, во многих случаях очень неплохим средством коррекции оказывается тесный контакт со взрослым. Если ребенок сделал что-то, заслуживающее похвалы, его надо не только подбодрить словами, но и погладить по головке, похлопать по плечу, ободряюще прикоснуться к руке. Бывает, впрочем, что и своевременный шлепок прекращает приступ бессмысленного движения, но этот метод следует применять только в самых крайних случаях.
К сожалению, ни один из этих методов не решает более глубокую проблему, на которую указывает феномен гиперактивных детей: противоречие между детской индивидуальностью и стандартностью учебного процесса. Для разных детей должны существовать разные способы обучения – и каждого ребенка надо вести к знаниям таким путем, который именно для него окажется наиболее естественным и эффективным. Но для этого нужно воспринимать ребенка как самостоятельно развивающуюся индивидуальность, к чему наша культура пока еще не готова.
Борис Жуков
Суд над отроком

«Секс-идол России на все времена, он изнывал от тоски безразличия… его женщины его любили, а он их не любил…» Как вы думаете, о ком это написано? Нет, это не про актера и не про стриптизера. Эти слова, опубликованные год назад, – о Сергее Есенине. Принадлежат они редактору одного из литературных альманахов – и ничего тут не добавишь… Поэту и при жизни, и после смерти везло на такого рода респондентов. В их доморощенных головах рождались разные отзывы о нем, о его лире-душе, которая каким-то непостижимым образом расцветала в беспробудном пьянстве, разгульном образе жизни и в психиатрических больницах. Как ничтожна толпа в своем понимании Гения. Какую благую почву подготовила она для того, чтобы преступление века стало самоубийством.

Александр Никитич и Татьяна Федоровна Есенины с дочерью Шурой
Константиново – истоки многозвучного, яркого, самобытного есенинского мира. Светлое, зеленое, привольное село на рязанской земле. Церковь на холме, часовня, родник. Барский дом с огромным, красивым садом и ряды опрятных крестьянских домов, среди них и два дома дедов поэта – Никиты Осиповича Есенина (по отцу) и Федора Андреевича Титова (по матери), людей уважаемых и трезвых. Последнего, как вспоминала Катя, сестра Есенина, знала вся округа: «умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка наш умел нравиться людям…В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени… В благодарность Богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца под праздники в часовне всегда горела лампада. После расчета с Богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.
«Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! Нечего деньгу копить, умрем – все останется…» В доме этого деда, Федора Андреевича, сыграли свадьбу родители Есенина – Татьяна Федоровна и Александр Никитич. В этом же доме жил Сергей ребенком, когда у отца с матерью был большой разлад, и та перед отъездом в город принесла двухгодовалого, беспокойного и очень слабенького сына в родительский дом. Здесь его выходили, полюбили, особенно бабушка Наталья Евтихиевна, которая была «на все руки»: холсты ткала, пироги с брусникой пекла, дом содержала в чистоте и красоте. А сколько сказок она знала – не переслушать. «Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос…» – вспоминал Есенин о своих чудесных, в любви и ласке прожитых, пяти годах жизни – с трех до восьми, таких важных в жизни каждого. Сколько тепла и красоты пришло вместе с тем временем к Сергею: «…Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну…» И сколько образов константиновской природы принесет поэт в свои чистые стихи… («Гей вы, рабы, рабы!// Брюхом к земле прилипли вы. // Нынче луну с воды // Лошади выпили». «Небесный барабанщик», 1918 год).
В земской четырехлетке добрую опеку над Сергеем поделил с его дедом сельский священник Иван Яковлевич Попов. Вдовец, растивший дочь и еще нескольких приемных детей, он отвадил его, уже подросшего и шаловливого, от улицы и первым приметил необычность ученика. В доме отца Ивана в 1907—1908 годах «тихий отрок, чувствующий кротко» читал свои первые стихи успешному столичному студенту Николаю Сардановскому, родственнику сельского священника. Стихи, вспоминал Николай, были о сельской природе…

Сергей Есенин с сестрами Катей (слева) и Шурой. 1912 год
Четырехлетку Есенин окончил в 1909 году с отличием и по ходатайству отца Ивана был отправлен в церковно-учительскую школу в Спас-Клепики, где началась почти взрослая жизнь, далекая от дома, неприветливая, с общей спальней на сорок коек, с драками среди однокашников. И здесь, когда Сергей не знал, куда преклонить голову, рядом вновь появляется родной по духу человек – Гриша Панфилов, который тоже учился в этой школе, но жил дома, с родителями, в Спас-Клепиках. Они сошлись быстро и общались так, будто давно друг друга знали: о стихах, о литературе, о Льве Толстом, о том, что надо бы съездить в Ясную Поляну и почтить его память, обо всех своих переживаниях и первых увлечениях. Сергей часто бывал дома у Гриши и прикипел к нему всей душой. Когда же в 1914 году друг умер от чахотки – земля ушла из-под Сергея. Гриша, Гриша… Как поддержал он драгоценного однокашника, уехавшего в Москву . Сколько добрых писем отправил, чтоб не было тому одиноко. Это ему, Грише Панфилову, писал Сергей: «Москва – это бездушный город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей частью бегут от нее...»
Но постепенно семнадцатилетний Есенин начал привыкать к столице. Экспедитор в книготорговом товариществе «Культура», суриковец (участник Суриковского литературно-музыкального кружка, при котором «открывались» таланты), подчитчик, потом и корректор, в типографии Сытина, слушатель историко-философского курса в Университете Шанявского и, наконец, молодой отец. В декабре 1914 года у него родился сын Юра.
Первая гражданская супруга Есенина, Анна Изряднова, работала вместе с поэтом в типографии Сытина и прожила с ним совместно совсем немного. Но это никак не помешало ей сохранять отношения с Есениным. Двери ее дома были открыты для него всегда. Анна Романовна оставила интересный словесный портрет совсем молодого поэта: «Он только что (в 1913 году. – Прим. ред.) приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив…» Надо сказать, что воспоминания о Сергее Александровиче оставили практически все спутницы его жизни. (Исчезли только дневники Зинаиды Райх, первой официальной жены.) И все они были на редкость очаровательными, умными, талантливыми, сыгравшими свои роли в его личной и творческой судьбе. Так что говорить о том, что Есенина женщины любили, а он не любил, как-то неестественно и странно. Возможно, в его истории любви нет такого испепеляющего чувства, как, например, у Александра Блока, и посвящений своим избранницам он практически не делал, разве что Августе Миклашевской. Но проникновенному читателю не нужно отыскивать чувства в его стихах, без чувств стихов не бывает.

Сестра Есенина Александра с его сыном Юрой Изрядновым
То, что Есенин никого не любил – это один из многих стереотипов, созданных о нем еще современниками. Известны такие высказывания, что у поэта было три любви: к России, стихам и славе. Да, и это объяснимо, ведь большие чувства возникают, «когда душу вылюбишь до дна»…
О большой субъективности современников в оценках Есенина свидетельствуют и составленные ими есенинские портреты. Зинаида Гиппиус увидела его таким: «Ему 18 лет. Крепкий, среднего роста. Сидит за стаканом чая немного по-мужицки, сутулясь; лицо обыкновенное, скорее приятное; низколобый, нос «пилочкой», а монгольские глаза чуть косят…» Литературный вождь пролетариата М. Горький рассмотрел в Есенине другое: «Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге. Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах…»
А вот воспоминание Г. Иванова: «… На эстраду выходит Есенин в розовой шелковой косоворотке, на золотом пояске болтается гребешок. Щеки подрумянены. В руках букет бумажных васильков. Выходит он подбоченясь, как-то «по-молодецки» раскачиваясь. Улыбка ухарская, но смущенная». Все эти отзывы относятся примерно к одному периоду – появлению Сергея Александровича в Петербурге весной 1915 года, куда он поехал искать встречи с Блоком, о которой давно мечтал. Он надеялся, что большой поэт как-то подсоберет его, подскажет, что делать дальше. Ведь Есенина уже печатают все тонкие московские журналы, не привечают пока лишь толстые, да и «Радуница» – первый сборник стихов – практически готова.
«Днем у меня рязанский парень со стихами. Крестьянин Рязанской губ. 19 лет. Стихи свежие, чистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 года», – отметит в своем дневнике Блок, который, вежливо встретив его, отправил к С. Городецкому и М. Мурашеву. Последний работал в самой популярной по тем временам газете «Биржевые ведомости».

Сергей Есенин. Петроград, 1916 год
Приезд «златокудрого отрока» в Петербург оказался очень своевременным – его так недоставало крестьянским поэтам Н. Клюеву и А. Ширяевцу, которые были хорошо востребованы на общем фоне возникшего тогда интереса к народничеству. «Поэт-юноша вошел в литературу как равный великим художникам слова», – замечал Клюев, накрепко привязавшийся к рязанскому самородку и «подаривший» ему «свой фальшиво-народный стиль в повадках и разговоре», подчеркивали очевидцы. Стоит представить себе их реакцию на такого необычного, юного, а главное, бесспорно, талантливого рязанского парня посреди литературных салонов и кафе бурлящей поэтами северной столицы. Практически все не преминули отметить театральность Есенина. Зол был и сам Маяковский: «В первый раз я встретил его в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи, и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы». Вот так! Вообще театральность, применительно к Сергею Александровичу, как черту характера поймут только те, кто хорошо знал его и знает сейчас, по прошествии восьмидесяти двух лет после гибели. Знает, то есть принимает, понимает, читает, слышит, чувствует, любит. Кто может представить, пусть не слишком явственно, счастье творца, овладевшего словом. В его театральности – и открытость, и удаль, и желание удивить весь мир тайной прекрасной сути, которая вдруг начала ему открываться. А лапти и лакированные ботинки, косоворотки и цилиндры с тростями – это внешний антураж, под которым скрывались невероятная работоспособность и постоянное желание постигать и познавать.
«Читал он очень много всего… Дочитается до рассвета и не спавши поедет учиться опять. Такая у него жадность была к учению, и знать все хотел…» – вспоминала Татьяна Федоровна, мать поэта, о его первых университетах. «Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы…» – писала Анна Изряднова. «Когда этот «скандалист» работал – трудно было себе представить, но он работал в то время крепко», – говорил Н. Полетаев, имея в виду 1921 год.
Вернемся в первый питерский период поэта, который так богат на события, и не только литературные. Весной 1916 года Есенин был призван на военную службу – с Высочайшего соизволения назначен санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143, жил в Царском Селе , недалеко от Иванова-Разумника, был представлен ко двору, где его стихи слушали, «затаив дыхание, боясь пропустить слово». Императрице стихи очень понравились, она даже высказала соизволение посвятить следующий сборник ей. Конечно, это безмерно льстило молодому поэту. Но когда «свободомыслящие» коллеги по цеху узнали о том, что на сборнике «Голубень» появится посвящение императрице, Есенина приперли к стене за «гнусный поступок». Он едва успел убрать из набора «Благоговейно посвящаю…» Хотя несколько корректурных оттисков все же просочились в руки библиофилов.
Здесь же, в Царском Селе, Сергей Александрович познакомился с Распутиным, полежал в больнице, где ему вырезали аппендицит, здесь пережил еще одну мобилизацию – уже в советскую пору – на борьбу с белыми. С перепугу, как писал А. Мариенгоф, поэт побежал к комиссару цирков – Н. Рукавишниковой, так как циркачи были освобождены от чести защищать республику. Та предложила ему выезжать верхом на арену и читать какие-то стихи, соответствующие духу времени, сопровождающие пантомиму. Но во время одного из выступлений до того спокойная лошадь вдруг так тряхнула головой, что Есенин от неожиданности «вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на земле», сказав потом, что он лучше сложит голову в честном бою.
Анатолий Мариенгоф – еще одна жизненная веха Есенина. На первый взгляд были друзья не разлей вода. Но как все не просто обернулось, и многим позднее написанный Мариенгофом «Роман без вранья» стал еще одной порцией в вареве «воспоминаний о поэте».

Зинаида Райх с детьми Костей и Таней
Ну а пока 1917 год – и встреча с Зиной Райх, которую, по словам все того же Мариенгофа, щедрая природа одарила чувственными губами на «круглом, как тарелка» лице, «задом величиной с громадный ресторанный поднос...» – чего в Анатолии было больше, злости или провокации, теперь уже неизвестно. Отношения Сергея с Зиной завязались в поездке на Север, через Вологду, куда всех пригласил общий друг Алексей Ганин. И вскоре в Орел, на родину Райх, полетела телеграмма – выхожу замуж. Все случилось быстро, им было 22 и 23 года. Они обвенчались в одной из церквей на Соловках. Об этом союзе Анатолий Мариенгоф писал: он ее «ненавидел больше всех в жизни, ее – единственную – он и любил…» Любовь Зины и Сергея, по-своему, по-женски, засвидетельствовала еще одна преданная подруга поэта Галина Бениславская: Зинаида Николаевна «ей-богу, внешне «не лучше жабы»… И в нее так влюбиться, что не видит революции?! Надо же!»
Тогда, когда Галина Бениславская записала эти слова в дневнике, еще никто из окружения поэта и предположить не мог, каким эхом отзовется в его судьбе «невидение революции», которая разделит его жизнь (как и жизнь многих, но в данном случае мы говорим о Есенине) на «до» и «после». И вот то, что было «после», постепенно станет приближать его к трагедии 1925 года.
Сразу после октябрьского переворота Есенин оказался не в партии, вспоминал Г. Иванов, но в непосредственной близости к «советским верхам», ведь представить его у Деникина, Колчака или в эмиграции «психологически невозможно». «От происхождения до душевного склада – все располагало его отвернуться от «Керенской России» и не за страх, а за совесть поддержать «рабоче-крестьянскую». Сам Сергей Александрович в автобиографии 1922 года написал, что в РКП никогда не состоял, потому что чувствовал себя гораздо «левее». И, наконец, известная оценка Л. Троцкого: «Нет, поэт не был чужд революции, – он был несроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен, – революция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой».
Непосредственная близость к «советским верхам» – что это означало в действительности, понять по отзывам нелегко. Суть взаимоотношений поэта с новым миром и новой властью можно отыскать только в его собственных признаниях и, конечно же, в стихах. Но искать – осторожно, не размахивая строчками, вырванными из контекста «Иорданской голубицы»: «Небо – как колокол, // Месяц – язык, // Мать моя – родина, // Я – большевик». Ведь есть и другие мысли: «Злой октябрь осыпает перстни // с коричневых рук берез». Можно ли судить по одному слову из целой фразы? И можно ли все свидетельства очевидцев принимать на веру или, напротив, истолковывать, как удобно? Например, такой эпизод: весной 1918 года на именинах у Алексея Толстого Сергей Александрович, вернувшийся из Питера, ухаживал за некой поэтессой и вдруг простодушно предложил ей: «А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». Блюмкин сидел за этим же столом. Что это было? По мнению В. Ходасевича, Есенин таким образом «щегольнул». Скорее всего, так. Но есть и другие точки зрения.
Или же другая история – про внешнее щегольство – с цилиндрами. Кто только не щипал за них Есенина, упрекая, что тот на Пушкина замахнулся. А ведь цилиндр пришел к поэту сам.
«…В Петербурге шел дождь. Мой пробор блестел, как крышка рояля, – вспоминал Мариенгоф. – Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени. Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам без ордера шляпу. В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:
– Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.
Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку. А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, ирисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал: «Документы!»

Слева направо – А. Мариенгоф, С. Есенин, А. Кусиков, В. Шершеневич. Москва, 1920 год
Удивительно, но к 1919 году, времени тотального «переустройства мира» и чудовищного красного террора, у поэта уже было четыре книги: «Радуница» (1916), «Голубень» (1916), «Преображение» (1918) и «Сельский часослов» (1918). При этом нужно учесть, в каких условиях он работал. Н. Полетаев вспоминает, как жил Есенин (в 1918 году) в Пролеткульте, вместе с поэтом Клычковым. Ютились они в ванной комнате купцов Морозовых. Один спал на кровати, а другой в шкафу. А товарищ Есенина Л. Повицкий рассказывал о том, как частенько голодал поэт и как однажды он с Клычковым пришел к нему в гости, и, пока Повицкий пытался собрать на стол, гости махом проглотили большой кусок сливочного масла. Хозяин удивился: как же они смогли съесть его без хлеба? – «Ничего – вкусно!» – ответили гости.
А между тем, по словам В. Маяковского, была одна «новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой оптимистический путь», – таких толкований было много. А если к этому прибавить: умело спровоцированные зрителями скандалы Есенина в «Стойле Пегаса», его непосредственное участие в разработке и огласке программы имажинистов, которые, по словам А. Луначарского, злостно надругались над современной Россией, отважную переписку Сергея Александровича с Луначарским, коллективные просьбы имажинистов выпустить их из России, заходы Есенина и Мариенгофа на «Зойкину квартиру» – в так называемый «салон» Зои Шатовой, задержание и привозы Есенина на Лубянку, – то портрет «хулигана» Есенина начинает приобретать отчетливые, выпуклые черты. И попробуйте объяснить публике, что поэта под общий шаблон загнать невозможно. Что же касается имажинизма, то сам поэт говорил на этот счет Ивану Розанову следующее: «Слово о полку Игореве» – вот откуда, может быть, начало моего имажинизма». Да и можно ли «поместить» Есенина в какое-либо художественное направление, литературную школу? Его поэзия – вне школ.
Многое происходящее тогда в «Стойле Пегаса» можно объяснить эпатажным состоянием, желанием «зажечь» публику. Что-то – озорством. Иначе как отнестись, например, к эпизоду, когда Есенин отправился просить для имажинистов бумагу, находившуюся на строжайшем учете, к дежурному члену президиума Московского Совета. Для визита он надел длиннополую поддевку, причесал волосы на крестьянский манер и, стоя перед ответственным лицом без шапки, кланяясь, специально окая, просил «ради Христа» сделать «божескую милость» и дать ему бумаги «для крестьянских стихов». Белокурому Лелю, конечно, не отказали.
Но было в этом «имажинистском» периоде и много другого, отнюдь не для забавы. «…Слышите ль? Слышите звонкий стук? // Это грабли зари по пущам.// Веслами отрубленных рук // Вы гребетесь в страну грядущего», – читал поэт со сцены кафе. (Потом, как известно, появится и «страна грядущего» – незаконченная пьеса «Страна негодяев».) Далее, из той же поэмы «Кобыльи корабли»: «О, кого же, кого же петь // В этом бешеном зареве трупов?»
Такие строки становились нужной информацией для тех, кто под видом любителей поэзии приходил в кафе, но главные события «антисоветской» жизни Есенина еще впереди.
А пока – 1921 год. Встреча с Айседорой Дункан. Их роман, начиная со знакомства, – сплошь лавстори со всеми подобающими комментариями. «По окончании танца он вскочил с места и на огромном зеркале, идущем во всю стену, острым камешком своего кольца начертил два четких слова: «Люблю Дункан»… Мировая знаменитость, избалованная непрестанными успехами, очевидно, первый раз в жизни столкнулась с подобным выражением восторга», – записал со слов очевидцев Вс. Рождественский. А вот другой рассказ – будто Дункан, быстро заприметившая голубоглазого парня, обратилась с вопросом к «декадентскому батьке» С. Полякову: Кто этот юноша с таким порочным лицом? И их немедленно познакомили.
Роман закружился быстро. Публика перебирала разные версии такого союза: позарился на благополучие, захотелось большей славы, знаменитой персоны в своей биографии и т. д. Надежда Вольпин, еще одна гражданская супруга поэта, родившая ему сына Александра, судила об их взаимоотношениях иначе. Она поверила в искреннюю страстную любовь Айседоры и в сильное влечение Есенина. И конечно, как полагается женщине, не обошлась без эмоций: «Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу». И пусть так. Айседора появилась вовремя. Поэт пребывал не в лучшем расположении духа, он устал от прежних друзей, от окололитературных перипетий, от той правды жизни, которая приходила к нему с каждым новым днем, замыкался в себе и сам откровенно признавался: «…Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным». В этом же 1921 году Есенин закончил драматическую поэму «Пугачев»:
«…Нет, это не август, когда осыпаются овсы, // Когда ветер по полям их колотит дубинкой грубой.// Мертвые, мертвые, посмотрите, кругом мертвецы, // Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы»…
Заморская жар-птица подхватила поэта и понесла над морями и океанами. Берлин , Париж , Нью-Йорк и вновь – Европа. И на «том берегу» к нему пришла еще одна правда: «… на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами… С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки», – писал он из Нью-Йорка А. Мариенгофу.
Полковник МВД, Эдуард Александрович Хлысталов, много лет проработавший следователем на Петровке, 38, занимался вопросом о гибели Сергея Есенина. Вот лишь несколько выводов из его частного расследования: «...В заключении о причинах гибели Есенина судмедэксперт Гиляревский написал: «На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфикции, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавливание на лбу могло произойти от давления при повешении. Темно-фиолетовый цвет нижних конечностей, точечные на них кровоподтеки указывают на то, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время. Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным и, как поверхностные, влияния на смерть не имели»… Сомнение в подлинности акта вызвано следующим. 1) Акт написан на простом листе бумаги без каких-либо реквизитов, подтверждающих принадлежность документа к медицинскому учреждению. Он не имеет регистрационного номера, углового штампа, гербовой печати, подписи заведующего отделением больницы или бюро экспертиз.
2) Акт написан от руки, торопливо, со смазанными, не успевшими просохнуть чернилами. Столь важный документ… судмедэксперт обязан был составить в двух и более экземплярах. Подлинник обычно отправляется дознавателю, а копия должна остаться в делах больницы.
3) Эксперт обязан был осмотреть труп, указать на наличие телесных повреждений и установить их причинную связь с наступлением смерти. У Есенина были многочисленные следы прежних падений. Подтвердив наличие под глазом небольшой ссадины, Гиляревский не указал механизма ее образования. Отметил наличие на лбу вдавленной борозды длиною около 4 сантиметров и шириною полтора сантиметра, но не описал состояние костей черепа. Сказал, что «давление на лбу могло произойти от давления при повешении», но не установил, прижизненное это повреждение или посмертное. И самое главное – не указал, могло ли это «вдавление» вызвать смерть поэта или способствовать ей и не образовалось ли оно от удара твердым предметом...
4) Выводы в акте не учитывают полной картины случившегося, в частности, ничего не говорится о потере крови погибшим.
5) Судмедэксперт отмечает, что «покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время», а сколько часов, не указывает. По заключению Гиляревского смерть поэта могла наступить и за двое суток, и за сутки до обнаружения трупа… Поэтому утверждение, что Есенин погиб 28 декабря 1925 года, никем не доказано и не должно приниматься за истину.
6) В акте ни слова не сказано об ожогах на лице поэта и о механизме их образования. Создается впечатление, что акт Гиляревским написан под чьим-то нажимом, без тщательного анализа случившегося.... Сомнение в подлинности акта возникает еще и потому, что мною найдена в архивах выписка о регистрации смерти С. А. Есенина, выданная 29 декабря 1925 года в столе загса Московско-Нарвского Совета. (Эти сведения подтверждены руководством архива загсов г. Ленинграда.) В ней указаны документы, послужившие основанием для выдачи свидетельства о смерти. В графе «причина смерти» указано: «самоубийство, повешение», а в графе «фамилия врача» записано: «врач судмедэксперт Гиляревский № 1017». Следовательно, 29 декабря в загс было предъявлено медицинское заключение Гиляревского под номером 1017, а не то, что приобщено к делу, – без номера и других атрибуций. Следует иметь в виду, что загс без надлежащего оформления акта о смерти свидетельства не выдаст. Поэтому можно категорически утверждать, что было еще одно медицинское заключение о причинах трагической гибели С.А. Есенина, подписанное не одним Гиляревским». Следует добавить, что после 1925 года судьба А.Г. Гиляревского неизвестна, его супруга была репрессирована и также пропала без вести.








