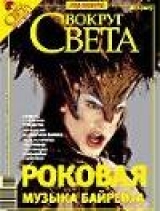
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
А в Москве, после его отъезда, уже названная выше подруга поэта Галина Бениславская заболела – с неврастенией в острой форме прибыла на лечение в санаторий в Покровском-Стрешневе. О себе записала: «Всю ночь было мучительно больно… Как зуб болит – мысль, что Е. любит эту старуху, и что здесь не на что надеяться». Галина была очень привязана к Есенину, сносила все сложности его творческой натуры и действительно помогала. Достаточно сказать, что после размолвки Есенина с имажинистами, а главное – с А. Мариенгофом, она приютила его, а потом и обеих сестер поэта, Екатерину и Александру. Все жили в одной комнатенке, Бениславская взяла на себя хлопоты по хозяйству, а сама частенько спала на полу под столом – метров не хватало. Помощь ее была неоценима и в другом деле, похоже, что именно она, будучи связанной с ВЧК, несколько раз решала его проблемы с арестами. (Кстати, интересен факт, что в 1924 году у нее появился тайный поклонник – сын Троцкого Лев Седов, что после гибели Есенина Галина заливала горе вином, что в годовщину смерти поэта она застрелилась у него на могиле.)
Вернулся Сергей Александрович в Москву в августе 1923 года и глубоко погрузился, как пишет В. Ходасевич, в нэповское болото, «ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью даже в городе, – Есенин впал в злобу». Начались его кабацкие скандалы и выступления, одно из которых закончилось товарищеским судом над четырьмя поэтами: С. Есениным, П. Орешиным, С. Клычковым и А. Ганиным. Их обвиняли в том, что за разговором в пивной об издании журнала они оскорбили постороннего человека, назвав его «жидовской мордой». Друзья же уверяли, что оскорбленный их подслушивал. В результате обвинитель Л. Сосновский, единомышленник Л. Троцкого и один из организаторов расстрела царской семьи, увидел в произошедшем проявление антисемитизма. А в газете «Рабочая Москва» от 12 декабря 1923 года рабкоры написали, что дело четырех поэтов вскрыло нам язву, «которую нужно раз и навсегда вылечить или отсечь». Ситуация оказалась более чем серьезной, и это, конечно, знал Л. Сосновский. По принятому в 1918 году Декрету «О борьбе с антисемитизмом», у виновных было два пути: лагерь или расстрел. За поэтов вступились В. Полонский, В. Львов-Рогачевский, А. Соболь, уверяя слушающих, что обвиняемые не являются антисемитами, что произошло досадное недоразумение. (После похорон С. Есенина А. Соболя найдут у памятника Достоевскому с простреленной головой.) В результате четверке объявили общественное порицание. И тем не менее это было начало конца. После ряда событий с Алексеем Ганиным, как и с Сергеем Есениным, расправятся в 1925 году. Ганина расстреляют, к делу приобщат написанные им тезисы «Мир и свободный труд народам», в которых он заявил, что Россия уже несколько лет находится в состоянии смертельной агонии, что ясный дух русского народа предательски умерщвлен. Петр Орешин и Сергей Клычков ненадолго переживут друзей: первого расстреляют в марте 1937 года, второго – в октябре этого же года…
По окончании товарищеского суда Сергей Александрович, конечно же, понял, что этот спектакль был разыгран неспроста. И все же он отвечает всем участникам действа статьей под названием «Россияне»: «Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем. Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством...» – писал поэт, упоминая далее и Сосновского, и Троцкого. Последний запечатлен и в поэтических образах, в неоконченной пьесе «Страна негодяев», где один из героев – комиссар Чекистов (он же Лейбман) – прибыл, по замыслу автора, из Веймара в Россию «укрощать дураков и зверей» и «перестроить храмы божие в места отхожие». Прототип Чекистова не кто иной, как Лейба Троцкий, живший в эмиграции в городе Веймар.
Дальнейшие события все более приближали поэта к трагическому финалу. Руку к этому приложили и былые друзья-товарищи. Имажинисты, Р. Ивнев, А. Мариенгоф, В. Шершеневич, не только не пришли в зал товарищеского суда, чтобы собственным присутствием засвидетельствовать лживость предъявляемых Есенину обвинений, но более того, они написали письмо в редакцию журнала «Новый зритель», всячески открещиваясь от поэта. (А зачем он был теперь им нужен? В кафе Мариенгофа, в «Стойле Пегаса», куда публика валила на Есенина и тем самым делала хорошие выручки, он больше не появлялся.)

Рисунок В. Сварога, сделанный в «Англетере» 28 декабря 1925 года
Художник Сварог (В.С. Корочкин), делавший в номере гостиницы рисунок погибшего Есенина, рассказывал своему другу, журналисту И.С. Хейсину, следующее: «Мне кажется, что этот Эрлих что-то ему подсыпал на ночь, ну... может быть, и не яд, но сильное снотворное. Не зря же он «забыл» свой портфель в номере Есенина. И домой он «спать» не ходил – с запиской Есенина в кармане. Он крутился не зря все время неподалеку, наверное, вся их компания сидела и выжидала свой час в соседних номерах. Обстановка была нервозная, в Москве шел съезд, в «Англетере» всю ночь ходили люди в кожанках. Есенина спешили убрать, поэтому все было так неуклюже, и осталось много следов. Перепуганный дворник, который нес дрова и не вошел в номер, услышал, что происходит, кинулся звонить коменданту Назарову... А где теперь этот дворник? Сначала была «удавка» – правой рукой Есенин пытался ослабить ее, так рука и закоченела в судороге. Голова была на подлокотнике дивана, когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана. Потом его закатали в ковер и хотели спустить с балкона, за углом ждала машина. Легче было похитить. Но балконная дверь не открывалась достаточно широко, оставили труп у балкона, на холоде. Пили, курили, вся эта грязь осталась... Почему я думаю, что закатали в ковер? Когда рисовал, заметил множество мельчайших соринок на брюках и несколько в волосах... пытались выпрямить руку и полоснули бритвой «Жиллет» по сухожилию правой руки, эти порезы были видны... Сняли пиджак, помятый и порезанный, сунули ценные вещи в карманы и все потом унесли... Очень спешили... «Вешали» второпях, уже глубокой ночью, и это было непросто на вертикальном стояке. Когда разбежались, остался Эрлих, чтобы что-то проверить и подготовить для версии о самоубийстве... Он же и положил на стол, на видное место, это стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья»... Очень странное стихотворение...» (Опубликовано в газете «Вечерний Ленинград», 28.12.90 г.).
В том письме коллеги по цеху излагали следующее: «После известного всем инцидента, завершившегося судом… у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным… Есенин в нашем представлении безнадежно болен физически и психически…» А поэт в это время, с 17 декабря 1923 года до конца января 1924-го, пребывал в санаторном отделении психиатрической больницы имени Шумского. Туда Есенина уложила Бениславская, опасаясь за его здоровье и жизнь: он все чаще стал говорить о врагах, которые его преследуют. (Дело № 10055 заведено на С.А. Есенина в МЧК по борьбе с контрреволюцией и преступлением, передано в Совнарсуд 27.01/1920 г.) После больницы в январе 1924-го его арестовали вместе с Ганиным в кафе «Домино». Сергея Александровича удалось вытянуть и вновь уложить в больницу, после которой он уезжает в Ленинград, далее – в путешествие на Кавказ, с 3 сентября 1924 года по 1 марта 1925-го. Видимо, это путешествие спасло его от того, что он не оказался в одной связке обвинений с Ганиным, которому вменялась контрреволюционная деятельность. На Есенина тоже были заведены дела, он обвинялся по статьям 88, 57 и 176 Уголовного кодекса – публичное оскорбление представителей власти, контрреволюционные действия и хулиганство.
В конце июля 1925 года поэт вновь уезжает. На этот раз с Софьей Толстой, внучкой Льва Николаевича, он оказывается в Баку… И все эти путешествия, весь последний год его жизни – есть бег. От себя, от своего окружения, от С. Толстой, от властей, от болезни. «Господи! Я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить! Я как зверь чувствую это!» – говорил он ленинградскому поэту-имажинисту В. Эрлиху.

Похоронная процессия у памятника А.С. Пушкину. 31 декабря 1925 года
Тревожное поведение поэта тогда заметили многие. Не изменилось оно и после клиники для нервнобольных, откуда Есенин сбежал, лелея план отбыть в Ленинград и начать новую жизнь. Он заранее телеграфировал В. Эрлиху найти 2– 3 комнаты – хотел потом перевезти сестер. Перед отъездом он заглянул к Мариенгофу – помириться, к детям – Тане и Косте (их матери – Зинаиды Райх не было дома). Говорят, что он был полон планов, хотел создать свой журнал и работать, чтоб никто, даже друзья, не мешали. Но 27 декабря 1925 года его не стало, в номере гостиницы «Англетер» поэт был найден повешенным. По официальной версии – он покончил жизнь самоубийством.
По неофициальной – его убили. И не верить этому нет причин. Все, что связано с расследованием обстоятельств его смерти, до сих пор является темной, постыдной историей с путаными, противоречащими показаниями «свидетелей», грубыми нарушениями ведения дела по факту смерти, ненадлежащей документацией. О том страшном дне сохранилось несколько воспоминаний, в которых очевидна мысль об убийстве. Муж сестры Есенина, Екатерины, В. Наседкин (расстрелян, как и П. Орешин, в марте 1938 года), придя домой из «Англетера», сказал, что на самоубийство это непохоже, «такое впечатление, что мозги вылезли на лоб». Сохранились и посмертные фотографии Есенина (в том числе и негативы), сделанные М. Наппельбаумом, на некоторых из них отчетливо видно проникающее ранение под правой бровью, не отмеченное в акте судебно-медицинской экспертизы. Следы борьбы видны и на фотографии номера гостиницы, где погиб Сергей Александрович: в комнате все перевернуто, на ковре и канделябре – пятна крови. Неестественной многим показалась и поза погибшего: закостеневшая правая рука согнута в локте, «специалисты» делали вывод, что поэт хватался рукой за батарею… Но здесь не нужно быть специалистом, чтобы понять – висельник не сможет согнуть руки в локтях, в минуту удушения от петли тело обвисает мешком.
Будет ли когда-нибудь сказана правда?
Вероника Карусель
Большой миф маленького острова

Мекскалтитан соответствует своему названию только наполовину. Причем на первую половину – этот островок действительно расположен у западных берегов Мексики. Но титанического на первый взгляд в нем нет ровным счетом ничего. Скорее, наоборот, это бесконечно малый клочок суши: тысяча метров в периметре и около четырехсот в поперечнике. Обитает на нем примерно тысяча жителей.

Апостолы Петр и Павел покровительствуют жителям острова Мекскалтитан и одноименной деревни. Праздник в их честь отмечается 29 июня
Островок этот – удивительный и с большой историей. Согласно одному из поверий, именно отсюда произошли индейские племена, населяющие современную Мексику , а именно это и есть легендарный Астлан (Aztlan) – прародина ацтеков . Отсюда они отправились на континент и после продолжительных странствий в поисках лучшего места для жизни нашли таковое в полутора тысячах километров от отправного пункта, в нынешней долине Мехико . Там и заложили свою будущую столицу – священный Теночтитлан, на месте которого раскинулся ныне Мехико.
Правда, никаких научных доказательств у этой версии нет. Разве что такое: в переводе с языка науатль, на котором говорят ацтеки, Астлан означает «место цапель», а этих птиц на островке Мекскалтитан очень много. Кстати, на том же науатле Mexcaltitan означает как раз просто «место мексиканцев».
Правда, по другой версии, название островка происходит от иного слова того же языка – mexcalli, или mezcal по-современному. Ну, а что такое мескаль, я думаю, многим объяснять не надо: старший брат текилы , крепкий напиток, приготавливаемый из пульке – сброженного сока агавы. Кто не пил его, наверняка обращал внимание в супермаркетах на бутылки, где плавает гусеница. Это и есть мескаль. Будете пить – не забудьте этой гусеницей закусить, поровну поделив ее между всеми пьющими. Таков обязательный ритуал.
Мескаль для мексиканцев – то же, что вино для французов или виски для шотландцев, то есть «их все». Именно поэтому, как, собственно, мы видим, по сути большой разницы между «местом мексиканцев» и «местом мескаля» нет. Почти что синонимы…

В жаркое время трудно поверить, что вскоре эти улицы превратятся в каналы, по которым можно плавать на каноэ
Наконец, рискуя уподобиться небезызвестному Михаилу Александровичу Берлиозу с его многословным, адресованным икающему Ивану Бездомному рассказом о «грозном боге Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике», приведу все-таки еще одну версию, согласно которой Мекскалтитан, равно как и Мексика, происходит от имени богини Луны Метцтли. Сторонники этой теории в ее подтверждение приводят тот факт, что якобы остров по форме напоминает Луну.
Остается только удивляться, как под грузом всей этой мифологии крохотный остров давно не ушел под воду. Но нет, держится. Причем крепко держится именно за это свое полумифическое прошлое, возведя его в настоящий культ. В 1986 году правительство Мексики, пойдя навстречу многочисленным петициям немногочисленного населения острова, признало его памятником истории – целиком.
И это невзирая на то, что никаких доколумбовых древностей на острове нет. Другое дело, что сами жители создают и поддерживают некий образ старины, упорно сохраняя архаические устои жизни. Одни до сих пор живут в саманных хижинах, другие – в деревянных домах, сколоченных из плотно пригнанных друг к другу мангровых стволов. На дверях – будь то хижины или более современного и комфортабельного вида жилища – принципиально нет никаких запоров и засовов, они открыты настежь весь день. Три или четыре здешние улицы – тоже по принципиальным соображениям – не асфальтируются, что, учитывая почти трехмесячный сезон дождей, создает специфические неудобства при передвижении на острове. Правда, на определенное время ливни так заливают островок, что улицы превращаются на несколько месяцев в каналы, по которым снуют каноэ. Европеизированные эстеты называют Мекскалтитан «маленькой мексиканской Венецией», но самим местным жителям такое сравнение вряд ли понравится. Они-то уверены, что Венеция – это просто новостройка по сравнению с их городком – колыбелью ацтекской цивилизации.

Как и все мексиканцы, островитяне играют на гитаре, танцуют и поют
Автомобилей здесь нет ни одного: впрочем, им было бы даже негде разогнаться. Нет и полиции: судя по распахнутым настежь дверям, работы ей просто не найдется.
Вообще, примет цивилизации – минимум. Одна гостиница: без нее трудно обойтись, туризм все-таки важная статья островного дохода. Одна поликлиника. Одна начальная школа. Одна церковь – Святых Петра и Павла, покровителей здешних мест. Музей доколумбовой истории. Правда, несколько вполне современных ресторанов: мексиканская кухня – такая ценность, что грех приносить ее в жертву какому бы то ни было имиджу…
А раз заговорили о ресторанах и хлебе насущном, заметим, что основа питания здесь – почти исключительно морепродукты. Сельским хозяйством на островке особенно не займешься: почва сильно засоленная, практически солончак. Зато рыбы и креветок – хоть отбавляй. Собственно, в главный здешний ежегодный праздник – День апостолов Петра и Павла – заодно открывается сезон ловли креветок. Это происходит 29 июня, в море выходят сотни лодок, на носах двух головных – скульптуры островных патронов. Эти две лодки плывут наперегонки: соревнуются, кто первым, Петр или Павел, проплывет заданную дистанцию и вернется к причалу. Сильно подозреваю, что регата инсценирована с элементом поддавков. Ведь первой обязательно должна прийти к финишу Петрова лодка: тогда, по поверью, лов будет обильным на протяжении всего сезона.
Праздник отмечается с давних пор, и когда-то с острова отплывали челны с изваяниями уже упоминавшегося бога войны Уитцилопочтли, а не христианских апостолов.

Сбор креветок, съедобных водорослей, морской капусты – один из основных местных промыслов. Как, впрочем, и во всем штате Наярит, куда входит остров
Креветок здесь столько, что их продавцы с утра делят товар надвое: часть оставляют в теньке, в прохладе, а часть – раскладывают на солнцепеке, так что через несколько часов после начала торговли можно лакомиться и вялеными, и сушеными, и еще бог весть какими морепродуктами. И в упомянутых здешних ресторанах, естественно, вы только что мороженого из них не встретите. А все остальное – пожалуйста: коктейль, тортилья (классическая испанская картофельно-яичная запеканка), похлебка тактихилья, приготовленная по старинному ацтекскому рецепту, – все с креветками.
Так что не знаю, как насчет цапель или мескаля, который здесь давно не гонят (и не уверен, что гнали когда-либо: агава тут просто не растет), а вот креветка уж точно заслужила право быть символом Мекскалтитана.
О чем еще осталось сказать? Конечно, о людях. Живут они здесь, судя по всему, неплохо. Хотя бы потому, что тех, кто не ходит в море, можно видеть день-деньской в тенечке собственных патио или на крыльце заботливо ухаживающими за крохотными палисадниками, которые суть такая же непременная особенность здешних домов, как распахнутые двери; или азартно играющими в домино. Тропическая жара отчасти уравновешивается свежим ветерком, так что даже в сиесту не все уходят спать, и у порогов часто видишь блаженно раскачивающихся в креслах-качалках людей. Многие, между прочим, похожи не столько на латинос, сколько на китайцев. Многомиллионный исход из Поднебесной во второй половине XIX века, как известно, привел к образованию чайна-таунов во многих странах Латинской Америки. Не миновали китайцы и уютный островок Мекскалтитан. Однажды очутившись здесь, многие так и осели, несмотря на близость континента и простоту сообщения с ним. Они предпочитают жить в этом тропическом раю и полностью игнорируют шумную и суетную «большую» жизнь. И это дает противникам версии исхода ацтеков с Мекскалтитана один не очень научный, но по-своему убедительный аргумент. Ацтеки были слишком мудрыми, чтобы искать от добра добра и оставлять такой райский уголок.
Леонид Велехов
А теперь – «горбатый»!

После успешной премьеры Volkswagen New Beetle концерн FIAT тоже решил порадовать любителей ретростиля и выкатил на подиум, а потом и на конвейер свой Fiat-500.
Но почему «горбатый»? А вспомните характерное обличье и соответствующее прозвище первого из «Запорожцев», ЗАЗ-965, сделанного по образу и подобию Fiat-600 1955 года. Странно, но откуда тогда взялось число 500, присвоенное новичку? Все просто: двумя годами позднее итальянцы запустили в производство модель Fiat-500 (Nuova), снискавшую оглушительный успех, разошедшуюся в 3 893 294 экземпляров и не сходившую с конвейера долгих 18 лет! Ну и что, что в ней было всего два места (в «шестисотом» – их четыре), зато внешний облик весьма схож, а двери открывались по ходу движения, как в современных авто. И индексом «500» маркетологи явно намекают на замечательную (в смысле коммерческой успешности) наследственность…

Внимательный читатель, конечно, уже обратил внимание на слово Nuova («новый»). Оно появилось не случайно: первый Fiat-500 звался Topolino («Мышонок») и родился в далеком 1937 году. Глядя на старые фотографии, нет никакого желания назвать творение инженера Данте Джакозы «горбатым» – облик «Мышонка» не имел ничего общего с последующими моделями этого класса. Именно его и сменил на конвейере Fiat’a упомянутый выше Fiat-600. Вернемся, однако, к истории «пятисотого» – это число оказалось для фирмы счастливым. (Кстати, появившаяся в начале 1990-х модель Cinquecento, прародитель «Оки», в переводе означает… «пятисотый»!) Потребность в народном автомобиле возникла как раз в середине пятидесятых – до этого итальянцы могли позволить себе разве что велосипеды и мопеды. В лучшем случае – мотоциклы. Но экономика возрождалась настолько бурными темпами, что если в 1951 году было продано лишь 40 000 мотоциклов, то в 1955-м уже вдесятеро больше. В общем, для национального проекта «доступный автомобиль» пришло самое время. Ожидался некий «закрытый четырехколесный мотороллер», защищавший седоков от непогоды, падений и столкновений и сравнимый по цене с двухколесным конкурентом. (Идея вполне очевидная: немцы тоже прошли через этот этап автомобилизации, вспомните ту же BMW Isetta.)
В итоге после долгих размышлений Джакоза остановился на проекте, который напоминал уже готовившийся к серийному выпуску «шестисотый», но был заметно легче и дешевле. Двигатель ограничили двумя цилиндрами, что позволило поставить его поперек автомобиля и упростило трансмиссию. А рабочий объем 480 см3 сделал логичным и округленный индекс модели – «500». Сегодня масса автомобиля в 470 килограммов кажется фантастически маленькой, а тогда она позволяла хилому моторчику в 13 л. с. разгоняться до 85 км/ч, потребляя около 4,5 литра бензина на 100 километров пробега!
Все вроде бы шло хорошо, но… народ не выстраивался в очередь за новинкой. Виноват был «шестисотый» – дороже малыша всего на 125 000 лир (при цене в 590 000), зато вмещал четырех человек и 30 килограммов багажа. И всего три месяца спустя, 4 июля 1957 года, на автосалоне в Турине показывают обновленный Fiat Nuova 500 Economica с обитой дерматином задней скамейкой и без 25 000 лир на ценнике. К тому же, как теперь модно писать на упаковках, «+ 2 л. с., + 5 км/ч – бесплатно». С этого момента Fiat-500 поехал! Его путешествие продлилось, как уже сказано, долгие 18 лет и завершилось в год, когда на орбите уже состыковались «Союз» и «Аполлон». К этому времени система отопления салона путем открытия заслонки между ним и моторным отсеком уже была, конечно, замшелым анахронизмом…
Пятьдесят лет спустя
Премьера нового «пятисотого» состоялась опять же в Турине и снова 4 июля. Только год на дворе уже 2007-й. На мероприятие пригласили было 500 владельцев старых Nuova, но… их приехало больше пяти тысяч! На праздник вышел весь Турин, хотя на самом деле следовало бы проводить его в польском городе Тихи (Tychy) – ведь именно там собирают новинку, чтобы она была итальянцам по карману. Кстати, ходят слухи, что АвтоВАЗ ведет предварительные переговоры о приобретении прав на производство этой модели в Тольятти – тогда она стала бы доступна и нашим соотечественникам.

Как у старого, так и у нового Fiat-500 можно убрать крышу. Раньше она была матерчатая, а теперь – стеклянная с электроприводом
Что ж, давайте посмотрим, сильно ли отличается потомок от прародителя. По правде говоря, он взял от предка разве что узнаваемый облик, да и то лишь в общих чертах. Ни в компоновке, ни в технической начинке общее вряд ли удастся найти. Да, и из нового Fiat-500 тоже можно высунуться по пояс, убрав крышу. Только раньше она была матерчатая, а теперь – стеклянная с электроприводом. Да и сейчас Fiat-500 невелик, но нынешние 3,5 метра совсем не то же, что прежние 2,9 метра. И масса в 865 килограммов уже не поражает воображение своей ничтожностью, да и зачем? Ведь 100 л. с. – вовсе не жалкие 13 лошадок, а к прежним 85 км/ч «максималки» можно смело приписать единичку впереди. Трудно сравнить и цену вопроса: что такое 10 500 евро, мы отлично знаем, а вот что такое полмиллиона лир 1957 года? Ясно одно: Fiat Nuova 2007 стоит далеко не столько, сколько мотороллер.
Разумеется, нет никаких экзотических решений вроде заднемоторной компоновки, двигателя с воздушным охлаждением. Все традиционно: 4 цилиндра, мотор спереди, привод передний. А как иначе – ведь новичок построен на основе платформы популярной Panda. Современная стратегия позволяет довольно быстро менять «шкуру», не затрагивая существенно ее содержания. Вот и Fiat-500 появился спустя лишь 18 месяцев с момента разработки дизайнерского эскиза! Хотя над шасси Panda все же пришлось поработать. Передок сделали заново, сдвинув радиатор назад и добавив энергопоглощающие элементы для пущей безопасности. Решение правильное: независимые крэш-тесты по программе EuroNCAP, проведенные в сентябре, закончились присуждением малышке максимально возможных пяти звездочек. По сравнению с Panda у нового Fiat-500 шире колея, более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости, изменена геометрия подвески.
Если старый Fiat Nuova не мог похвастаться быстроходностью и динамикой, то новый Fiat-500 пытается стать в этой дисциплине конкурентом непревзойденному пока Mini. В частности, именно на это нацелена запланированная на конец 2008 года версия Abarth с двигателем в 135 л. с. Но даже базовая версия с мотором 1,2 литра и мощностью 69 л. с. легко развивает 160 км/ч. А вот что ее роднит с прародителем, так это расход топлива – 5,1 л/100 км в смешанном цикле.

Внутренний дизайн Fiat-500 очень далек от «типового усредненного»
Ходовые качества Fiat-500 и Mini еще не раз будут сравнивать спортсмены и автожурналисты, а вот что касается интерьера, то здесь итальянец уже обогнал англичанина (или, если хотите, немца). Оригинальностью дизайна Fiat-500 ничуть не уступает Mini, а по качеству и выбору материалов отделки – запросто может с ним поспорить. Найдутся и фирменные особенности: например, подрулевые лопатки для ручного переключения передач в автоматической коробке, кнопка включения спортивного режима, заставляющая автомобиль особенно остро реагировать на малейшие движения педали газа и баранки. И даже… автоматический распылитель дезодоранта с тремя различными ароматами. А еще любители компьютеров найдут под маленькой крышкой на торпедо USB-разъем новейшей компьютерной системы Blue&Me TM, разработанной совместно с Microsoft. Через него, а впрочем, и прямо «по воздуху» через Bluetooth-интерфейс, можно подключить к бортовому компьютеру самую разную периферию, которую подскажет ваша фантазия.
Необычен и навигатор: его карты хранятся не на CD-диске, а на флэшке, что значительно уменьшает габариты и повышает быстродействие.
И все же, все же… Fiat-500 задуман как конкурент Mini «снизу». И дело не только в цене, которая у Mini One только начинается с планки в 15 850 евро (здесь и везде приведены европейские цены). Посмотрите на двигатель: у Mini 95 л. с. – это минимум, а у Fiat-500 100 л. с. – максимум! Но знаете, что мы вам скажем? Многие из тех, кому довелось побывать за рулем новичка, сожалеют об отсутствии мотора послабее базовых 69 сил. Потому что вся обстановка в салоне итальянца располагает, скорее, вкушать прелести Dolce Vita, а не перегрузки при экстремальных переставках. И, может быть, как раз на это и рассчитывали хитроумные итальянцы?
Алексей Воробьев-Обухов








