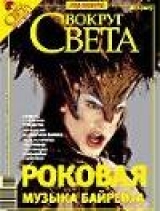
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Большие надежды возлагают на боеприпасы объемного взрыва и термобарические – например, на системы залпового огня, способные накрыть взрывной волной большой участок МВЗ. Чешская система SVO на шасси БМП-1 одним залпом проделывает в минном поле проход глубиной 100 и шириной 5 метров.
Соревнование между разработчиками инженерных боеприпасов, средств организации МВЗ и управления ими и создателями средств их разведки, обезвреживания и уничтожения мин, фугасов и других взрывных устройств, а также средств защиты личного состава и техники от минного оружия продолжается с неослабевающим напряжением. В этой войне никто никогда не победит.
Семен Федосеев
Вкус Рождества

Если у православных главное застолье устраивается на Пасху и именно к этому празднику приурочены традиционные сладкие блюда, то в католических и протестантских странах всевозможные сладости делаются прежде всего на Рождество. Задолго до обильного рождественского ужина или обеда и еще некоторое время после него на празднично накрытых столах появляются кондитерские изделия причудливой формы, за каждым из которых стоит своя, подчас удивительная, история.
На рождественских столах непременно встречается звездная выпечка. В отличие от «кремлевской» звезды, которой у нас было принято украшать новогодние елки (вместо популярных до революции ангелов), здесь форма, конечно же, отсылает к звезде Вифлеемской. А поскольку «на самом деле» та звезда была кометой, то в западной традиции эти изделия так и выпекают – «с хвостом». Впрочем, простая форма тоже встречается: немецкое миндальное печенье «коричные звезды» («цимтштерне») и без всякого хвоста создает радостное праздничное настроение. Звездная выпечка не редкость и в романской зоне Европы – тут в первую очередь на ум приходит североитальянская Верона, где «пандоро», ребристый кулич из воздушного дрожжевого теста, надо резать горизонтально – чтобы не только все изделие целиком, но и каждый кусок сохранял восьмиконечную «звездную» форму.

Пряничные домики попали на рождественские базары по чистой случайности: они вошли в моду в XIX веке после публикации братьями Гримм сказки «Гензель и Гретель»
Иные сладкие атрибуты Рождества связаны с мистической символикой чисел. Особенно популярны 12 (количество Христовых апостолов) и 13 (апостолы плюс сам Иисус ). В Провансе, на юге Франции , после полуночной рождественской мессы до сих пор подают именно тринадцать видов десерта: лесные или грецкие орехи , изюм, сушеный инжир, миндаль (эта «четверка» символизирует четыре праведных нищенствующих ордена: августинцев, доминиканцев, францисканцев и кармелиток), ромбовидные марципаны-«калиссоны» из города Экса с дынными цукатами, белую и черную нугу, айвовый мармелад-«пат», зимнюю дыню, светлый виноград, мандарины, старинный сладкий кекс «помпу» на оливковом масле, а также финики, фаршированные зеленым и красным марципаном. Кстати, темно-зеленый и ярко-красный – тоже не случайные, а весьма значимые цвета: они олицетворяют вечную жизнь и сверкающее солнце.
Еще одна особенность западноевропейского празднования Рождества заключается в том, что готовиться к нему начинают задолго до конца декабря. В былые времена в предрождественские недели католики соблюдали строгий пост, однако со временем были сделаны послабления, а после Второго Ватиканского собора (1962—1965 годы), в ходе которого, в частности, ввели богослужение на национальных языках, рождественский пост окончательно «вышел из употребления». Сохранилось лишь его название – Адвент («пришествие», то есть Пришествие Спасителя). Так по-прежнему называется предпраздничный период, который начинается за четыре воскресенья до Рождества. Непременный атрибут его, особенно в Северной Европе, – венок с 4 свечами: в четвертое воскресенье до праздника на нем зажигают одну свечу, в третье две и так далее, а к 25 декабря на венке горят уже все четыре свечи. Кроме того, этот период включает в себя несколько дней святых, причем весьма почитаемых. И пока дети забавляются со сладкими календарями Адвента (картонкой с окошечками на каждый день, оставшийся до Рождества, представляющими собой «тайник» с конфетой, печеньем и т. п.), взрослые готовят к каждому из этих праздников традиционные угощения. Так постепенно и возникает прекрасное рождественское настроение...
11 ноября. Святой Мартин
С этого дня почти во всей Европе исконно велся предрождественский отсчет времени. «Святой Мартин скачет на коне сквозь снег и ветер» – начало старинной немецкой песенки. В этот день в Германии дети представляют сценки из жизни праведника и колядуют с фонарями и факелами от двора ко двору, а на стол принято подавать жареного гуся с красной капустой и разнообразную выпечку. Часто ей придают форму гуся – это символ Мартина вот уже много веков.
Не менее интересно дело обстоит в Венеции . Здесь одна кондитерская стремится перещеголять другую, выставляя в витринах гигантское печенье из песочного теста с пралине и разноцветной глазурью в виде всадников с плащом и мечом – San Martino a cavallo. Дети опять же бегают по улицам и распевают песенки про великого святого, а их мамы грозно выступают с деревянными ложками вместо мечей, собирая с прохожих шутовскую дань. К слову сказать, венецианцы уже подсчитали, что если обычное печенье в виде Мартина на коне стоит 6 евро за 100 граммов, то такое же в натуральную величину (то есть конь – 420 килограммов, всадник – 90, меч – 4) обойдется более чем в 30 тысяч. Пока никто из кондитеров не отважился пойти на рекорд – а вдруг не найдется безумца, который купит это?

Старики в колпаках и с мешками за плечами – один из вариантов рождественской выпечки, напоминающей о святом Николае
6 декабря. Святой Николай
Епископ Николай Мирликийский, как известно, главный рождественский святой Западной Европы. По сей день все дети Нидерландов , Бельгии и Германии в ночь на 6 декабря (а не только в само Рождество) выставляют свои башмаки за двери для подарков– наверняка ведь святой Николай ночью подбросит им что-нибудь, как подбросил он мешочки с золотом трем сестрам-бесприданницам из своего родного города в Малой Азии.
Еще в Северной Европе к этому дню пекут фигурное пряное печенье «спекулациус» или «спекулаас». Его штампуют специальными старинными деревянными трафаретами: стариками с мешком за плечами, а также иногда – ветряными мельницами, епископами, детьми, зверями и птицами.
Еще одна известная «николаевская» выпечка – это нежнейший «епископский хлеб» («бишофсброт»), который на самом деле вовсе не хлеб, а шоколадный бисквит с цукатами, особенно популярный в Австрии. Правда, в последнее время его начали делать и на День святого Мартина – по «аналогии». Ведь тот тоже был епископом…

В золотистом цвете шафранных булочек «луссекатт» можно усмотреть солнечную символику
13 декабря. Святая Люсия
Когда-то, по старому юлианскому календарю, день этой святой приходился на зимнее солнцестояние. Выбор этот не был случайным: дело в том, что имя Lucia, или, по-английски, Lucy, всегда связывали с латинским lux – «свет». Получался своего рода праздник символического перелома, победа света над зимней тьмой. Красивее всего его сегодня празднуют в Скандинавии, особенно в Швеции . В каждой школе и в каждом городе выбирают свою юную Люсию, наряжают в белоснежное платье и коронуют венцом из пылающих свечей. Потом «Люсии» шествуют по заснеженным улицам вместе с праздничной процессией детей (часть из них наряжена звездными мальчиками, часть – пряничными человечками) и распевают трогательные песни про великомученицу Люсию и ее христианский подвиг. Святая, как известно всем в Западной Европе, поплатилась жизнью за нежелание уступить ухаживаниям богатого язычника в Сиракузах. Забавно, однако, что поют обо всем этом шведки зачастую на мотив неаполитанской «Санта-Лючии», повествующей в оригинале отнюдь не о страданиях благочестивой девицы, а о красотах Неаполитанского залива. Еще барышни-«Люсии» угощают родителей завтраком – утренним кофе и специальными булочками «луссекатт» – естественно, собственного изготовления. Формой они напоминают восьмерку (или даже знак бесконечности), пекут их с шафраном, самой дорогой пряностью в мире, которая окрашивает тесто в нежно-золотистый цвет, так что и тут несложно увидеть связь с Солнцем. Впрочем, учитывая две изюминки, похожие на зрачки, в центре каждой из завитушек, можно предположить, что раньше они символизировали еще и глаза святой, которые та, по преданию, вырвала у себя и прислала своему поклоннику, восхвалявшему их красоту (впрочем, взамен ей были немедленно дарованы свыше еще более прекрасные глаза).
На самой родине Люсии-Лючии, в Италии , ее чествуют совсем иначе (и более на севере, чем на юге, хотя жила она именно в Сицилии, в Сиракузах и до сих пор слывет прапрапрапрапра…внучкой Архимеда). Считается, что в канун своего праздника святая объезжает на ослике все детские комнаты, чтобы подбросить спящим мальчикам и девочкам сладкие подарки или черные угли в зависимости от того, как они себя вели весь год. Малыши Ломбардии и Пьемонта перед этим обычно устраивают что-то на манер наших колядок и оставляют для ослика специальную кормушку с хлебом и водой. Самым активным удается даже раздобыть немного сена. В Милане и некоторых близлежащих городах в этот день также едят мягкие пирожные, меренги, частично покрытые шоколадной глазурью (вероятно, тоже старинная аллюзия к глазам Лючии).

Немецкий кекс «штоллен», отсылающий своей формой к запеленутому младенцу Христу, появился в Дрездене в XV веке
25 декабря. Рождество Христово
Непосредственно рождественские традиции выпечки в Европе так разнообразны, что придется остановиться только на нескольких самых интересных – в Германии, Италии и Франции . Возьмем, к примеру, сладкий кекс «штоллен», чья овальная форма, покрытая белоснежной сахарной пудрой, как считается, отсылает к запеленутому младенцу Христу. Он знаменит вот уже более шести веков и даже стал однажды поводом оживленной переписки нескольких курфюрстов саксонских с римскими папами. Дело в том, что для его приготовления многие использовали сливочное масло, что противоречило правилам рождественского поста. Церковь требовала перехода на рапсовое, но тут выходила явная потеря во вкусе изделия. Сошлись на том, что немцы будут «заглаживать» свой грех специальными пожертвованиями в пользу церкви. В результате часть нынешнего Фрайбергского собора была выстроена на эти «добровольно-принудительные» отчисления.
Классический рождественский «штоллен» родом из самого сердца Саксонии, из Дрездена. Его пекут с цукатами, сухофруктами и пряностями и выдерживают как минимум несколько дней до Рождества, но существует и много других вариаций «штоллен», популярных во всей Германии и за ее пределами: с маком, творогом, марципаном и прочими начинками…

Французское рождественское «полено» «бюш-де-ноэль» принято украшать разными «лесными» атрибутами: от елки и грибов до топора лесоруба
В Италии все привыкли к куличупанеттоне (изначально родом из Милана ), однако в некоторых ее областях имеются и другие кондитерские предпочтения. Особенно интересен марципановый пирог-торчильоне из Умбрии, который выпекают в форме свернувшейся кольцом змеи (глаза и раздвоенный язык делают из цукатов). Многие считают, что это – стилизованное изображение угря из Тразименского озера, основного блюда местного традиционно постного ужина в сочельник. Однако в знаменитом своей расписной керамикой городке Дерута утверждают, что змеевидный торчильоне – отражение цикличности времени – придумал лично Рафаэль; так же, собственно, как и знаменитый дерутский орнамент «рафаэлески»: бородатые мужчины с обнаженными торсами, которые переходят в переплетающиеся змеиные хвосты.
С легкой руки парижских кондитеров XIX века национальным рождественским тортом во Франции стало рождественское полено «бюш-деноэль» – изначально бисквитный рулет с масляным кофейным кремом мокко, украшенный «корой», «мхом», «грибами» и прочими лесными атрибутами. Однако сама идея полена много древнее и восходит к Юлу – так в германской языческой традиции назывался период зимнего солнцестояния. В дохристианские времена было принято оставлять одно полуобгоревшее полено из праздничного очага на следующий год, а уж тогда ему давали сгореть полностью и выбирали новое: все это должно было принести владельцам очага удачу на целый год. Кстати, ритуал частично сохранился и после христианизации, так что бревно, горящее в очаге 12 ночей с 25 декабря по 6 января, можно встретить даже в деревнях XXI века.
6 января. Богоявление, или Епифания
Наконец, знаменитая двенадцатая ночь, отсчитываемая от 25-го, – канун Богоявления, или праздника Поклонения волхвов , который начали отмечать в самую раннюю пору христианства. В православной традиции праздник Богоявления все больше увязывался по смыслу с Крещением, теряя первоначальную связь с рождественскими событиями. В католицизме же этот праздник соотносился с евангельскими событиями, последовавшими непосредственно после Рождества – то есть с приходом волхвов. Именно библейская история о дарах волхвов привела к тому, что и в этот день в Европе принято обмениваться подарками.
Во Франции есть еще одна традиция: в праздничный сладкий пирог «королей-магов», то есть волхвов (по-французски – «галет-де-руа»; особенно популярен вариант из слоеного теста с миндальным кремом), запекают маленькую фарфоровую фигурку. Тот, кому она попадется в куске, становится шутовским королем праздничного вечера, а потом наступает «расплата» – ему придется потратиться на следующий такой пирог для всей компании. И здесь можно усмотреть параллель с языческим праздником: во время римских декабрьских сатурналий так же выбирали царя. Только там использовались настоящие бобы, а во Франции бобами именуются фигурки. В сезон их можно купить в хороших кондитерских, где продают целые тематические коллекции, каждый год новые: «булочная», «котята», «цирк». Кстати, среди французов уже давно существуют и кружки коллекционеров-фабофилов (от латинского fabo – «боб»).
В Италии же традиция Богоявленских торжеств связана с одним лингвистическим недоразумением. Некогда в здешнем языке ученое древнегреческое слово «Епифания» (собственно «Богоявление») превратилось в загадочное и страшноватое на слух «Бефана». Далее произошло забавное замещение – вместо волхвов к итальянским детям с подарками теперь приходит ведьма-Бефана. Ей только надо непременно оставить кофеварку, поскольку обычно, разложив подарки, она отдыхает за чашечкой кофе, которую с утра довольные дети смогут сами помыть. А они уж, наверное, будут довольны, хотя по традиции кроме сладостей и других мелочей у ведьмы, как у святой Лючии, есть и мешок с углем; но она им редко пользуется.
В Тоскане в честь Бефаны пекут специальные песочные печенья-бефанини в форме сердец, звезд и тому подобного, украшенные разноцветным сахаром или нутеллой. Через несколько дней, когда последние из них будут доедены, завершатся марафон европейской рождественской выпечки и череда рождественских празднеств. Разве что у скандинавов еще остается 13 января – День святого Кнута , когда полагается разбирать и выносить елку. Ну а самые ленивые снимают украшения на Сретение , 2 февраля. Это последний торжественный день, календарно связанный с Рождеством (введение младенца Христа во Храм и очищение Марии после родов). На Западе его отмечают как день благословения свечей – по-французски «шанделёр», по-английски «кэндлмас». Многие европейцы зажгут свечи на окнах и испекут блины – маленькие солярные символы.
Еще по сретенской погоде традиционно делаются выводы о том, холодным или теплым будет весь предстоящий год. В США и Канаде эта традиция постепенно привела к возникновению Дня Сурка , но это уже совсем другая история.
Ариадна Грызлова
«Валгалла» на Зеленом холме

Современный мир живет на кладбище великих идей. Тему эту, возможно, не стоило бы и упоминать, если б не специфика места, куда мы сегодня направляемся. Байрейтский музыкальный фестиваль в Германии ежегодно происходит на еще теплящемся капище одной из вчерашних «религий». Тянущиеся сюда паломники вроде бы уже не верят в силу уснувших языческих богов, а все же собираются на Зеленый холм со всего света и устраивают там свои «неоромантические оргии».
Поскольку с «религиозными» чувствами не шутят, давайте сразу уточним, как произносится название культового места: «Байрейт» или «Байройт»? Если многочисленные словари в последние годы все более настойчиво навязывают фонетическое «Байройт» (что соответствует немецкой языковой норме), то российские поклонники Рихарда Вагнера, основателя фестиваля, придерживаются традиционного варианта «Байрейт». И готовы растоптать с криком «Изыди, пижон и невежда!» всякого ослушника. Итак, Байрейт – договорились?..
Вагнер – «Вотан»
Удивительная фигура немецкого композитора внушала восторженное благоговение или столь же интенсивную ненависть уже его современникам. Положение не изменилось и по сей день: с одной стороны – сонм поклонников, для которых «вагнерианство» стало делом жизни, с другой – целая страна, где музыка Вагнера запрещена (даже известный вагнерианец, пианист и дирижер Даниэль Баренбойм оставил попытки исполнять его произведения в Израиле ).
Справедливости ради заметим, что любовь к Вагнеру – это любовь к его музыке, а ненависть – это ненависть к комплексу идей, высказанных им прежде всего в словесной форме. О литературных трудах композитора умнейший Игорь Стравинский заметил, кстати, что они «хороши, как экспонат, демонстрирующий пропасть, которая пролегла между гением человека и аксессуарами его мышления». Первая же (то есть музыка) самим автором характеризовалась как «беспрестанные мистические передвижения материи в нужном нам направлении». Они и сегодня не перестают впечатлять радикализмом и действенностью простых, казалось бы, приемов.

Здание байрейтского театра было заложено в 1872 году, а в августе 1876-го в нем уже прошел первый фестиваль
В любом музыкальном словаре можно прочитать о стремлении Вагнера к «созданию новой синтетической музыкальной драмы, где были бы неразделимы поэтическое слово, музыка и сценическое действие».
На замену обуржуазившейся, по словам Вагнера, «обескровленной» оперы того времени должно было прийти «новое искусство», искреннее, как народное действо, мистическое, как древний культ, глубокое, как мировая религия. Масштаб замысла наиболее ярко, как ни странно, проявляет самая слабая из его сторон – текст. Для своих поздних опер, которые именовались даже уже не операми, «но сценическими мистериями», Вагнер собственноручно изготовлял либретто. Так вот, если воспринимать тексты «Кольца Нибелунга» отдельно от музыки, они кажутся высокопарным бредом, нескончаемым потоком графомании. Но стоит зазвучать музыке – и строки оживают, как волшебный фонарь, в котором зажегся свет. Каждое слово становится осмысленным и пластичным, фигуры – не картонными куклами, а живыми характерами. Можно сказать, что для своих произведений Вагнер создает новый и лишь на первый взгляд странный немецкий язык – попирая правила фонетики, грамматики и стихосложения, он ломает старые «формулы» и изобретает новые. В иные счастливые моменты понимаешь, что имел в виду композитор, когда говорил, что в нем слова и музыка «рождаются вместе из первородного звука». Как бы там ни было, но факт: каждая из зрелых опер Вагнера – это законченное высказывание о таинствах бытия. О рождении ли и устройстве мира (то же четырехчастное «Кольцо Нибелунга»), о любви ли («Тристан и Изольда»), о смерти ли и жизни вечной («Парсифаль»)… И не случайно великий композитор, который сперва задумывал цикл опер исторических, с фигурой императора Фридриха Барбароссы в центре сюжета, вовремя «повысил ставку», сделав выбор в пользу мифа и его героев. Ведь только они «отражают суть человеческой природы вне зависимости от времени». А отсюда – новая задача: для принципиально нового искусства, пустившего в мир понятие «гезамткунстверк» («совокупное произведение искусств»), все должно было быть новым: и сцена, и публика.

Козима и Рихард Вагнер на своей вилле Ванфрид в компании Ференца Листа и Ханса фон Вольцогена. 1882 год
«Я остановил свой выбор на одном из небольших городов Германии , где не придется вступать в конфликт с большим театром или угождать привычкам избалованной публики», – писал Вагнер в 1862 году. Его выбор пал на городок Байрейт, жемчужину провинциального барокко, примерно равноудаленный от политических центров немецкого мира – Мюнхена и Берлина. Важно было и то, что административно Байрейт относился к личным владениям короля Людвига II Баварского – главного поклонника Вагнера , который, по отзыву самого композитора, «всегда защитит и поможет».
Муниципальный совет предоставил Вагнеру место для строительства театрального комплекса за городом, на склоне покрытого пышной зеленью холма. 22 мая 1872 года при сильнейшем ливне состоялась закладка этого «Дома торжественных представлений» («Фестшпильхауса»). Вместе с пресловутым «первым камнем» в тучную байрейтскую грязь легли поздравительная телеграмма от Людвига и четверостишие собственного вагнеровского сочинения, точный смысл которого до сих пор обсуждают историки:
«Здесь заключаю я тайну,
на многие сотни лет.
Пока хранит ее камень,
она будет являть себя свету»...
Справедливости ради заметим, что «здесь», в Байрейте, для самого автора четверостишия нашлось и место безопасного изгнания, пусть и комфортабельное. В Саксонии он, участник так называемой Дрезденской революции (восстания против абсолютизма – части общеевропейских волнений 1848—1849 годов) и друг анархиста Бакунина, долгое время числился среди разыскиваемых полицией преступников, в Париже его освистали, в Мюнхене ненавидели как «соблазнителя» короля Людвига: Вагнер действительно не только разорил своего мецената, но и сильно способствовал своими буйными идеями и разговорами его помешательству (а в конечном итоге смерти, больше похожей на убийство, чем на самоубийство). Кроме того, по всей Европе, от Кёнигсберга и Риги до Лондона, рыскали кредиторы – отдавать свои многочисленные долги композитор считал «не барским делом».
В порядке личного предположения выскажу и такую версию: полагаю, что веским аргументом в пользу Байрейта как места будущего «вагнеровского гнезда» стали его окрестности. Франкония – одна из самых живописных и, так сказать, одухотворенных областей Германии. Быстрые реки сбегают с отрогов Альп, густые леса покрывают мягкие холмы, древние церкви и руины замков хранят память о былом величии местного рыцарства. Вагнер немало путешествовал по округе, и несложно поверить, что именно уединенный замок Гёсвайнштайн, скажем, послужил прообразом замка Грааля в его опере «Парсифаль». Просматриваются и другие «ландшафтные прототипы»…
Вернемся, однако, к театральному проекту. Сам байрейтский Фестшпильхаус, вопреки расхожему мнению, был возведен не на деньги короля, а на заем, официально предоставленный Вагнеру баварской казной (этот кредит, кстати, был полностью возвращен вдовой композитора к 1906 году). Плюс – на строительство пожертвовали немалые средства музыканты – среди них Ференц Лист и Ханс фон Бюлов. Последнего от великодушного поступка не удержало даже то, что Вагнер увел у него жену – дочь Листа, Козиму. Более того, расторжение брака Козимы и Бюлова состоялось почти одновременно с закладкой Дома (к этому времени она уже успела родить Вагнеру троих детей). Впоследствии Бюлов стал и одним из первых дирижеров Фестиваля, «отомстив» его основателю лишь однажды брошенной где-то фразой: «В своих творениях он возвышен, а в поступках – низок»...

Винифрид Вагнер, сноха композитора, сопровождает близкого друга семьи Адольфа Гитлера по аллее виллы Ванфрид
Строился Байрейтский театр три с половиной года – при постоянных перебоях с деньгами и даже без заранее утвержденного проекта. За его сооружением стояли почти безрассудная решительность и невероятная энергия Вагнера, решившего «взять и просто из досок сколотить подобие большой конюшни». Даже верная Козима с некоторым ужасом писала в своем дневнике: «Они вырыли на холме яму, и из нее растет театр!» Образцом для Фестшпильхауса послужили, впрочем, не столько сельскохозяйственные постройки, сколько известный оперный театр в Российской империи, в Риге, где Вагнер однажды два года служил капельмейстером. Главные конструктивные особенности обоих строений: зал, сходящий вниз амфитеатром, «сценическая башня», в пространство которой сама сцена «укладывается» три раза (что позволяло быстро менять декорации), и «невидимая», низко упрятанная оркестровая яма со специальным полукруглым козырьком. Именно в силу этой последней особенности байрейтский оркестр звучит слегка приглушенно, «из мистической глубины». Эта специфика ставит непростую задачу перед дирижерами, но создает удивительный баланс между музыкантами и певцами, голоса которых оказываются «на равных» с музыкой, – к чему и стремился Вагнер.
К изначальной идее композитора восходит и минималистское внутреннее обустройство театра, действительно «сколоченного из досок» и лишь снаружи обложенного кирпичом. До самого недавнего времени публика сидела на жестких деревянных стульях – лишь пару лет назад их заменили чуть более удобными сиденьями (учитывая продолжительность опер Вагнера, это следует расценивать как акт высокого гуманизма). Впрочем, байрейтские завсегдатаи до сих пор приходят на спектакли с подушками, а элегантные дамы даже подбирают этот «аксессуар» в тон к платью.
«Праздник урожая»
Время проведения ежегодного фестиваля Вагнер назначил на август. Выбор не случаен: именно в этом месяце в окрестных франконских деревнях начинаются традиционные «праздники урожая», именуемые здесь «керва». В этакой музыкальной «керве», на которую потянутся «простые германцы» с корзинками свежего хлеба и фруктов, виделось Вагнеру и его великое действо: «зрители будут собираться в строго установленные дни представлений, причем приглашать я буду не только местных жителей, но и всех друзей искусства, ближних и дальних». Он даже допускал мысль, что исполняться на таких «музыкальных пикниках» будут не только его «мистерии», но и сочинения близких по духу коллег.
«Пейзанская идиллия», однако, так и не была реализована в Байрейте. Первый фестиваль открылся 13 августа 1876 года при большом и пышном стечении европейской знати… Среди журналистов, освещавших новое модное торжество, находились и два корреспондента из России, по профессии – композиторы: Цезарь Кюи и Петр Чайковский. Первый писал для «Санкт-Петербургских ведомостей», второй – для либеральной московской газеты «Русские ведомости». Ни тот, ни другой не принадлежали к числу вагнерианцев – Кюи, несмотря на личное знакомство с Вагнером, успел опубликовать статью «Лоэнгрин, или Наказанное любопытство» (о первой постановке этой оперы в Мариинском театре). Раздраженным недоумением дышали и нынешние его репортажи: «Весь Байрейт заинтересован теперь только и исключительно «Нибелунгами», ни о чем больше нет и речи».
Петр Ильич куда более серьезен, хотя от ощущения некоторой абсурдности происходящего не может избавиться и он. Так, открытие фестиваля он описывает следующим образом: «Перед моими глазами промелькнуло несколько блестящих мундиров, потом процессия музыкантов вагнеровского театра, потом стройная высокая фигура аббата Листа с прекрасной типической седой головой его, потом в щегольской коляске сидящий, бодрый маленький старичок с орлиным носиком и тонкими насмешливыми губами, составляющими характеристическую черту виновника всего этого космополитически художественного торжества – Рихарда Вагнера».
Таким предстал в глазах современников первый Байрейтский фестиваль. Итоги его были, мягко говоря, неоднозначны. «Кольцо», впервые исполненное, как того и требовал Вагнер, в качестве единого действа из «трех вечеров с прологом», – было принято публикой на ура, что не помешало антрепризе в целом потерпеть полный финансовый провал.
Лишь через шесть лет Рихард Вагнер сумел собрать средства для «второй попытки», ставшей в его жизни и последней. 13 февраля 1883 года отец-основатель Байрейта умер в Венеции от сердечного приступа.
Династия
Династический принцип «престолонаследия» установился после этого как-то сам собой. Сначала бразды правления взяла в руки та самая Козима Лист-Бюлов-Вагнер.
Уже через несколько дней после похорон мужа она взялась за дело и с риском для имиджа скорбящей вдовы денно и нощно выступала в роли антрепренера, финансового директора, специалиста по светским связям, а затем и режиссера. Несмотря на всеобщий скепсис, Козима довольно успешно устраивала на Зеленом холме многочисленные постановки опер покойного композитора, пересмотренные ею в разных городах. Лишь в 1907 году деятельная байрейтская вдова передала руководство фестивалем сыну Зигфриду, которому тогда уже исполнилось 38.
Зигфрид Вагнер оказался человеком небездарным. К этому моменту он уже сделал себе имя как поэт и дирижер, гастролировавший по всей Европе, в том числе и в России. Композитором он был, скорее, слабым. Однако «правление» его предстает в ретроспективе истории вовсе не таким беспомощным и неумелым, как на то любила позже намекать его жена. Зигфрид не только сам неплохо инсценировал отцовские оперы, большим знатоком которых, естественно, являлся, но и привлекал в Байрейт наиболее талантливых музыкантов и режиссеров. Он стоял у руля «предприятия на Зеленом холме» почти два десятилетия. Кроме того, за это время (в 1915-м) он успел сделать еще одно дело, имевшее для фестиваля кардинальные последствия: а именно, жениться на восемнадцатилетней девушке. Байрейту были нужны наследники, а Зигфриду – социальное алиби: гомосексуальные склонности, которые сын Вагнера никогда особенно не скрывал, сделали его «персоной нон грата» во многих ключевых кругах того времени.
Счастливым брак по вполне понятным причинам не был, несмотря на рождение четверых детей. Примерно в середине 1920-х годов их отец устранился от руководства фестивалем: к этому его подвигло не только состояние здоровья, но и давление со стороны «друзей Байрейта». Роль «второй Козимы» начала играть его жена Винифред Вильямс, к которой после смерти мужа в 1930-м году перешла вся полнота власти. Ее она и удерживала до самого 1944-го, когда байрейтская традиция прервется на 7 лет.
Слава Байрейта как колыбели «нордического духа» в его не лучших проявлениях берет начало еще в глубинах XIX столетия. Даже если оставить в стороне самого Вагнера с его «первородным антисемитизмом» и Козиму, считавшую своего Рихарда «могучим спасителем германского духа», фестиваль все равно не может похвастаться политкорректной исторической репутацией. И во многом «спасибо» за это следует сказать именно Винифред Вильямс. Ее большой любовью – кроме Зигфрида и оперного Лоэнгрина – был живой Адольф Гитлер, который, по некоторым свидетельствам, отвечал ей взаимностью. Во всяком случае, их связывали тесные дружеские отношения, укрепившиеся на почве общего преклонения перед основателем династии. Еще в 1920-е годы невестка Рихарда Вагнера стала членом НСДАП. В 1924 году, когда Гитлер сидел в мюнхенской тюрьме после «пивного путча», она организовала активный сбор средств в пользу заключенного: «Я спросила, что ему больше всего нужно. Он ответил: «Бумага!» И я стала присылать ему кипы бумаги»… Странно в этой связи, что после войны «байрейтская вдова» будет удивляться упрекам, что «на ее бумаге была написана «Майн Кампф».








