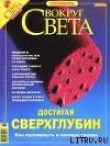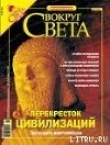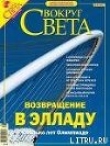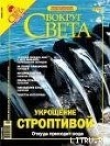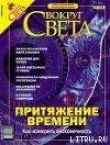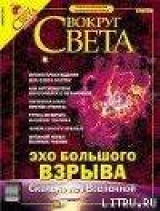
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №2 за 2004 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Совершенно новые микробиологические данные удалось получить в середине 1990-х годов. В образцах льда с глубин 3 551 и 3 607 м были обнаружены три вида термофильных бактерий, аналоги которых развиваются в гидротермальных источниках активных областей океанов и континентов при температурах 40—60°С. Найденные бактерии, по-видимому, обитают в горячих источниках на дне озера, используя для своей жизнедеятельности только неорганические соединения – водород, углекислый газ, тиосульфаты. Конечно, это только начальные результаты, но уже из них следуют важные и интересные заключения, позволяющие предположить, что гидротермальная деятельность в озере Восток в основном определяется местной циркуляцией талых вод в земной коре, когда они мигрируют вниз по разломам и трещинам на глубину нескольких километров, а затем возвращаются к поверхности озера, обогащенные неорганическими соединениями, служащими источником питания бактерий.
От Востока до Европы
Значение подледного озера Восток неизмеримо выросло после того, как на спутнике Юпитера Европе был открыт гигантский водный резервуар, изолированный лежащим сверху многокилометровым покровом льда. Дело в том, что, как полагают ученые, ядро Европы из-за тяготения самого Юпитера и двух других его спутников – Ио и Ганимеда, сильно раскалено, в то время как внешняя поверхность Европы охлаждена до –170°С. Такой контраст и создает соседство огромного панциря льда, прикрывающего гигантское подледное озеро или море. Таким образом, озеро Восток представляет собой земной аналог того, что можно ожидать на других планетах. Исследователей Европы особенно заинтересовали сообщения о возможности обнаружения в озере Восток биологической жизни. Сегодня подобная перспектива считается более чем вероятной, несмотря на то что микроскопические обитатели подледного озера должны существовать в экстремальных условиях – при полном отсутствии света, давлении в 350 атмосфер и постоянно низких температурах. Находка микроорганизмов в воде озера Восток будет означать, что, быть может, первая встреча с внеземной жизнью состоится именно на Европе.
О пользе чистоплотности
Исследование воды озера Восток, его донных осадков, отбор стерильных проб для биологических анализов – все это станет чрезвычайно важным этапом на пути познания прошлого нашей планеты, ее эволюции.Но по мере того как бурение на станции «Восток» близится к завершению, возникают и весьма серьезные проблемы. Ведь из-за высокой пластичности льда бурение в нем возможно только при заполнении скважины незамерзающей жидкостью с такой же, как у льда, плотностью. В настоящее время для этих целей используются жидкости типа керосина, растворы спиртов и сложные эфиры. Все эти соединения имеют один общий и очень существенный недостаток – они токсичны.
Причем к отравляющему действию этих жидкостей особенно восприимчивы низшие формы жизни. Когда скважина дойдет до дна и проткнет весь его 4-километровый слой, какая-то часть заливочной жидкости попадет в озеро, что, конечно же, нежелательно.
Возникает непростая инженерная задача – предотвратить загрязнение озера в конце бурения льда. Правда, расчеты отечественных специалистов показывают, что такое загрязнение будет пренебрежимо мало – одна молекула на один кубометр воды в озере. Но все равно возражения ряда ученых, опасающихся загрязнения этого уникального водоема, существуют.
Чтобы не допустить попадания в озеро токсичных веществ, в 1998 году на заседании SCAR (Scientific Counsil for Antarctic Research) – Международного научного комитета по антарктическим исследованиям – было принято решение о приостановке бурения до выработки экологически безопасного способа проникновения в подледный водоем. На сегодня скважина пройдена до глубины 3 623 м, а это означает, что до поверхности озера осталось около 150 м.
К сожалению, вокруг чисто научной и технологической проблемы соблюдения стерильности при проникновении в уникальное озеро стали разгораться страсти, не имеющие к науке никакого отношения. Российские исследователи столкнулись с явным нежеланием ряда государств отдавать приоритет в изучении озера Восток нашей стране. Появились даже предложения вообще запретить бурение российским специалистам, законсервировать скважину и начать проникновение в озеро, используя, например, американские технологии. Решение вопроса о возобновлении бурения на станции «Восток» затягивается под различными, подчас надуманными, предлогами. Более того, российским ученым стало очень трудно публиковать свои работы, относящиеся к исследованию озера Восток, в зарубежных научных журналах. В то же время из любого сообщения на ту же тему их иностранных коллег делается сенсация. Все это происходит из-за опасений некоторых зарубежных организаций лишиться мощного финансирования, если Россия первой достигнет реликтового озера. Отечественные специалисты накопили колоссальный опыт глубинного бурения, именно они на протяжении нескольких десятков лет заботились о стерильности керна и скважины, и нет никаких причин для сомнений в их профессионализме.
В настоящее время в Санкт-Петербургской горной академии разработана экологически чистая технология проникновения в подледниковое озеро, основанная на использовании безопасных кремнийорганических заливочных жидкостей и получившая положительное заключение специалистов. В ближайших планах Российской антарктической экспедиции – пробурить оставшиеся 125 м ледниковой толщи над озером. Сначала предполагается преодолеть 50 м, чтобы получить новый ледяной керн и на новых образцах подтвердить гипотезу о существовании термофильных бактерий в водной среде озера, а затем и войти в озеро, не загрязнив его, чтобы определить характеристики газового и химического состава озерной воды и микробных сообществ, населяющих озеро и его донные осадки. Итак, близится к концу грандиозный научный проект бурения скважины на станции «Восток», начатый в 1970-х годах. Ему на смену идет не менее грандиозное исследование подледного озера Восток. И сегодня есть все основания полагать, что очень скоро мы получим из Антарктиды данные о прошлом климате Земли на протяжении последних 800 тыс. лет, что имеет не только познавательный интерес, но, безусловно, поможет понять проблему глобальных изменений в грядущем столетии.
Лед, нефть и газ
Доказанное теперь – и теоретически, и экспериментально – подледниковое таяние в Центральной Антарктиде имеет весьма важные следствия. Наличие жидкой воды под многокилометровой толщей ледникового покрова, очевидно, приводит к формированию подледниковой дренажной сети. Подледниковые воды в центре ледниковых щитов типа Антарктического служат гидравлическим передатчиком высокого давления воды в глубинные слои горных пород. Это вызывает движение жидкостей и газов в породах к периферии щитов. Таким образом можно объяснить крупные залежи нефти и газа в периферических частях древних ледниковых покровов Европы и Америки. Отсюда ясно, что и в Антарктиде край ледникового покрова и обрамляющие его области антарктического шельфа могут содержать значительные скопления нефти и газа.
Владимир Котляков, академик РАН, директор Института географии
Люди и судьбы: На грани риска

Когда его крестили в холодной купели, он недовольно фыркал и все пытался вырваться. «В деда крепыш!» – с гордостью говорили родные. Дед Чкалова всю жизнь ходил бурлаком по Волге, исполинской силы был человек – характером, правда, лютый, зато отходчивый и справедливый.
Валерий Чкалов родился десятым ребенком в семье мастера-котельщика волжского речного пароходства Павла Григорьевича Чкалова ровно 100 лет назад – 2 февраля 1904 года. Его мать Арина Ивановна умерла, когда ему, младшему в семье, было всего 6. Отец привел в дом новую хозяйку, Наталью Георгиевну, и просил ее не пугаться его оравы. Валерий до конца своих дней обожал мачеху и неизменно звал мамой. Она тоже выделяла его из других детей и прощала любые выходки. В селе Василево под Нижним Новгородом, где рос Валерий, его запомнили как отчаянного драчуна и бесстрашного предводителя ватаги кулачных бойцов.
В 1919 году Череповецкое училище, в котором недолго обучался мальчишка, закрыли: голод, средств нет. Многие их соседи ушли в Красную Армию. 15-летний Чкалов, естественно, слышал и о большевиках, и о крейсере «Аврора», и о том, что кругом одни враги и надо защищать молодую Советскую республику. Вряд ли он до конца понимал, кто, за что и против кого борется, но, как для всех мальчишек того бурного времени, для него существовали такие понятия, как «наши» и «не наши». «Нашими» в его понимании, учитывая происхождение, были, конечно, те, кто составлял его ближайшее окружение – рабочие, трудяги, и он горой стоял за них.
Один из соседей Чкаловых служил в Нижнем Новгороде в авиационном парке и часто рассказывал о самолетах. Валера заболел ими заочно, сразу почуял, что это – его. Сосед этот составил протекцию – и в авиапарк парня взяли. Пару лет Чкалов простоял на сборке самолетов и понял: или летать, или… Впрочем, никакого другого «или» быть не могло – летать. И тут судьба бросила жребий в виде четырех путевок в Егорьевскую авиашколу. Зажмурив глаза, он повторял про себя властное заклинание: «Меня возьмут, меня, меня!» И его взяли… С этого момента учился Чкалов много, упорно и жадно: с 1922-го по 1923-й прошел полный курс в Борисоглебской школе военных летчиков, совершенствовался в Московской военно-авиационной школе высшего пилотажа и практически одновременно, в 1923—1924-м, окончил Серпуховскую высшую авиационную школу стрельбы, бомбометания и воздушного боя. В конце концов Валерий Чкалов стал летчиком-истребителем Военно-воздушных сил Красной Армии. Его зачислили в эскадрилью под Ленинградом.
Взлет воздушного хулигана
Аттестат летчика выдали романтику и хулигану. Начальство смекнуло это быстро. Молодой истребитель Чкалов проявлял себя скорее не как военный, а как художник-новатор. Ему было невмоготу ограничиться подчинением приказу – он нуждался в творчестве, он ловил вдохновение. Например, обнаружилось, что большинство летчиков не умеют точно сажать самолет с выключенным мотором на намеченную площадку при вынужденной посадке. Для этого командир эскадрильи приказал при подходе к аэродрому установить некие ворота 10-метровой высоты на расстоянии 20 метров друг от друга.
Задача заключалась в том, чтобы пройти в ворота, ничего не зацепив. Тренировались азартно, и Чкалов азартнее всех.
Как-то Валерий на крошечном истребителе вертелся над Невой у Троицкого моста. «Пройду или не пройду под мостом, не задев?» – вертелась в голове крамольная мысль. Но мысль мыслью, а руки уже приняли решение, и мост понесся на летчика с фантастической скоростью. Вниз, в середину, ровнее. Нырок. Прошел!
Что за такое полагается? Гауптвахта – это еще слишком хорошо. Но командир Антошин явно благоволит к смельчаку. Да тот особенно и не оправдывается – грубоватая прямота Чкалова будет многих подкупать.
– Не могу топтаться на том, что давно освоил, – и Чкалов шумно виновато вздыхал.
Через несколько лет за очередное самовольство он оказался в брянской тюрьме – его осудили на год за то, что, пытаясь научить по собственной инициативе звено истребителей бреющим полетам, он вовремя не заметил низко провисшие провода, и все самолеты врезались в них. К счастью, обошлось без жертв. И его начальство можно было понять – Чкалов самовольничал в тот период, когда с аварийностью в Красной Армии дела обстояли просто трагически: изношенность старой техники, плохое качество самолетов и, кроме того, совсем низкий опыт боевого состава – виртуозов среди них почти не было, не хватало ни школ, ни инструкторов, ни летных часов для тренировок.
Однако Чкалов был честолюбив. И рано узнал себе цену: он – не как все, отнюдь. Если другим на освоение фигуры требовалось 50 летных часов, ему было достаточно пяти. Горячему летчику не терпелось, чтобы это наконец заметили. И случай представился. В 10-летнюю годовщину Октября в Москве на Центральном аэродроме организовали воздушный парад перед Реввоенсоветом республики. Старший летчик Валерий Чкалов настороженно ждал: пригласят или нет? Нареканий и выговоров у него, пожалуй, так много, как ни у кого. Менее дисциплинированного найти было трудно во всех ВВС. С другой стороны, ни для кого не секрет, что он непревзойденный мастер высшего пилотажа, лучший стрелок и в воздушном бою ему нет равных. Пригласили. 8 ноября Чкалов взлетел с Ходынского поля для свободной демонстрации фигур высшего пилотажа. Не ограниченный никакими предписаниями полет! На него смотрит сам Ворошилов, на него смотрят прославленные полководцы Гражданской…
Будущий соратник Чкалова и его друг летчик Г. Байдуков так описывал этот полет: «Чкалов, спикировав с высоты, то заигрывал с землею, чуть не задевая ее крылом самолета в двойных и учетверенных, но эластично-мягких и точных переворотах через крыло, то ввинчивался вверх, восстанавливая высоту, где завершал подъем красивым иммельманом или удивительно неожиданным и необычным полетом вниз головой. По резвой веселости и чистоте этот полет Чкалова напоминал полеты стрижей в летнюю пору». Аэродром взорвался громом аплодисментов. Чкалову было приказано выдать «денежную награду».
Пройдет несколько лет, и неукротимая творческая фантазия Чкалова толкнет его на самостоятельное изобретение и оттачивание совершенно новых фигур высшего пилотажа. Как все новое, поначалу они были восприняты в штыки, а Чкалова, как обычно, заклеймили «нарушителем». А он просто был неугомонным искателем. Почему, например, так часто гибли летчики, вошедшие в перевернутый штопор, то есть колесами вверх? Чкалов придумал прием «замедленной полубочки» – для выхода из этого положения. Сначала машина неторопливо и плавно заваливалась на крыло, потом, перевернувшись на спину, удерживалась в этом положении, после чего плавно возвращалась в обычное горизонтальное.
В 1920-е годы развитие авиации рассматривалось как одна из первостепенных задач государства. Гражданская война закончилась, хотя мирными те годы назвать было нельзя, и от обороноспособности страны зависело немало, чтобы не сказать все. Ленин создал Комиссию по выработке 10-летней программы авиавоздухостроительства, при этом особое значение придавалось истребительной авиации. Надо было рывком, на энтузиазме, героическим усилием, уже успевшим стать нормой жизни, догнать и перегнать Запад, пока же наше отставание в небе было катастрофическим. В 1921 году объявили конкурс на создание отечественного истребителя. Тогда-то и были построены первые советские самолеты – И-1 конструкции Д.П. Григоровича и Н.Н. Поликарпова, МК-21 – М.М. Шишмарева и В.Л. Коровина. Весной 1930 года те же Поликарпов (с которым отныне свяжет свою судьбу Чкалов) и Григорович выпустили высокоманевренный, вооруженный 4 пулеметами истребитель И-5, развивавший скорость до 300 км/ч. В общем, партия сказала «надо», и ресурсы нашлись. В невероятно короткие сроки страна получила множество новых самолетов-истребителей. Но прежде чем пускать новичков в дело, машины предстояло испытать.
В те годы это происходило в «святая святых», самом авторитетном для конструкторов и испытателей месте – в Московском научно-испытательном институте ВВС. НИИ находился в районе Ленинградского шоссе при Центральном аэродроме, вокруг располагалось множество самых различных авиационных – военных и гражданских – ведомств. В общем, среди людей понимающих НИИ ВВС имел статус храма авиации. И в этот «храм» назначили на службу Валерия Павловича Чкалова.
Здесь он впервые понял, что такое «выучить самолет наизусть», как вокруг шутили. Чкалов отлично знал, что такое чувствовать машину, сливаться с ней, теперь предстояло изучить ее до мельчайших деталей. В строевой авиации этого не требовалось. И тут оказалось, что он, Валерий Чкалов, совершенно научно и технически не подкован. Самомнения – море, а знаний – с ноготок. Ему тотчас стало ясно, что при всей его виртуозной воздушной технике он попросту не подступится к испытаниям самолетов, не вникнув в конструкцию, не изучив аэродинамику, гироскопию, термо-и газодинамику, теорию устойчивости и управляемости самолета. К счастью, было у кого поучиться: вокруг работали такие знаменитые истребители, как Громов, Юмашев, Анисимов, Козлов, Залевский.
Институтское командование требовало, чтобы летчики-испытатели умели грамотно летать на всех выпускаемых видах истребителей. И Чкалову в самом деле довелось «научить летать» около 70 типов самолетов: истребителей, разведчиков, бомбардировщиков… Ему, в частности, принадлежит честь испытания уникальной «воздушной этажерки» конструкции В.С. Вахмистрова – бомбардировщика с двумя истребителями на крыльях.
Не раз при испытаниях самолетов Чкалов оказывался в смертельной опасности. Во время одного из полетов на И-17 он не сумел выпустить правую «ногу» шасси, а сажать самолет на одну ногу было смертельно опасно. Надо было выбирать: либо спасать себя, выбросившись из кабины с парашютом, либо, балансируя на грани жизни и смерти, искать решение по спасению машины. Он уже видел, что на земле вместо посадочного знака выложили крест – призыв воспользоваться парашютом. Но Чкалов был упрям. Уже низко идя над землей, он выключил мотор. Самолет коснулся взлетной полосы и побежал по земле, все больше кренясь на правую сторону. Аэродром в ужасе замер – катастрофа казалась неизбежной. Но Чкалов довольно улыбался: он был абсолютно спокоен. Скорость самолета резко падала, и через мгновение машина безопасно замерла.
Во время приземлений
Ольгу Эразмовну Орехову Чкалов увидел на новогоднем балу в Ленинграде в декабре 1924 года. Тогда она была студенткой Педагогического института имени Герцена. Ему запомнились ее синие глаза и благородная строгость лица. Ей – его дерзкий взгляд, напоминающий взгляд могучей птицы, и исходящая от него богатырская сила. Потом, в одну из встреч, Чкалов подарил Ольге свою фотографию с подписью на обороте: «Той, которая может заполнить мою жизнь». Но она колебалась. Недалеко от дома, где они жили, у Черной речки, находился аэродром. И нередко Ольге и ее родным приходилось видеть аварии самолетов и гибель летчиков. Словом, отец девушки был категорически против этого брака. Но она никого не послушалась. Один из самых малоизвестных фактов биографии летчика заключается в том, что он, офицер Красной Армии, уговаривал свою невесту венчаться! Нет, не потому, что Чкалов был тайно верующим, тут было замешано другое: на венчании настаивал его отец Павел Григорьевич, церковный староста в Василевой Слободе. И Чкалов счел более важным остаться покорным сыном, что означало в те годы стопроцентно рискнуть своим положением в ВВС, выплыви ситуация на поверхность. Но к риску ему не привыкать. Зимней ночью 1927 года жених привел дрожащую от страха Ольгу в одну из действующих ленинградских церквей, где их уже ждал батюшка.
Чкалов мечтал иметь большую семью и сразу договорился с женой по крайней мере о шестерых детях. Увы, она успела родить ему только троих, и младшая дочь Ольга появилась на свет уже после гибели отца. Как и все семьи летчиков, они подолгу жили в разлуке. В Москву Чкалов сумел забрать жену со старшим сыном только через 2 года после того, как переехал туда сам. Жили сначала в гостинице «Националь», потом в коммуналке, и только в 1934 году Чкалов заслужил отдельную квартиру на Земляном валу с видом на Садовое кольцо. В том же доме жили многие летчики – Байдуков, Беляков, Громов, Юмашев, Данилин.
Валерий Павлович обожал гостей и застолье. Когда он бывал дома, у него за столом собиралась компания до 100 человек. Он всех поил, кормил, доставал самые лучшие продукты. У Чкаловых бывали актеры – Козловский, Москвин, Качалов, Тарханов, писатели – Шолохов, Толстой, Пришвин, Лебедев-Кумач… Много пили, много шутили, пели бурлацкие песни, которые помнил Чкалов, иногда просили Козловского «тихо-тихо», чтобы не слышали соседи и не донесли, спеть блатные песни. И комично подпевали ему шепотом. Это были самые счастливые моменты для Ольги Эразмовны, потому что обычно муж не ставил ее в известность о своих планах и командировках, уезжал и приезжал, когда считал нужным. Она научилась не задавать лишних вопросов, и ей пришлось научиться ждать. Он часто писал ей письма, множество писем, в которых изливал душу. «Скучаю, хандрю и теряю здоровье и, поверь, только из-за того, что нет тебя рядом со мной, – писал он из очередной командировки. – Я стал летать хуже, и я это чувствую, нет тебя, нет той энергии, которую я приобретал, глядя на тебя. Ты мне нужна в жизни, как хлеб и воздух».
Набор высоты
Вопреки распространенной версии вовсе не Чкалову принадлежала идея перелететь через Северный полюс. Мысль эта впервые возникла у героя челюскинской эпопеи, полярного летчика Сигизмунда Александровича Леваневского. В начале 1935 года он обратился к Сталину с проектом беспосадочного полета из Москвы в Сан-Франциско через Северный полюс. И Сталин проект одобрил. Расчеты показывали, что кратчайший воздушный путь из Москвы до Сан-Франциско через Тихий океан составляет около 18 тысяч километров, через Атлантику – примерно 14 тысяч, а через Северный полюс – всего 9 605.
В первых числах августа того же года Леваневский отправился в это историческое путешествие, но уже через 10 часов, над Баренцевым морем, экипаж повернул обратно из-за сильной утечки масла. В докладе Сталину Леваневский сообщил, что на одномоторном самолете АНТ-25 вообще нельзя лететь через полюс в Америку. Тогда Сталин принял решение отправить Леваневского за границу, чтобы он там купил подходящий самолет. Но подходящей летной машины, как ни странно, и там не нашлось.
Чкалов, узнав эту историю, тотчас «взбаламутился». Он знал АНТ-25 как свои пять пальцев. Машина – отличная. В ней были сосредоточены все новинки авиационной техники: здесь впервые применили убирающиеся в полете шасси с масляными амортизаторами и электрифицированным подъемом. Мотор выдающегося российского конструктора А.А. Микулина тоже отлично себя зарекомендовал. В общем, глаза у Валерия Павловича загорелись, в нем вновь проснулся авантюрист. На ставшей привычной испытательской работе он начал уже немного закисать. Предполагаемый экипаж – Чкалов, Байдуков и Беляков – написал записку в ЦК о новом проекте. С ними встретился сам Сталин. Чкалову он показался тогда добродушным, терпимым и весьма тепло к ним настроенным.
– На такой большой риск не благословлю, – отечески пробасил Сталин. – А на маршрут Москва—Петропавловск-на-Камчатке согласен.
Чкалов было собрался возразить, но что-то в глазах Сталина остановило его. Это – приказ, значит, нужно выполнять. Они отправились в путь 20 июля 1936 года.
Позади были 56 часов беспрерывного полета. Перед его глазами промелькнули взлохмаченные волны, потом песок, осока, галька… Последнее нечеловеческое напряжение сил – и Чкалов, используя весь свой опыт маневренника, посадил самолет там, где его посадить было практически невозможно. Вокруг – глубокие овраги, заполненные водой, валуны, крупная галька. Остров Удд. Вокруг путешественников суетились местные жители – нивхи (гиляки), которые говорили что-то на своем языке. В конце концов летчики приютились в какой-то хижине и заснули богатырским сном. Наутро их разбудил незнакомец, доставивший телеграмму: «Примите братский привет и горячие поздравления с успешным завершением замечательного полета. Ходатайствуем о присвоении вам звания Героев Советского Союза. Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Ворошилов, Жданов».
В Москву встречать победителей на аэродром Щелково прибыло все правительство. Чкалов с женой ехали по улицам в открытой машине, и их со всех сторон забрасывали цветами. Валерий Павлович счастливо улыбался, но в глубине души досадовал: сорвалась его очередная затея, осуществлению которой он бы обрадовался куда больше почестей. Чкалов просил правительство, не просто просил, а почти молил, чтобы после сумасшедшего перелета в Арктику ему позволили отправиться на войну в Испанию. Ему не терпелось проверить приобретенное на «гражданке» мастерство в реальных военных условиях: он мечтал на многожды им испытанном И-16 вступить в схватку с фашистскими МЕ-109. Но этого ему не позволили.
Его потом донимала крамольная мысль самовольно удрать в Испанию с парижской авиационной выставки, куда он был делегирован, но он все-таки воздержался. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала по поводу путешествия «Москва—Петропавловск»: «Этот перелет возвещает всему миру, что советская авиация действительно способна догнать и перегнать страны Запада, что Советский Союз не только имеет превосходных пилотов и конструкторов, но что советские заводы овладели техникой постройки первоклассных самолетов».
Разумеется, Чкалов не был бы Чкаловым, не сумей он «дожать» проект перелета через Арктику в Америку. 18 июня 1937 года они отправились устанавливать мировой рекорд в том же составе: Чкалов – командир, Байдуков – второй пилот, Беляков – штурман, и на том же испытанном АНТ-25. Вот как очевидец и очеркист Лев Кассиль описывал их легендарный взлет: «Кругом было еще темно. А здесь свет прямоугольных прожекторов вырубил в синем прохладном массиве ночи лучистые параллелепипеды света. Шла экипировка самолета. Самолет поставили на весы. Начали заливать в баки горючее. Из Москвы привезли в тепло укутанных бидонах горячее масло. Потом заправленную, готовую к полету машину выкатили из ангара. У нее было ослепительно белое, узкое тело, черная голова с красным клювом в центре серебряного трилистника-пропеллера, алые, лакированные крылья с надписью на борту: „Сталинский маршрут“. Медленно и осторожно буксировали тяжело нагруженную машину по бетонной, выложенной из шестигранников дорожке на стартовую горку. Автомобиль-тягач осторожно тянул за упругие веревки, прикрепленные к шасси самолета. Чудесная краснокрылая воздушная машина неуклюже, хвостом вперед тащилась по дорожке, в чужой ей стихии земли и бетона.
Доктор разбудил летчиков. Герои шутливо отнекивались и молчали. Потом Чкалов, Байдуков и Беляков надевали специальное обмундирование: сперва шелковое белье, затем шерстяное, потом свитеры, наконец, меховые чулки и унты. Одевшись, летчики с аппетитом позавтракали. Неторопливо собрали затем они свои дорожные вещи, маршрутные карты, приборы.
Весь маршрут был начерчен в разрезе на листе бумаги. Вот равнина полюса, вот высокие зубастые горы на границе Америки и Канады.
Полюс! Еще вчера казалось пределом мечтаний: завоевать полюс, сесть на макушку земли, обосноваться там. И вот это уже совершено, и сегодня не знающие покоя и остановок большевики приступают к использованию этой исторической победы над полюсом».
Когда пролетали сам полюс, Чкалов беспробудно спал – это было не его дежурство. Товарищи не стали его будить, что он им потом долго не мог простить. Они без него полюбовались сплошной панорамой льда, отсвечивающего разноцветными красками. Однако после его прохождения начались неприятности. Самолет то и дело попадал в циклон, запасы кислорода иссякали. Силы летчиков и так были почти на исходе, когда Байдуков заметил, что лопнула трубка водяной системы охлаждения мотора. 5—6 минут, и мотор разорвет на куски! Положение спасла находчивость Чкалова. Он бросился к резиновым мешкам с питьевой водой и срочно стал сливать воду в бачок. Несколько минут титанических усилий и дьявольского напряжения нервов, и – проклятый насос заработал.
Мировой рекорд установлен! Экипаж Чкалова долетел всего за 63 часа 16 минут, побив собственный рекорд беспосадочного полета, покрыв за это время расстояние в 11 340 километров. В Белом доме президент Рузвельт долго жал Чкалову руку и даже при помощи помощников поднялся на парализованные ноги, чтобы поприветствовать героев стоя. Открытый, непосредственный летчик чрезвычайно понравился американскому президенту. В нем не было ни напряженности, ни заискивания, ни фальши. С широкой улыбкой оглядев кабинет Рузвельта, неторопливо рассмотрев висящие по стенам картины на морскую тематику, Чкалов заметил: «Вам бы сюда нашего Айвазовского». Рузвельт радостно закивал в ответ: «О, я очень люблю Айвазовского».
Русским были посвящены все первые полосы газет, на бесконечных приемах им приходилось пожимать руки тысячам людей. Им не давали проходу на улицах: полицейские, мальчишки, таксисты, старые дамы и Бог знает кто еще просили у них автограф. Чкалов даже растерялся: «За эти три дня я понял, я стал такой исторической ценностью, что даже чувствую, как тело каменеет и покрывается налетом и плесенью подвалов, в которых хранятся документы прошлого».
Из Америки экипаж возвращался на пароходе «Нормандия». На том же пароходе ехала Марлен Дитрих. Чкалов не видел ни одного ее фильма, но на Западе часто встречал ее роскошные фотографии. Марлен очень нравилась ему. Со своей всегдашней непосредственностью Чкалов купил в порту огромный букет белых роз и положил у каюты Дитрих, приколов к цветам записку с подписью «В. Чкалов». Он вполне искренне забыл, что отныне у него самого ничуть не менее громкое имя, чем у кинозвезды. Случись эта ситуация лет десять назад, когда о нем никто слыхом не слыхивал – он бы поступил точно так же. Впрочем, Марлен сочла Чкалова вполне достойным того, чтобы черкнуть ему пару слов благодарности и пригласить «заглянуть». По ее позднейшим воспоминаниям, он показался ей «диким, неотесанным и не знающим политеса», но и – способным прямо выражать свои чувства. «У такого чувства горячи. Можно обжечься, зато теперь это редкость…»
Победителей не судят, за ними охотятся
Наконец герои прибыли в Москву. Шел 1937 год. Начавшийся пару лет назад «роман» Сталина с Чкаловым стал получать опасное продолжение. Ворошилов представил Чкалова Сталину еще в 1935 году. По воспоминаниям современников, Сталин любил «своего героя-летчика». Он вообще был неравнодушен к авиаторам. Вскоре после знакомства Сталин выделил любимцу автомобиль с водителем, а в придачу подарил личный самолет – По-2. Эту машину Валерий Павлович держал в ангаре Химкинского авиазавода, а по выходным катал на нем сына и бесчисленных друзей. После перелета на остров Удд Сталин пригласил всех членов экипажа с семьями на свою дачу в Сочи. Кроме того, требовал, чтобы Чкалов присутствовал на всех торжественных государственных мероприятиях. Например, в 1938 году на встрече папанинцев сразу после речи Сталина выступал Чкалов. Честь редкая. Главный романтик страны превращался в «протокольную фигуру». Он отнюдь не стремился к тому, чтобы попасть в советскую элиту, это вышло само собой. Чкалову и так отчаянно завидовали, а теперь-то и подавно! Его популярность в стране была огромна. Еще при жизни его именем называли аэроклубы, города, предприятия, школы. Сам он чувствовал себя страшно неловко, приезжая, например, в родной город, названный его именем. Будто он уже памятник!