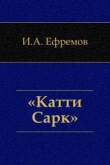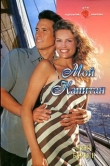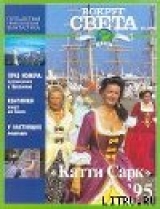
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №1 за 1996 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Самое сложное в портрете, – это веки, глаза. Глаза решаются одним движением, второй раз такую же линию не проведешь, только испортишь работу. И камень. В вечном материале ошибаться нельзя, иначе увековечишь свое неумение...
В этом, видимо, и заключается феномен глиптики: вечный материал требует вечной темы. Резчик не вправе размениваться на сиюминутные образы, его искусство живет вне времен – какие бы ветры не веяли на дворе, какие бы новые кумиры не правили этой грешной землей... Ибо в действительности миром правит одна Красота.
Иначе почему мы так завороженно – затаив дыхание, забыв обо всем на свете, – заглядываемся на эти «милые безделушки», эти резные камни, – и нам, по большому счету, все равно, кто сотворил это чудо – неизвестный александрийский мастер, живший две тысячи лет назад, или московский художник, живущий здесь, среди нас, на исходе двадцатого века...
Алексей Шлыков
Исторический розыск: Еще раз о гибели крейсера «Жемчуг»

История появления памятной доски началась с очерка Елены Чекулаевой «На рассвете, в Пинанге...», напечатанного в журнале «Вокруг света» (№2/95). В нем описывалась гибель русского крейсера, какой она представлялась «по материалам пожелтевших местных газет» малазийской столицы Куала-Лумпура. И, кроме того, в очерке рассказывалось о памятнике на могиле русских моряков, поставленном в советское время, за которым ухаживала судоходная компания «Хай Тонг Шиппинг», чьим руководителем как раз и является господин Тео, одновременно состоящий Почетным консулом Российской Федерации в Пенанге.
Но все дело в том, что памятник был безымянным: «Русским военным морякам крейсера «Жемчуг» благодарная Родина» – этой надписью исчерпывались все сведения о наших соотечественниках, погибших вдали от России. И помня еще недавно столь популярные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто», в журнале «Вокруг света» решили разыскать имена погибших моряков и увековечить их на русском памятнике в Пенанге. Имена 88 погибших были разысканы в Российском государственном архиве Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Редакция журнала «Вокруг света» выделила деньги на изготовление памятной доски. Ее эскиз сделал один из старейших работников Института океанологии Российской академии наук В.Буренин, методами компьютерной графики он был реализован художником журнала «Вокруг света» К.Янситовым. Латунная доска размером 30x40 см была заказана московской фирме ВЛАНД.
Получив такой необычный заказ, руководитель фирмы Владислав Борисов сообщил редакции, что, по общему согласию работников фирмы, доска в память русских моряков, похороненных далеко от России, будет изготовлена безвозмездно. Доска была освящена в храме Святителя Николая в Хамовниках, после чего вместе с корреспондентами журнала «Вокруг света» отправилась в Малайзию.
Большую помощь оказал представитель Совфрахта в Куала-Лумпуре К.Простаков, договорившийся о технических моментах установки доски на памятнике и осуществлявший связь с городом Пенанг (Джорджтаун), расположенном на острове в двухстах с небольшим километрах от Куала-Лумпура. Российский посол В.Я.Воробьев, занятый неотложными делами, передал корреспондентам через своего помощника, что доской займется Почетный консул России в Пенанге.
«Мы сделаем все для их памяти», – сказал господин Тео Сен Ли по-русски, принимая памятную доску. И он выполнил свое обещание. В октябре 1995 года, как только были преодолены последствия наводнения, сильнейшего за последние три десятилетия, в которое попали и корреспонденты нашего журнала, оказавшись в Пенанге, доска была установлена на памятнике. Редакция журнала «Вокруг света» получила фотографии, запечатлевшие установку доски.
В ходе исторического поиска стали известны новые сведения о гибели крейсера «Жемчуг», судьбе его командира, а также судьбе памятника на могиле русских моряков. Эти сведения, часть из которых впервые появляется в печати, вызвали необходимость исторически достоверно восстановить трагический эпизод истории Российского флота и последовавшие за этим события, сфокусировавшиеся на русском памятнике в Пенанге.
И так, 13/26 октября 1914 года «Жемчуг», крейсер Сибирской флотилии, с началом военных действий откомандированный в союзную англо-французскую эскадру, вернулся в порт Пенанг, на острове того же названия в Малаккском проливе, откуда в конце сентября ушел в поход на поиски немецкого крейсера «Эмден». Командир «Жемчуга» капитан 2 ранга барон И.А.Черкасов получил от английского адмирала Джерама, в подчинении которого находился, разрешение на семидневный заход для переборки механизмов и чистки котлов. В связи с действиями в этом районе «Эмдена», командиру русского крейсера было рекомендовано принять все меры предосторожности, стоя на якоре в бухте Пенанг. Но кавторанг Черкасов должных мер не принял, практически не подготовив корабль к возможному нападению «Эмдена». Сам же вечером 14/27 октября съехал на берег к жене, вызванной им в Пенанг из Владивостока на время стоянки «Жемчуга».
Рано утром 15/28 октября в Пенанг вошел рейдер «Эмден», который, как утверждал в своих воспоминаниях его старший офицер Хельмут фон Мюкке, надеялся застать здесь французские броненосные крейсера «Монкальм» и «Дуплекс» и атаковать их во время стоянки на якоре. Немцами была предпринята военная хитрость: поставлена четвертая фальшивая труба из брезента, так что при плохой видимости «Эмден» мог сойти за английский крейсер «Ярмут». Французский миноносец «Муске», несший охранную службу, попался на эту уловку и в предрассветных сумерках пропустил «Эмден» в бухту, даже дав «добро» световым сигналом.
В бухте среди освещенных «купцов» «Эмден» обнаружил лишь один темный силуэт военного корабля. Подойдя почти вплотную к его корме, немцы установили, что это – русский крейсер «Жемчуг». Тот же X. фон Мюкке вспоминает:
«На нем царили мир и тишина. Мы были так близко от него, что в слабом свете зарождавшегося дня отчетливо было видно все, что делается на русском крейсере. Но ни вахтенного начальника, ни вахтенных, ни сигнальщиков не было заметно. С дистанции около одного кабельтова (185,2 м —авт.) мы выпустили свою первую мину из правого бортового аппарата и в тот же момент открыли огонь всем бортом по носовой части «Жемчуга», где в своих койках спала большая часть команды. Наша мина взорвалась в кормовой части крейсера. Его всего как бы всколыхнуло от этого взрыва. Корму подбросило из воды, а затем она стала медленно погружаться. Только после этого русские обнаружили признаки жизни...
Между тем наша артиллерия поддерживала бешеный огонь по «Жемчугу»... Носовая часть крейсера была изрешечена в несколько минут. Языки пламени охватили весь полубак. Сквозь дыры в борту виден был противоположный берег.
Наконец на «Жемчуге» собрались с силами и открыли по нам огонь. Орудия на нем были крупнее наших, и русские снаряды могли причинить нам большой вред. Поэтому командир решил выпустить вторую мину. «Эмден», проходя мимо «Жемчуга», развернулся машинами и вновь направился к нему. Вторая мина была выпущена с расстояния около двух кабельтовых. Через несколько секунд послышался страшный взрыв под передним мостиком русского крейсера. Гигантский столб серого дыма, пара и водяных брызг поднялся на высоту около 150 м. Части судового корпуса были оторваны взрывом и летели по воздуху. Видно было, что крейсер разломился пополам. Носовая часть отделилась. Затем дымом закрыло весь корабль, и когда он рассеялся, крейсера уже не было видно, из воды торчали лишь обломки его мачты. На воде среди обломков кишели люди. Но «Эмдену» было не до них».
Навстречу уходившему «Эмдену» ринулся французский миноносец «Муске», поздно понявший свою трагическую ошибку. Его атака была жестом отчаяния – тремя залпами он был потоплен «Эмденом». Находившийся в воде раненный лейтенант Л.Л.Селезнев видел это: «На месте «Муске» поднялся столб черного дыма, и все было кончено.»
«Жемчуг» и «Муске» стали последними жертвами «Эмдена», общее число которых, не считая этих двух военных кораблей, составило 22 парохода (в том числе русский пароход «Рязань», ходивший из Владивостока в Гонконг). Обнаруживший себя немецкий рейдер уже 27 октября (9 ноября) был настигнут австралийским крейсером «Сидней» у Кокосовых островов и потоплен. Кстати сказать, уцелевшая часть команды спаслась на берегу, а позже на джонке совершила плавание по Индийскому океану, добравшись до материка. Прибыв в Германию после своей одиссеи, команда была принята кайзером, который в ознаменование заслуг прибавил всем вторую фамилию – Эмден.
В результате нападения на «Жемчуг», который был потоплен за пять минут, погибли один офицер и 80 нижних чинов, семь моряков позже умерли от ран. Погибшим офицером был мичман А.К. Сипайло (1891 -1914), занимавший на «Жемчуге» должность вахтенного начальника.
Военно-морской суд, состоявшийся в августе 1915 года во Владивостоке, признал виновными в гибели крейсера и людей командира, капитана 2 ранга Ивана Черкасова и старшего офицера, старшего лейтенанта Николая Кулибина, заменявшего съехавшего на берег командира. Они были лишены «чинов и орденов и других знаков отличия», исключены из военно-морской службы и «по лишении дворянства и всех особых прав и преимуществ» отдавались в «исправительные арестантские отделения гражданского ведомства»: Черкасов – на 3,5 года, а Кулибин – на 1,5 года. По Высочайшей конфирмации приговора Владивостокского военно-морского суда оба они были разжалованы в матросы и отправлены на фронт. Вопреки утверждению автора очерка «На рассвете, в Пинанге...», архивы содержат информацию – и достаточно полную – об их дальнейшей судьбе. Матрос 2 статьи барон Иван Черкасов воевал на Кавказском фронте в Урмийско-Ванской озерной флотилии, был награжден солдатским Георгиевским крестом и в апреле 1917 года восстановлен в чине капитана 2 ранга. Известно, что И.А.Черкасов умер во Франции в марте 1942 года и похоронен на кладбище Сент-Женсвьев-де-Буа под Парижем. Матрос Николай Кулибин воевал на Западном фронте в морской бригаде, получил два Георгиевских креста и в сентябре 1916-го был восстановлен в чине. Вскоре произведен в капитаны 2 ранга. Умер в госпитале в августе 1918-го от раны, полученной еще в февральские дни 1917 года, когда командовал миноносцем «Подвижный».
В декабре 1914-го для производства водолазных работ на затонувшем «Жемчуге» в Пенанг зашел вспомогательный крейсер «Орел». Скорее всего, именно моряки «Орла» привезли и установили на могиле погибших соотечественников чугунный крест, сохранившийся до наших дней и запечатленный на фотографии Е.Чекулаевой. Во всяком случае, именно этот крест увидели в 1938 году казаки Платовского донского хора, оказавшегося на гастролях в Пенанге. Но вопреки рассказам автора очерка «На рассвете, в Пинанге...» о том, что «на протяжении всех лет до 1975 года» местные жители заботились о могиле русских моряков, увиденная казаками картина была безрадостной. «За русскими могилками некому было ухаживать, и они пришли в полное запустение и почти сровнялись с поверхностью земли. На железном кресте, водруженном на братской могиле, была когда-то привинчена табличка (по всей видимости, медная), но она была украдена», – писал в №214 журнала «Часовой» администратор хора Б. Куцевалов. Казаки решили выделить из хоровой кассы средства для приведения могил в порядок. «На эти средства была сооружена мраморная плита с высеченными фамилиями погребенных согласно кладбищенским записям, наново покрашен черной краской крест, вокруг могил посажено несколько кустов и деревьев, и затем торжественно возложен венок из живых цветов», – сообщает автор статьи «Платовцы в пути» Борис Куцевалов.
В этой статье приведена и фотография плиты с девятью фамилиями, написанными по-английски, поскольку «нелегко было расшифровать русские фамилии». Эту же цифру называет и Е. Чекулаева, рассказывая, как эти фамилии ей, наконец, удалось найти «в земельной управе северо-восточного района» штата Пенанг, где они сохранились, так как 9 моряков, вероятно, умерли в госпитале. Но приводит почему-то только восемь фамилий, давая их в собственном, обратном переводе на русский: Кануев, Сиротин, Ераскин, Олени-ков, Грайтасов, Чувыкин, лейтенант Черепков, Шеныкин (на плите имеется и девятая фамилия Bragoff. не указанная автором очерка). Мы приводим семь настоящих русских фамилий, названных в списке нижних чинов команды крейсера «Жемчуг», умерших от ран в «гражданском госпитале Пенанга», а о двух других скажем ниже. В этом списке, составленном судовым врачом крейсера надворным советником Смирновым, числятся: унтер-офицер Брага Самуил, матросы Конев Петр, Сырвачев Степан, Ерошкин Илларион, кочегары Олеин и ков Кирилл, Грядасов Григорий и машинист Чебыкин Григорий. Сравнивая два списка, невольно возникает сомнение, сможет ли по первому из них кто-то «узнать фамилию деда или прадеда».
О двух фамилиях с могильной плиты, установленной казаками, попавших в список, разысканный Е.Чекулаевой в земельной управе, следует сказать особо. Уже в 220-м номере журнала «Часовой» Б.Куцевалов, по письмам читателей, был вынужден поместить поправки к своей статье, в том числе и такую: «Среди тринадцати офицерских чинов командного состава крейсера «Жемчуг» не было лейтенанта Черепкова, и убит был в этом бою только один офицер, а именно мичман Сипайло, так что сведения, полученные мною от смотрителя пенангского кладбища, не соответствуют действительности». А в действительности – и на этот счет в РГА ВМФ есть документы – «лейтенантом» Черепковым Алексеем был унтер-офицер, старший минер крейсера «Орел», погибший 2 февраля 1915 года в результате несчастного случая при водолазных работах на «Жемчуге» и похороненный рядом с братской могилой его матросов.
Что же касается второй фамилии – Зпепукш, среди прочих помещенной на плите, упоминаемой автором очерка и переведенной как Шеныкин, то ее – или похожей на нее – нет ни в списках нижних чинов «Жемчуга», погибших в бою и умерших от ран, ни в списках оставшихся в живых раненых, перечисленных в специальном приказе командующего Сибирской флотилией для внесения записи о боевом ранении. Можно предположить, что это – умерший матрос с «Орла», поскольку, кроме этого крейсера, других военных кораблей русского флота в Пенанге не было.
Сколько же русских моряков было похоронено в Пенанге? Е. Чекулаева приводит цифру 82, отождествляя число похороненных с числом погибших, неверно указанным. Ведь даже в приводимой ею цитате из местной газеты говорится: «...Многие тела, которые находились в воде, были настолько обезображены, что их хоронили в море». Это сообщение дополняют казаки: «В итоге погибло около 80 человек – многие утонули, будучи раненными, некоторые пошли ко дну вместе с корпусом корабля». Да и без того ясно, что похоронить всех, погибших при гибели корабля в море, невозможно. Казаки, приводившие в порядок русские могилы в 1938 году, сообщили, что от старушки-монахини и смотрителя кладбища, присутствовавших при погребении, им стало известно, что всего было погребено 24 человека.
В начале 70-х годов, с согласия правительства Малайзии, было принято решение о восстановлении обветшавшего памятника. В 1972 году начальник Главного штаба ВМФ сообщил советскому послу в Малайзии, что памятник готов и судном торгового флота будет доставлен в Пенанг. Предполагалось, что восстановленный памятник будет открыт в 1974 году – к 60-летию гибели «Жемчуга» – с участием военного корабля Тихоокеанского флота. Однако открытие памятника состоялось только 5 февраля 1976 года и без участия военного корабля, которому власти не дали разрешения на заход в Пенанг. Интересно отметить, что китайское агентство Синьхуа выразило протест в связи с установкой памятника «морякам агрессивных ВМС царской России – участникам империалистической войны».

В октябре 1979 года, в годовщину гибели «Жемчуга», в Пенанге состоялось возложение венков, отмеченное заметкой в «Правде». А в мае 1990 года с официальным визитом в Пенанг зашел большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», команда которого возложила венки к памятнику погибшим морякам – тихоокеанцам.
В заключение – дополнительно к названным выше именам погибшего мичмана Сипайло и семи умерших от ран матросов – приводим список нижних чинов команды крейсера «Жемчуг», погибших в бою 15/28 октября 1914 года (список хранится в РГА ВМФ.) Вот эти 80 имен и фамилий:
Аверьянов Петр, Акимов Сергей, Александров Александр, Алексеев Николай, Бабкин Иван, Баев Николай, Баранов Федор, Бойко Афанасий, Вавилов Егор, Вагин Георгий, Дедов Анисим, Демин Андрей, Жеребцов Петр, Калинин Степан, Кириллов Даниил, Кирьянов Федор, Кистенев Афанасий, Ковальчук Моисей, Колесников Алексей, Колесников Михаил, Колобов Трофим, Колпашников Александр, Корнеев Филипп, Костырев Яков, Косырев-Колесников Павел, Куприянов Яков, Курбатов Пимен, Левашов-Лушкин Евдоким, Леусь Гурий, Лобанов Дмитрий, Логинов Кузьма, Мальцев Яков, Меркулов Федор, Мусьяк Афанасий, Негодяев Илья, Нифонтов Феоктист, Новиков Григорий, Огарышев Иван, Панин Петр, Пекшев Сергей, Пермыкин Михаил, Пичугин Василий, Пожитков Алексей, Пономарев Игнатий, Попов Яков, Прохоров Александр, Савин Василий, Савинов Диомид, Садов Иван, Семкин Алексей, Серовиков Дмитрий, Сигай-ло Артемий, Симагин Иван, Ситьков Герасим, Судоргин Петр, Сухих Яков, Сысоев Петр, Сычев Егор, Телегин Федор, Теников Роман, Терентьев Арсений, Тинтяков Лаврентий, Томкович Александр, Третьяков Илья, Федоров Андриан, Федосеев Степан, Фоминых Илларион, Фролков Алексей, Хорошков Иван, Христофоров Захар, Христофоров Степан, Чадов Иван, Чуланов Семен, Шебалин Сергей, Шепелин Афанасий, Шишкин Дмитрий, Щеглов Андрей, Шмыг Василий, Яковлев Иван, Якушев Игнатий.
Публикуя этот скорбный список, мы надеемся, что кто-то откроет для себя имя своего предка.
...Отныне одна из бесчисленных русских могил, разбросанных по всему свету, перестала быть безымянной.
В. Лобыцын, И. Столяров, И. Алабин | Фото И. Захарченко
Исторический розыск: Русские углы
Несколько репортажей Константина Парчевского (1891—1945 гг.), которые мы предлагаем читателю, – лишь небольшая часть того, что написано этим талантливым журналистом. Их принесла в редакцию его внучка – Т.О. Орехова. Он печатался в эмигрантской печати (с 1920 по 1941 год, когда вернулся на родину) – в газете «Последние новости» и журнале «Иллюстрированная Россия»; выходили эти издания во Франции.
И главная его тема – судьбы русских эмигрантов, но не тех знаменитых, блестящих (воспоминания о них часто печатаются у нас в последнее время), а самых обыкновенных: младших офицеров, солдат, крестьян. Тех, кто познал тяжкий труд у конвейера, а кто пытался и на чужбине пахать землю.
Мы остановились на самых малоизвестных «русских углах»: Марокко, Тропической Африке, Бразилии, о жизни там русской эмиграции вообще мало кто знает. Текст – со всеми его особенностями языка 30-х – мы не трогали, позволив себе по необходимости лишь некоторые сокращения.
У рабатского самовара
С точки зрения эмигрантского благополучия. Марокко – это африканское Пасси. Люди живут здесь спокойно, в удобных квартирах и в нечасто встречаемом довольстве. Маршал Лиотэ очень хорошо относился к русским и охотно принимал их на службу в учреждения французского управления. Попадавшие из Туниса и Франции устраивались землемерами с большими окладами, служащими в строившиеся порты, в канцелярии. Врачи и дантисты открывали кабинеты и начинали успешно практиковать. Сооружение дорог, телефонов, различных зданий требовало не только квалифицированных специалистов, но и просто толковых и дельных работников. Приезжавшие, часто без связей, сразу находили работу, быстро становясь на ноги. Отбывшие контракт в Иностранном легионе пользовались особыми привилегиями. Многие принимали французское гражданство, и тогда служебный вопрос еще более облегчался. Знающие иностранные языки, в особенности английский, устраивались на службу в крупные американские предприятия по продаже автомобилей, бензина или сельскохозяйственных инструментов и материалов, в конторы и отделения банков. Появившиеся позже, когда положение существенно изменилось и получить хорошо оплачиваемую работу иностранцу становилось трудновато, поступали десятниками и чертежниками в Куригу на разработку фосфатов. Словом, без дела никто не сидел, а, обжившись, быстро пускал в местную почву корни, приобретая знакомства, обзаводился хозяйством, иногда собственным домом с садиком или загородной дачей и автомобилем.
В результате через десять лет те, кто попали в Марокко давно, утряслись основательнее, нежели в других, казалось бы, более близких для русских, странах. Когда пришел кризис, кончился марокканский подъем и начались всевозможные затруднения и ограничения, а найти работу стало почти невозможно, русских это коснулось не столь остро. Сократили, правда, жалованье чиновникам и перестали принимать новых. Пришлось поставить крест на возможности дальнейшего продвижения по службе, заботясь лишь о том, чтобы не уволили вовсе. Окончились железнодорожные постройки и работы в портах Касабланки и Кинтеры. На случайно открывшиеся вакансии приезжали французы из метрополии. Зато подешевели квартиры и съестные припасы, а наладившаяся жизнь позволяла бороться с новыми трудностями. Несмотря на все преимущества, какие представляло Марокко лет десять-пятнадцать тому назад, русских здесь немного.
В первые годы эмиграции мало кто решался не только забираться в незнакомые страны, но просто раскрывать чемоданы. Болтовня о «весенних походах» многим исковеркала жизнь. В Марокко пробирались лишь случайные смельчаки, и осело их всего-то около пятисот человек. Большинство тяготеет, конечно, к Касабланке и Рабату. Остальные разбежались по другим городам: несколько семей в Мекнесе и Марракеше, немного больше в Фесе и Куриге.
Русские жили тихо и лояльно, собственная же политика дальше чайного стола не шла и никому не мешала. Многие от салонной политики отказались, стараясь войти во французские интересы. Эмигранты не бросались в глаза, вполне оправдывая надежды на скорую, в отличие от остальных иностранцев, во всяком случае, во втором поколении, ассимиляцию. Окончившие французские лицеи ничем не отличаются от французской молодежи, а русские мамаши иногда с гордостью говорят: – Моя дочь замужем за настоящим французом!..
Не чувствуя никаких ограничений, русские, если не стали еще французами, живут на общем положении иностранцев. Наравне с другими, они получают бесплатно на всю жизнь какую-то карточку, а при выезде за границу – марокканский паспорт, на который легко ставят визы все консулы, и только для въезда во Францию требуется особое разрешение Министерства иностранных дел. До специальных разрешений на труд и рабочих карт тут еще не додумались. Просто без контракта, никто не может въехать в страну, даже француз, но с контрактом – все равны. В суде у русских те же права, что и у французов. Безработный получает такое же пособие, в случае болезни платит в больницу так же, как и все, а если не имеет средств, пользуется бесплатным лечением, тоже, как все. Само собой разумеется, здесь нет никаких сборов и ведающих русскими эмигрантских учреждений. Произведенная недавно какими-то благодетелями из общественного союза попытка добиться введения для русских в Марокко Женевской конвенции со всеми вытекающими из нее последствиями, т.е. нансеновскими паспортами, марками и офисом, который бы в лице указанных деятелей «управлял» эмигрантами, окончились неудачно. Узнав о произведенных считающими себя представителями местной русской общественности генералами, шагах, заволновалась общественность, приняв свои меры, и, кажется, окончательно сорвала мечты о создании «единого центра» и «единой власти». Проект искусственной «нансенизации» русских отпал, остается прежняя система.
Эмигрантская общественная жизнь определяется личным составом и условиями быта.
– Насыпало нас сюда из разных мешков, – говорит мне соотечественник, – люди все разные, живут кружками, и, пожалуй, более всего объединяет их церковный вопрос. Действуют не столько религиозные, сколько романтические основания. И вот посмотрите – сравнительно маленькой колонии в семьдесят семей, удалось построить отличную церковь на собственном участке земли, и все обошлось свыше ста тысяч! Есть еще воинский союз и беспартийный благотворительный комитет. Вот и вся общественность.
Если в Рабате русские организации более предприимчивы, в Касабланке они давно превратились в маленькие кружки: красно-крестный, клубный и приходской, содержащий маленькую деловую церковь, куда приезжает служить священник из Рабата. Раз в году устраивается концерт-бал, закрытый, пользующийся поэтому большим успехом среди местного европейского общества и дающий хороший доход; изредка начинаются общие собрания, на которых разыгрываются эпилоги борьбы местных «алой и белой розы», приходского и благотворительного комитетов. А вне этого – тихая провинциальная жизнь: обычное русское чаепитие, бридж, иногда более торжественные приемы.
Несколько лет тому назад случилось событие, о котором помнят до сих пор. Небольшая компания, с участием нескольких русских и французов, в том числе родственника французского резидента, отправилась на пикник в окрестности Касабланки. Неожиданно на пикник напали берберские разбойники и захватили в плен француза и двух русских дам, увезли их куда-то в горы.
Похитители требовали выкупа, долго велись переговоры, дамы сидели в плену, мужья били тревогу. Наконец сделка состоялась, и пленники получили свободу. Кажется, были приняты какие-то меры для наказания виновных. Во всяком случае, похищений больше не происходило.
Наиболее преуспевшие стали получать в городе или окрестностях землю, возводя на ней домики и развивая хозяйство. В нескольких километрах от Рабата появилось русское именьице, названное в память принадлежавшего в России – «Установка», или, как зовут его в Рабате, – «дворянские выселки». На двух автомобилях сюда съезжаются родственники и друзья. Хозяева по-русски гостеприимны. За обеденный стол, как в добрые старые времена, садится по пятнадцать человек, и целый день не сходит со стола громадный самовар. Из ничего на африканской земле возродился старый помещичий быт, такой знакомый и уютный, с привычной нерасчетливостью и щедростью, с гостями, пикниками, кучей детворы, общими поездками ко всенощной в русскую церковь.
– Все у нас хорошо, – говорила одна русская помещица, – только вот мужики плохо работают, за всем самой следить надо.
– Да какие же тут мужики?
– Как какие? Обыкновенные, наши арабы...
Чем лучше складывается эмигрантская жизнь, тем меньше интереса к современной России. Она осталась где-то в туманной дали. За многие годы туман так сгустился, что бывшая родина представляется чем-то вроде одной из самых отдаленных планет. Парагвай, и тот, понятнее и ближе! Эмигрантские газеты приходят с пароходами пачками, отучая от ежедневного чтения и приучая к чтению местных, французских. А что из них можно узнать? К примеру, «Эко дю Марок» на третьей странице мелким шрифтом глубокомысленно сообщала:
«В Москве проведены аресты в высших военных кругах. В числе арестованных маршалы СССР Крестинский, Тухачевский и Розенберг».
Русских читателей это нисколько не удивило. Кто, в самом деле, разберет, какие там у них маршалы? Тут своя жизнь, свои начальники, свои секретари, шефы, от которых зависит благополучие. Известно, у кого какая жена, где и какая вилла и садик, кто как относится к подчиненным и в каком кружке бывает. Неизбежный отрыв произошел не только от России, но и от остального эмигрантского мира.
– Когда приезжаю в Париж в обычный отпуск– рассказывает мне много лет живущий в Марокко русский, – иногда захожу в церковь на рю Дарю. Встречаю старых приятелей по такси. Я ведь тоже таксистом несколько лет был. Ужасно постарели и опустились люди. Завидуют, что хорошо устроился в Марокко. Очень быстро выясняется, что говорить не о чем. Не хвастаться же перед ними своим благополучием, особняком с пальмами, лакеем-арабом, собственным автомобилем? Ничего не поделаешь, произошло «классовое расслоение», как выражаются социалисты.
– У нас, как и всюду, конечно, люди объединяются, но не по культурным или иным признакам, а просто по капиталу, – жаловался другой русский. – Это скучно, но такова жизнь. Да и в культурном отношении происходит известное расслоение. Годами говорим на службе по-французски, читаем преимущественно французские книги и газеты, забываем русские термины, путая даже среди своих французское с нижегородским.
Национального в нас остается лишь церковь да гастрономия. Еще легче втягивается во французскую жизнь молодежь. Материальное положение ее несравненно лучше в Марокко, проще со службой и натурализацией. Легче устанавливаются знакомства и связи. Но по-русски говорят скверно.
Как это ни странно, совершенно чистую русскую речь мне удалось встретить лишь в настоящем марокканском доме. Хозяйка его – вдова крупного марокканского деятеля, умершего два года назад. Дочь русского помещика и члена Государственной Думы, она задолго до войны попала по предписанию врачей в Алжир, где познакомилась с европейски образованным марокканцем, офицером султанской армии. Молодые люди полюбили друг друга и отправились в Россию за родительским благословением. Потом повенчались, и русская барышня перебралась с мужем в Марокко. Потянулись долгие годы жизни в Рабате. Рождались и росли дети, получавшие образование в Париже; муж занимался общественной деятельностью; жена постепенно становилась пламенной патриоткой своей новой родины. Отличная пианистка, она продолжала усиленно заниматься, давая уроки музыки молодым марокканкам и иностранкам и пропагандируя здесь Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина. Ее дочь, молодая лицеистка, унаследовала музыкальные способности и нежную любовь к русским композиторам от матери, а наружность – глубокие сверкающие глаза и стройность фигуры – от отца, но по-русски она не говорит.
– Мне и самой редко приходится говорить на родном языке, – мягко, совсем по-московски, рассказывает хозяйка, – больше по-арабски или по-французски. Давно уже нигде не бываю и никого, кроме своих учениц, не вижу. Жизнь складывается по-новому.
Осевшие здесь в наше время русские думают иначе. Нельзя на положении отрезанного ломтя долго висеть в воздухе, и рано или поздно человеку приходится включаться в какую-нибудь систему, если не политическую, то хотя бы логическую.