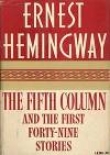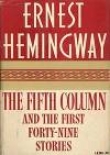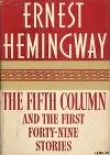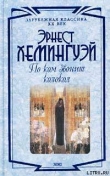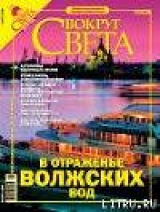
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №8 за 2005 года"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Когда после падения СССР фигура вождя была десакрализована, оказалось, что городу уже нечего показать приезжим, кроме связанных с ним мемориальных мест. Иное дело, что сам город утратил пиетет по отношению к своему беспокойному уроженцу и мемориал Ильича переживает не лучшие дни. Проще говоря, бедствует. Набор товаров в музейной лавке разбавлен всем известными «октябрятскими» значками и несколькими томами некогда безбрежной советской ленинианы. От растерянности я купил (очень дешево, впрочем) книгу управделами Совнаркома Владимира Бонч-Бруевича «Наш Ильич» и освежил в памяти незаурядную, мягко выражаясь, историю о том, как «наш Ильич» в голодном 1919-м (!) хитростью заставлял капризных детей хорошо есть.
А между тем Симбирск отнюдь не убог историко-культурно. В нем, как я уже говорил, вырос Карамзин. Николай Языков, проживая в доме своего брата Петра (тут сейчас библиотека), написал известную «Молитву»:
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!
Пушкин здесь разгонял скуку сбором материалов к «Истории Пугачевского бунта» (а сам Емелька-разбойник провел несколько месяцев 1774 года в подвале городской тюрьмы). Наконец, Симбирск подарил стране чуть ли не самый характерный, выразительный ее типаж. Где-то недалеко от города находилась Обломовка, имение ленивого, доброго и совестливого барина Ильи Ильича… Жил ли когда-нибудь подобный барин на самом деле, сказать нельзя, но придумавший его Иван Александрович Гончаров жил, и именно в Симбирске. Дом его не сохранился, но еще в 1916 году власти города посвятили писателю музей, действующий и по сей день. Здание, специально для музея построенное, парадоксально для средневолжского городка. Как экзотический павлин среди сорок, оно блещет архитектурной эклектикой, смешавшей мотивы готические и мусульманские.
Между крестом и полумесяцем – Кодекс молодого казанца – Быть или не быть Яналифу? – Как стрелялся Алеша Пешков – Нижний Новгород, третья столица России? – Как заработать чтением на хлеб с колбасой?

Виктор Грицюк: Ночью незаметно мы миновали невидимую границу христианства и ислама. К речному вокзалу Казани причаливаем на рассвете, пропетляв заливчиками с портовыми сооружениями по берегам, напоминающими застывших марсиан Уэллса. Утро, но уже многолюдно, и всюду кипит работа, будто тысячи человек вышли на стихийный субботник. Казань, словно Москва середины 90-х, вся превратилась в стройку. Визжат дрели, самосвалы месят грязь, бубнят отбойные молотки, срочно завершаются ремонтные работы, все перекопано и укутано в леса. И под землей столице Татарстана нет покоя от людей – там роют метро, поэтому улица под тобой гудит, словно в преддверии землетрясения. (Город готовился к своему тысячелетнему юбилею – читайте о нем в рубрике «Досье» сентябрьского номера «Вокруг света» за текущий год. – Прим. ред.)
Многое уже готово, в том числе новый пешеходный «Арбат» (отреставрированная улица Баумана), которым Казань обзавелась на модной нынче волне. Из замысловатых фонтанов с птичками бежит вода. Подальше – бронзовая карета екатерининского типа со ступеньками, но без лошадей, где принято фотографироваться и назначать свидания. Довольно строго дело обстоит, однако, с поцелуями – редко увидишь, чтобы местные парочки вели себя свободно на людях (приезжим, конечно, закон не писан). Получается забавно: с одной стороны, и мобильная связь, и дырявые джинсы, и певица Алсу, и все, «как в Европе», с другой – почитание традиций, новая мечеть и сказочная древняя башня Сююмбеке за кремлевскими стенами. Непросто быть современным европейцем, оставаясь при этом мусульманином. Но казанцы, по моему наблюдению, справляются благодаря добродушию и чувству меры. Видимо, долгое нахождение в составе сперва христианского, а затем безбожного государства научило их находить компромиссы в вопросах веры и образа жизни. Если вы, например, захотите увидеть костяные и медные изделия или обливную керамику Волжской Булгарии XII века, а также татарское искусство позднейших времен, ступайте в Национальный центр «Казань». Если вас интересует общемировой культурный контекст, в котором татарское искусство занимает свое место, лучше отправиться в Музей республики, там есть все, от мечей викингов (любопытно, как их занесло на Среднюю Волгу?) до монгольских кочевых юрт, – всего 600 тысяч единиц хранения. Есть там и обычная на вид пишущая машинка. Вроде бы все буквы знакомы – по большей части они латинские, некоторые с дополнительными закорючками – а в сумме получается яналиф. Этот новый алфавит для татар (в переводе на русский так и есть: «новый алфавит») придумала группа казанских ученых, вдохновленных энтузиазмом первых лет революции. С 1928 по 1939 год он официально действовал в республике. Потом авторам пришлось туго. А чем история заканчивается, вы догадываетесь. На правительственном уровне в Татарстане ведутся дискуссии о внедрении новой старой письменности.
Евгений Рейн: Вторая после Кремля главная достопримечательность Казани – знаменитый университет, где учились или преподавали «все», от Аксакова и Льва Толстого до Лобачевского и опять-таки Ленина. Чтобы обойти его весь, нужно несколько дней, поэтому я ограничился библиотекой, с которой, собственно, все и началось. В 1799-м – году рождения Пушкина – в Казань на восемнадцати подводах привезли четыреста двадцать девять пудов книг, принадлежавших князю Потемкину-Таврическому. Богатство это он, собственно, и завещал университету, только не Казанскому, а Екатеринославскому (Днепропетровскому посовременному), то есть оставил городу, основанному им самим. Но Павел I отчего-то решил «одарить Волгу в ущерб Днепру». Возможно, чтобы придать основанию российского учебного заведения на мусульманских землях символический примиряющий смысл: жемчужиной потемкинской коллекции считалось старинное Пятикнижие Моисея, написанное на 50 телячьих кожах. Ведь этого пророка, как известно, чтут последователи и Христа, и Магомета…
И вообще в мире не много найдется городов, где так интенсивно переплетались бы традиции двух крупнейших мировых религий – разве что еще Севилья и Гранада. Причем, в отличие от последних, Казань всегда оставалась веротерпимой. Даже при Грозном здесь не преследовали за веру, а Екатерина II вообще велела содержать на государственные средства Магометанское духовное управление. Строительство мечетей здесь никогда не прекращалось, как, впрочем, и возведение православных храмов. Отсюда эта сказочная пестрота, смешение стилей, изменчивость и некоторое лукавство душевных устоев, специфическое казанское – «вавилонское» одиночество, о котором, среди прочих, писал и «буревестник революции». В этом городе юный Алеша Пешков, по собственному признанию, «ощутил усталость души и едкую плесень сердца», вследствие которых пытался застрелиться на берегу волжского притока – речки Казанки…

Виктор Грицюк: Так и не сбылась моя сумасбродная мечта – пощупать в музее Максима Горького исторические розги, которыми ему в детстве безуспешно пытались вправить мозги. Как раз в тот день, когда мы добрались до Нижнего, музей оказался закрыт.
А наш дальнейший путь лежал мимо острова Свияжска, где русские дружины под командой Грозного и Курбского готовились в специальном деревянном городке к штурму Казани. Городок с 18 башнями, семью воротами, царским шатром, самобойными часами, походными церквями и прочими потрохами перед тем всю зиму 1550/51 года строили за 1 000 километров отсюда, в Угличском уезде, потом в разобранном виде сплавили вниз по Волге и заново установили.
Мимо Чебоксар с единственным, наверное, в мире мысом имени Любви, мимо Васильсурска и Козьмодемьянска, где на Волгу выходит Республика Марий Эл, «Нижний Новгород» проследовал в Нижний Новгород, сердце Волги, где главная река принимает в себя Оку (самый красивый в мире вид). Здесь замысловатыми восьмерками извивается по крутому склону знаменитая Чкаловская лестница (а венчает ее монумент самому летчику). Здесь кирпичные стены очередного волжского кремля элегантной лентой струятся между башнями, вторя изгибам холмов. Городской центр теперь уже, увы, неотличим от московского – с теми же супермаркетами и стеклянными конторами, с нищими и игральными автоматами, бистро и казино. И только Рождественская строгановская церковь (1719 года), цветастая и радостная, с картушами и завитками, напоминает о тех временах, когда купцы Строгановы и им подобные, богатея сами, обогащали и город, и старались, чтобы в нем и другим жилось не хуже, чем в столицах.

Евгений Рейн: Очевидно, именно благодаря всем этим Рукавишниковым, Строгановым, Переплетчиковым Нижний – пожалуй, единственный из всех волжских городов – не производит провинциального впечатления. В нем чувствуются энергия, ритм, деловитость – и в то же время отсутствие комплексов. Случайно встретившись с москвичом или питерцем, здесь не сдвигают угрюмо брови.
Некоторую трогательную старомодность можно обнаружить разве что в формально-почтительном отношении к классической культуре. Если у нас уже перестали стесняться своего равнодушия к «духовному» и утилитаризма в выборе развлечений, то на Волге – еще не совсем. Здесь в любом книжном магазине – на «парадном» месте Шекспир с Пушкиным и Достоевским (а также – по земляческому признаку Горький). А Донцова в дешевом переплете – где-нибудь подальше от кассы. Хотя покупают в основном, конечно, ее.
Кстати, в Нижнем я узнал удивительную вещь. В 1900-е годы если местный обыватель брал в библиотеке книгу, то по распоряжению специального попечительского совета купцов-филантропов ему бесплатно выдавали «к ней» кружку сладкого чая и ломоть пшеничного хлеба с колбасой. Хорошо бы восстановить традицию.
Почему все-таки люди не летают, как птицы? – Образ жизни плесских собак – Сколько в Костроме сусаниных? – Куда девается икра? – Рыбалка как разновидность терроризма

Виктор Грицюк: За городом Минина, Чкалова и Горького начинается собственно «древняя Русь» – русская Волга в истинном историческом смысле. По берегам пятнышками окон среди зелени подмигивают деревушки. Закат. Желтая волна от корабля шипит сухо, как песок. В центре носовой палубы стоит один стул. Наверное – для меня…
Смотри и запоминай, как проплывает мимо в сумерках задумчивый Плес, основанный на Волге еще в 1410 году для защиты подступов к Костроме и Москве.
Я не раз бывал там и жалею, что сейчас корабль проходит мимо. Впрочем, такой махине здесь и причалить некуда: хлипкий дебаркадер болтается у набережной, словно не для того, чтобы к нему подплывали суда, а, наоборот, – чтобы сонное царство на берегу никто не тревожил. По Плесу никому не приходит в голову бегать – все только неспешно вышагивают, чтобы не выпасть из особого, как в пьесах Островского, течения времени. Надо непременно молча посидеть на высокой горке над Волгой, прислушиваясь к хозяйственному шуму из Заречья, к звяканью ведер, собачьему лаю, кудахтанью кур. Там, наверху, всегда ветрено, поэтому к описанным звукам добавляется шепот березовой листвы и мелодия дальних странствий внутри тебя. Знаменитое желание Катерины из «Грозы» – взлететь и унестись за поворот реки здесь, поверьте, всякому покажется естественным.
Евгений Рейн: Усадьба Александра Островского, в Щелыково между Плесом и Костромой, – самое дорогое для меня как для писателя место на Волге (с ним, правда, конкурирует Грешнево под Ярославлем, где жил почитаемый мной Некрасов, но до него мы еще не доплыли). И сама Кострома с «лица необщим выраженьем» мне дорога. Хотя бы тем, что на ее улицах то и дело по-прежнему попадаются типажи Островского.
Костромского крестьянина Ивана Сусанина тоже легко опознать во всяком встречном бородаче на костромской пристани – неудивительно, что нет недостатка в живом генетическом материале для идентификации недавней сенсационной археологической находки в здешних лесах. Один православный крест среди десятков католических вполне может указывать на того, кто отдал «жизнь за царя»…
Виктор Грицюк: Памятник Сусанину стоит не у Ипатьевского монастыря, от которого он увел поляков и откуда началось трехсотлетнее царствование Романовых, а между двух торговых рядов в центре города. Рядом, в соседнем сквере, – помпезный памятник Ленину, с напряженно откинувшейся назад фигурой, чтобы уравновесить непропорционально огромную «указующую» руку. Два памятника героям, заведшим людей на погибель. Правда, один все же иностранцев, а другой – соотечественников…
Евгений Рейн: А еще рассказывают, что до Костромы и Ярославля по Волге раньше поднимался осетр, выше к истоку не приближаясь. Вообще-то я питал надежду отведать в нынешней поездке икры. Но это оказалось невозможно, а точнее – бессмысленно, поскольку всюду вдоль Волги всемирный деликатес заключен точно в такие же баночки и стоит ровно столько же, сколько в ближайшем к моему дому московском магазине. С тем большей завистью читаю в воспоминаниях художника Константина Коровина: «Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник по приказанию Шаляпина взял ножик, вытер о фартук и вытянул осетра изо льда. Осетр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу. Показалась икра. Лавочник выгреб ее ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпиным и подал калачи. Шаляпин щепотью посолил икру в миске и сказал:
– Ешь, вот это настоящая.
Мы ели зернистую икру с калачом.
– Это еще не белужья, – говорил Шаляпин, откусывая калач. – Настоящая-то ведь белужья, зернистая.
– Белужьей нет, – сказал рыбник. – Белужья боле за границу идет. Белужья дорога. У нас белужьей не достать. В Питере, Москве еще можно…»
Виктор Грицюк: Боюсь, что скоро даже на самых богатых волжских участках, в дельте и пойме, природа устанет рожать на погибель, и только жабы будут населять пустую воду. Приезжие рыбаки до упора процеживают реку, а столичные охотники, будто в пылу битвы, не жалеют патронов. Ночью жутко идти по степи: стреляют с лодок, из засад, от машин со включенными фарами. По камышам гоняют лис и кабанов. Счет убитым уткам у каждого «бойца» идет на сотни. За удалой канонадой никто не заглянет в Красную книгу.
А тем временем в той же Костроме уже нет развесной икры. Есть новое кафе с полумраком, хлебом и сыром за 15 рублей. Рядом – двухэтажная гостиница, а в 50 метрах от главных монастырских ворот – новый, с иголочки, словно выпрыгнувший из дорогого столичного каталога, особняк. Он так контрастирует с общим состоянием городского пейзажа, что я решил узнать, кто владелец. Расспрашивал рассеянного мужика, возившегося у мусорных баков рядом с новым домом, тот говорит: художник живет. У художника – рыжая борода. Наезжает редко. Еще несколько подробностей добавил продавец сувенирных «древностей» на туристической автобусной площадке: художник, мол, очень талантлив и хорошо продается на Западе. Но здесь его картин никто не видел. Однако сам дом после смерти удачливого мастера, говорят, отойдет монастырю.
«Ансамбль «Березка» В «живой природе» – За что Райнер Рильке любил Ярославль? – Как покарали колокол – Неуловимый бородач

Виктор Грицюк: Тишайшему краю, Верхней Волге, конечно, больше везет с экологической безопасностью, чем пойме, – здесь традиции «террористической» охоты и рыболовства не сложилось. Его патриархальные приметы – монастыри и храмы, иконы и чудеса. Только на Верхней Волге (а именно в Ярославле) мне приходилось видеть и слышать, как белокурые девушки «в живой природе», а не в ансамбле «Березка» поют старинные песни, присев на скамейку над водой.
Есть еще здесь дивные места, такие как Тутаев, например. Ежегодно в июле вокруг городка с крестным ходом обносят старинную чудотворную икону 2х3 метра. Сменяя друг друга, ее несут на плечах крепкие мужчины. А дети бегут впереди, разбрасывая цветы по асфальту. Остановки – в доме престарелых, в больнице… Полный круг занимает около четырех часов и заканчивается, где и начался, – у церкви. Там под открытым небом набожных волжан ожидают длинные столы. Разносолов немного, но всегда хватает, несмотря даже на то, что присоединиться к трапезе может любой желающий. И его никто не спросит, православный ли он, русский ли, коммунист или олигарх. Райнер Мария Рильке 100 лет назад был так покорен местными обычаями, что перевел потом на немецкий «Слово о полку Игореве», найденное в Спасо-Ярославском монастыре графом Мусиным-Пушкиным. С тех пор минул весь жуткий ХХ век, но – трудно поверить – все осталось, как было. Вот, скажем, Углич известен в летописях с 937 года, а уровень жизни, кажется, мало изменился.
Конечно, в самой центральной своей части и он немного приукрасился. Заговорил на иностранных языках с цветастых новых вывесок магазинов. Обновляется Воскресенский монастырь: во дворе рабочие раскидывают чернозем, а женщины в скромных платочках ровняют новые клумбы по веревочкам. Заново побелена Успенская Дивная церковь (1628 года) с тремя высокими шатрами на четырехгранных постаментах. Ничего выдающегося в Угличе не случается. Заурядную новость, вроде кражи в продуктовой палатке, обсуждают неделями. Похоже, в последний раз значительное событие произошло здесь 15 мая 1591 года, когда загудел, возвещая об убийстве малолетнего царевича Димитрия, колокол. На несчастном «инструменте» и отыгрались: по распоряжению следственной комиссии били его плетьми по бронзовым бокам и сослали в Сибирь. Впрочем, в 1892 году о колоколе кто-то вспомнил. Его реабилитировали, вернули в Углич, и сейчас он молча висит на бревенчатой раме внутри пятиглавой церкви Димитрия на Крови.
Из «достопримечательностей» в городе имеется рынок, когда-то считавшийся крупнейшим на Верхней Волге. Сейчас он, как и любой другой, завален китайским ширпотребом, литовскими и польскими продуктами, сомнительного вида одеждой и обувью. Редкие крестьяне с парным мясом, творогом и молоком жмутся по углам. Вечные старушки продают кондовые вещи минувшей эпохи, «наследство» давно умерших мужей: майки, свитера и ботинки фабрики «Скороход» на микропоре. А торговки зеленью, рассадой и цветами вообще вытеснены за ограду. Да остались еще традиционные для Углича часы и сыр.
Евгений Рейн: Часов уже нет – ни «Звезды», ни «Волги», ни «Чайки». Часовой завод, бывший градообразующим предприятием советского Углича, остановлен, что и породило основной вал безработицы. И сыр «Угличский», и одноименную минеральную воду вы напрасно будете спрашивать в магазинах. Из старых фирменных знаков города «в строю» остается только ГЭС.
Но город приятно поражает неспешностью и дружелюбием своих жителей. Не успели они пока озвереть в своей глубинке. Делить тут и приватизировать особо нечего. Нет ни нефти, ни газа, ни золота. Зато есть пиво. Одних оно губит, а другим – подбирающим пустые бутылки после туристов, помогает выживать. Жители тащат их в огромных мешках и пакетах, прогибаясь до земли.
Путешествие окончено, путешествие продолжается…
Евгений Рейн: Как говорили в древнем Китае, даже дорога в тысячу ли имеет последний шаг. «Нижний Новгород» идет по каналу имени Москвы. Зрелище довольно унылое: плоские берега, желтоватая водичка. Издалека открываются пригороды столицы – Химки или Митино, если не ошибаюсь. Вот уже подали трап…
Виктор Грицюк: И все же жаль, что до волжского истока не доберется ни один начиненный туристами белоснежный корабль. Впрочем, так, очевидно, и должно быть: ведь речь идет о русском Ниле, а место, где берет начало Нил, по законам жанра должно быть сокрыто, чтобы каждый нашедший его мог чувствовать себя Ливингстоном.
Пусть здесь выглядит все скромно: камень с надписью и маленькая часовня на мостках, где в огороженном перилами колодце бурлит коричневатая вода (крестьяне зовут такой ключ «кипуном»), но возникает сильнейшее желание опустить в нее руки и ощутить начало струй.
Обязательно надо омыть лицо, напиться и набрать с собой воды в бутылке из-под «вражеской» пепси-колы, чтобы дома, в далеком городе, разлить реку по рюмкам и предложить тост друзьям. Обязательно надо постоять на первом, трехметровом мостике через Волгу-ручеек, поглядеть вниз и помолчать, мысленно представив себе долгий путь легких этих вод до самого Каспия.
Евгений Рейн, Виктор Грицюк, Алексей Анастасьев | Фото Виктора Грицюка
Ярмарка идей: В лабиринтах квантового мозга

Идея квантовых вычислений, высказанная физиками четверть века назад, уже довольно близка к воплощению в «материальном компьютерном мире», и не за горами то время, когда необычные машины, сочетающие в себе квантовые возможности и электронную точность, появятся в крупнейших вычислительных центрах. Некоторые ученые полагают, что их работа будет в чем-то похожа на функционирование нашего мозга, и этот синтез физики и математики в одном устройстве сможет сыграть огромную роль в жизни человека.
Нам хорошо знакомы два вида компьютеров – электронная вычислительная машина и наш собственный мозг. И если первому свойственны предельная точность и строгость во всем, то второй, напротив, характеризуется полной свободой ассоциаций и непредсказуемостью процесса мыслительной деятельности. Современные компьютеры, значительно усилившие наши «интеллектуальные мускулы», так и остались неспособными к интуитивным прорывам и решению целого ряда актуальных для человека задач. На помощь к ним уже пришли нейросети и нейрочипы, копирующие принципы функционирования биологического мира, ну а завтра к решению задачи по усилению нашего интеллекта, возможно, присоединятся машины, использующие в своей работе фундаментальные законы микромира.
Идею квантовых вычислений нам подарили физики. К концу XX века они научились проводить эксперименты с отдельными атомами и измерять квантовые состояния элементарных частиц, наблюдая их эволюцию. Однако законы квантового мира, которым подчиняются эти процессы, настолько сложны, что аналитическое и численное описание эволюции квантовых систем, состоящих из большого числа объектов, практически неосуществимо с использованием классических компьютеров.
В 1982 году, подводя итог многолетним исследованиям, связанным с моделированием квантовых процессов на ЭВМ, американский физик и нобелевский лауреат Ричард Фейнман пришел к неожиданному для многих выводу. В своей знаменитой статье «Моделирование физики на компьютерах», опубликованной в Международном журнале теоретической физики, он убедительно доказал, что для решения задач, предметом рассмотрения которых являются квантовые объекты и их взаимодействия, обычные компьютеры совершенно не годятся. По мнению Фейнмана, с задачами такого класса, требующими огромного объема вычислений, могут справиться принципиально другие вычислительные устройства, использующие квантовую логику и квантовые способы вычисления.
Идея Фейнмана содержала в себе определенный подтекст. Из сказанного следовал вывод не только о слабости современных ему компьютеров, но и о том, что любые их будущие модификации не «потянут» того объема информации и вычислений, который скрывают в себе квантовые процессы. В то же время авторитетный ученый прямо указывал направление исследований по созданию гораздо более эффективных вычислительных устройств.
Трудно сказать, кого больше впечатлил подсказанный Фейнманом инновационный, как назвали бы его теперь, путь развития компьютерной техники: физиков, математиков, программистов или аналитиков спецслужб. Первым он сулил постижение тайн микромира, вторым – решение целого ряда крайне трудных задач, третьим – абсолютно новые направления исследований по части как расшифровки чужих, так и укрепления собственных криптосистем.
Квантовый мир обещает подарки и обычным пользователям ПК, а также любителям компьютерных игр, интерактивного кино и электронных помощников – киборгов. Создание интеллектуальных систем, живо реагирующих на наши импульсы и желания, тоже невозможно без кардинального увеличения вычислительных мощностей электронных помощников. И быть может, уже к середине текущего века виртуальный мир станет не только похож на настоящий, но и заживет своей особой квантовой жизнью, активно взаимодействуя с нашим сознанием и имитируя не только простейшие ощущения, но и глубокие чувства.
Делите, Шор, делите!
В 1994 году американский математик Питер Шор совершил настоящий прорыв, написав для несуществующего квантового компьютера так называемый алгоритм факторизации, позволяющий разлагать на простые множители многоразрядные числа. Задача факторизации только на первый взгляд кажется безобидной. Для ее решения используют довольно примитивный, но единственно верный способ: деление заданного числа на простые числа, меньшие корня квадратного из самого числа. Количество необходимых математических действий при разложении сложного 1 000 значного числа достигает 21 000 , или приблизительно 10300 . Самый современный компьютер, способный произвести около 1015 операций в секунду, с таким числом управится не ранее чем за 10285 секунд – эта величина во много раз превышает возраст нашей Вселенной (ей, по мнению ученых, 15 млрд. лет, то есть всего 5х1017 секунд). Если к решению этой задачи подключить 10100 компьютеров, то и тогда ситуация мало изменится.
Квантовый алгоритм, предложенный Шором для решения этой «не решаемой» традиционными методами задачи, оказался гораздо эффективнее. Он предполагает выполнение всего 1 0003 , то есть миллиарда квантовых операций, и автоматически переводит данную задачу в разряд почти тривиальных. Специалисты по вопросам компьютерной безопасности быстро оценили алгоритм Шора, позволяющий без особого труда взламывать большинство современных криптосистем. Дело в том, что стойкость многих систем шифрования информации основана именно на невозможности быстрого разложения многоразрядного числа на простые сомножители. В первую очередь это касается систем шифрования, использующих два вида ключей: открытый (не требующий хранения втайне) и закрытый (секретный). Один используют для шифрования сообщения, другой – для дешифровки. При организации секретного канала связи отправитель и получатель обмениваются открытыми ключами своих криптосистем и далее шифруют свои послания с помощью открытого ключа получателя. Ключи взаимосвязаны между собой. Открытый ключ по сути является произведением двух очень больших простых чисел. Поэтому, разложив его на простые множители, можно легко восстановить закрытый, вот только «легко разложить на множители» пока не получается.
Неудивительно, что алгоритм Шора стал довольно удачной рекламной акцией. С подачи американского математика «раскрутка» нового метода пошла столь успешно, что 1994 год стал началом великого бума на квантовые компьютеры. Исследовательские группы из США, Европы, Японии и специально созданные подразделения крупнейших IT-корпораций начали активную работу сразу в нескольких направлениях. Одни ученые занялись поиском способов практической реализации «компьютера будущего», другие продолжили поиски новых областей применения, отличных от решения чисто квантовых задач и дешифровки секретных сообщений.
Спасти коммивояжера
Помимо задачи факторизации Шора, в которой достигается колоссальный выигрыш во времени, имеются и другие примеры «ускоренного» решения хорошо известных задач. Одна из них – так называемая «универсальная задача перебора». Предположим, необходимо отыскать номер телефона, записанный произвольным образом на одном из 10 000 лежащих в аккуратной стопке листов. Чтобы найти нужный, возможно, потребуется последовательно пересмотреть всю стопку, то есть произвести 10 000 операций. Один из простейших квантовых алгоритмов – алгоритм американского математика Лова Гровера, предложенный в 1997 году, позволяет справиться с этим вопросом с гораздо меньшими затратами: нужное количество операций оказывается пропорционально всего лишь квадратному корню из числа возможных вариантов. Если вариантов 10 000, то потребуется 100 попыток.
Аналогичным образом можно ускорить решение еще одной довольно трудоемкой задачи – о коммивояжере, состоящей в отыскании кратчайшего маршрута неутомимого ходока, последовательно посещающего ряд городов. Кстати, квантовый алгоритм Гровера позволяет не только ускорить процесс, но и примерно вдвое увеличить число параметров, учитываемых при выборе оптимального решения. Решение этой задачи имеет самое непосредственное отношение к нашей жизни и стоимости товаров массового потребления, поскольку в конечную цену входят и транспортные расходы по доставке в магазин. Минимизация транспортных издержек – классическая задача коммивояжера.
Достаточно быстро появились и обещанные Фейнманом квантовые алгоритмы для моделирования поведения квантовомеханических систем, главная сфера приложения которых – квантовая химия и непосредственно расчет свойств химических и биохимических соединений и молекул.
Перспективы применения квантовых вычислений часто связывают и с так называемой NP-полной проблемой, очерчивающей круг задач, для которых очень трудно найти решение, но достаточно просто проверить его правильность. Такие задачи часто относятся к классу невычислимых в том смысле, что они не могут быть решены на классических компьютерах за время, пропорциональное некоторой степени числа битов, представляющих задачу. Сегодня невозможно точно определить круг всех вопросов, решение которых может быть получено с помощью квантовых алгоритмов и компьютеров. И это связано не только с отсутствием последних, но и с тем, что квантовая информатика находится в самом начале своего развития.
Системные суперпозиции
За счет чего же столь эффективны квантовые вычисления? Как известно, в классических компьютерах мы имеем дело с ячейками памяти и элементами логики, которые содержат бит информации, находящийся в одном из двух состояний – «0» или «1». Соответствовать этим состояниям может, к примеру, низкое или высокое напряжение на выходе транзистора. Вычислительный регистр классического компьютера в каждый момент времени описывается только одной комбинацией из N битов, причем состояние каждого бита однозначно определено: «0» или «1».
В квантовом компьютере элементарной единицей информации является квантовый бит, или
кубит (его роль может выполнять атом или любой другой квантовый объект), а поведение системы кубитов – вычислительного регистра – определяется законами квантовой механики. Кубит тоже может принимать «пограничные» логические состояния, соответствующие, к примеру, двум уровням энергии атома и обозначаемые как I0〉 или I1〉. Но он способен находиться и в «суперпозиции» этих состояний, то есть (с определенной долей вероятности) в каждом из них одновременно. Наглядно совокупность состояний кубита иногда изображают множеством точек на поверхности сферы, находящихся между ее южным и северным полюсами – «0» и «1».