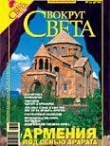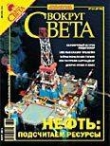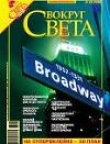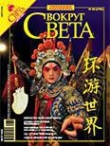Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 2006 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Мужской обряд «нанизывания» был настолько важен для сохранения единства рода, что долго практиковался даже при испанцах, поскольку воплощал постоянную родственную связь внутри рода между живыми мужчинами и далекими предками. Как писал хронист, «тот, кто сделал это большее количество раз, считался наиболее мужественным. Их сыновья с детства начинали заниматься этим, но ужаснее всего то, что они испытывали к этому склонность».
Отчасти массовое пристрастие к странному развлечению объясняется возможностью войти в измененное состояние сознания. При потере крови в ходе ритуала мозг вырабатывает вещества, стимулирующие появление галлюцинаторных видений. Древние мексиканские шаманы – «видящие» – достигали этого эффекта намеренно.
Жертвоприношения в практиках народов мира
Древний Вавилон (III—II тысячелетия до н. э.): раз в год в царские одежды рядили преступника и предавали смерти. Псевдоцарь пил и ел за царским столом, сожительствовал с царскими наложницами. Через пять дней его сажали на кол или вешали. Древний Египет (IV тысячелетие до н. э. – до начала н.э.): начиная с 17 дня месяца атира проводили четырехдневные поминки жертвенно умерщвленного и расчлененного Осириса (ныне конец октября – начало ноября). Обычай расчленять тело правителя или жреца и хоронить в разных частях страны для обеспечения урожайности и плодовитости был распространен повсеместно. Древняя Индия (II—I тысячелетия до н. э.): в инструкции по проведению жертвоприношений «Яджурведе» – «Книге жертвенных изречений» разъяснялось: «Боги живут тем, что жертвуется им здесь, внизу». Чтобы обрести могущество, надо было поднести богам жертву из одиннадцати человек и одиннадцати коров. Чтобы разбогатеть, надо было отправить богам табун лошадей в сопровождении пастуха. В Южной Индии (Малабар) по истечении срока службы правителю отрубали голову и подбрасывали над толпой, поймавший ее человек правил следующие пять лет. Древняя Греция (II—I тысячелетия до н. э.): во время мистерий Диониса в жертву приносили младенца, сваренную плоть которого съедали. Позже ребенка заменили козленком. Древний Рим (VIII—II века до н. э.): финикийского происхождения «ритуал Адониса» пришел в Рим из Греции. В начале персонификацией бога был приносимый в жертву человек, позже в первый день весеннего равноденствия срубали сосну и привязывали к ней куклу, а в третий, «кровавый», день под ритмическую музыку первосвященник-архигалл вскрывал вены на руке и входил в измененное состояние сознания. Остальные жрецы в экстазе наносили себе раны и оскопляли себя, разбрасывая отрезанные детородные органы. Таиланд (XIII—XIV века): при закладке города выбирали первых четырех пешеходов и захоранивали живыми под столбами ворот с каждой стороны света. Восточная Пруссия (до XIII века): состарившийся правитель племени совершал обряд самосожжения. Иногда власть принимал человек, убивший правителя. Западная Африка (IV—V века): в день равноденствия человека забивали мотыгами, а его тело зарывали на свежевспаханном поле. В Гвинее и Бенине сажали на кол молодую девушку. Кельтский мир (до IV века): друиды убивали с помощью стрел, сажали на кол или сжигали живьем военнопленных или преступников, которых помещали в чучело из веток и соломы. Древние славяне (до X века): приносили человеческие жертвы у подножия священных дубов, посвященных Перуну. Еще в 980 году князь Владимир велел поставить в Киеве деревянного идола громовержца Перуна с серебряной головой и золотыми усами и учредил принесение в его честь человеческих жертв. Практика продержалась всего восемь лет – пока Владимир не принял христианство.

Цомпантли из папье-маше
Поистине неизгладимое впечатление на испанцев произвела и традиция ритуального очищения и выставления костей. Она появилась в Центральной Мексике с приходом неких племен с севера, где эти практики существовали в период до нашей эры и в первые века нашей. Затем, в конце классического периода, эта традиция распространилась по всей Центральной Мексике и уже в постклассическом приобрела исключительный размах в большей части региона.
К концу первого тысячелетия в Мексике человеческие черепа и берцовые кости даже специально выставлялись в храмах. Но своей кульминации подобная практика достигла чуть позже в горных районах в виде коллективных захоронений расчлененных скелетов и в выставлении костей в храмах. Эти инсталляции и получили название уже упоминавшихся цомпантли.
Казалось бы, благодаря усилиям миссионеров мрачная практика должна была уйти в прошлое. Однако этого не произошло. И поныне в Мексике самым масштабным общенародным праздником остается День умерших (2 ноября), в который перетекает предшествующий ему христианский праздник День всех святых. Восходит он к древнему индейскому празднику выхода душ умерших из преисподней. В начале ноября повсюду: в магазинах, ресторанах, государственных учреждениях, в домах выставляются человеческие черепа. Правда, это уже не подлинные черепа умерших, а всего лишь их копии из папье-маше, керамики, теста или сахара. Каждая семья устраивает собственный алтарь с черепами и зажженными свечами. А заглянув накануне в офис какой-нибудь крупной фирмы, можно увидеть, как секретарша украшает подобную конструкцию цветами и гирляндами из горящих лампочек и тонких бумажных кружев цветов национального флага. Все обязательно подносят умершим предкам дары – маисовые лепешки, сладости, конфеты, сигареты, деньги и даже стопочку текилы. И дата эта традиционно отмечается как день всеобщей радости.

Кровавая статистика
Подсчитать количество принесенных в жертву людей невозможно. В древней Мексике никто не вел такой статистики, а археологические раскопки не позволяют оценивать эти данные. По сводкам мексиканского археолога А. Руса, из всех погребений 72 городищ майя на территории Мексики и Гватемалы только в 14 обнаружены останки людей, принесенных в жертву. На полихромной керамике майя встречается более полусотни изображений только актов ритуального обезглавливания, не реже встречаются сцены вырывания сердца. О кидании в колодец известно лишь из текстов – изображений не осталось. Словари языков майя XVI века сохранили семь названий разных типов жертвоприношений, некоторые из них сопровождены комментарием: «Не поддается описанию, но нечто совершенно ужасное». Можно сказать, что количество людей, приносимых в жертву с начала новой эры вплоть до появления испанцев, динамично возрастало, что прежде всего связано с наплывом традиций северных варваров – тольтеков и других науаязычных племен. При испанцах жертвоприношения были запрещены.
Вместилище души
Древняя традиция ритуальных жертвоприношений появилась в Мезоамерике еще на рубеже нашей эры, затем, в середине II тысячелетия новой эры, она приобрела исключительный размах, составив саму суть религиозного культа ацтеков и оплодотворив всю дальнейшую мексиканскую культуру. Этнографы хорошо знают, что приношения живой кровью, убиваемыми животными и обильной едой практиковались на протяжении истории фактически всеми народами, однако ацтеки сделали идею жертвоприношения ключевой в своем культе. За всеми обрядовыми действиями кроются очень древние и универсальные представления о том, что главными вместилищами души человека являлись кровь и дыхание. Тело было смертно, а душа – нет. Новорожденный обретал ее вместе с дыханием. Пока душа находилась в пульсирующей по телу крови или же теплом дыхании, человек считался живым. Жизнь покидала раненого вместе с кровью, при этом рана «дымилась» – «душа улетала», покидала свое временное пристанище. И, будучи бессмертной, отправлялась к остальным душам, обитавшим в вечном мире божественных предков и богов. Если же кровь сворачивалась, душа умершего оказывалась взаперти. Отсюда следовал естественный вывод: высвобожденная, она может служить связником между людьми и богами. Индейцы представляли ее в виде порхающей бабочки. А ту, которая только что покинула умершего, – большой зеленой мухой, называемой «глазами мертвых». И напротив, для возрождения в младенце душа возвращалась с небес в образе падающей звезды. Поэтому индианки, ожидая ребенка, поднимались во время метеоритных дождей на пирамиды и «ловили» звезды…
Галина Ершова, доктор исторических наук
Проект по улучшению человечества

Пролог
Мы сидим в столовой. Именно отсюда, а вовсе не с вешалки вопреки мнению Станиславского начинается театр. Подобно знаменам покрывших себя славой полков, плакаты легендарных спектаклей Бертольта Брехта украшают стены.
Принцип заведения – «мы кормим всех». То есть не только режиссеров, артистов и рабочих сцены, но также их друзей и собак, не говоря о голодных зрителях. Сегодня у нас здесь встреча с главным старожилом «Берлинского ансамбля».
Вернер Риман: «Вообще-то я был фармацевтом – «пилюльщиком», как у нас в городе говорят. Тут неподалеку, на Сталинской аллее, – теперь, как вы понимаете, она снова называется просто Франкфуртской. Тогда ко мне каждый день приходили за лекарствами актрисы. Я как их увижу – сразу все бросаю и начинаю болтать о театре, о премьерах. Болтаю, болтаю… Другие покупатели даже жаловались.
И вот однажды мне кто-то предложил попробоваться в качестве статиста. С тех пор я здесь».
Поверить, что нашему собеседнику уже давно за семьдесят, невозможно. Он – в форме, звонкоголос и подвижен, как подросток. Волосы поседели, но все еще можно определить, что когда-то они были огненно-рыжими. Риман – «беспокойный дух» театра. Здесь он работает и живет уже больше полувека. Впрочем, и о том, что происходило до него, старик рассказывает, как эрудированный краевед об истории своей деревни. Мы можем на него положиться.
Действие I.
Предыстория. «Человек ставящий»
Собственно, «Берлинский ансамбль» есть название труппы, собранной по окончании Второй мировой войны Брехтом. Но и до великого реформатора в этих стенах разыгрывались ключевые сцены истории немецкого искусства. 19 ноября 1892 года на Корабельной набережной открылся так называемый Новый театр. Учредители планировали использовать его под громкие антрепризы: столица крепнувшей Германской империи требовала все больше зрелищ, и диковинный «шоу-бизнес» в тогдашней конъюнктуре обещал такую же значительную прибыль, как, скажем, капитальное строительство.
Апарт (реплика в сторону): Кстати, первый владелец театра торговал лесом – ему здание обязано избытком древесины в отделке. Например, перила витой лестницы на второй этаж выпилены из цельного дуба…
В 1903 году порог будущего «Ансамбля» переступил молодой и жаждавший прорыва Макс Рейнхардт, которого нынешние энциклопедии называют «провозвестником современного театра». То есть порог переступила принципиально новая фигура режиссера – человека, ставящего спектакль, создающего его концепцию, а не просто разучивающего текст с исполнителями.
Параллельно Станиславскому лидер Нового театра разрабатывал идею «психологической игры». А кроме того, увлекался разнообразными техническими новшествами. Например, он изобрел вращающуюся сцену, которая позволяет быстро «менять» декорации. Естественно, публика валом повалила на Шиффбауэрдамм смотреть, как на сцене лес «крутится, как живой».
Наконец, Рейнхардт сосредоточил под своим началом все «доступные» ему яркие таланты страны и эпохи. Подарил счастливую сценическую жизнь Ибсену, Уайльду и Метерлинку. Пытался вразумить Европу, над которой уже нависла тень Первой мировой войны, словами Шекспира и Гёте.
Эпоха «человека ставящего» в театре на Корабельной набережной была коротка – всего три сезона. В последующие десятилетия «Новый» снова развлекал, как умел, публику, пока не разорился. В 1928 году за прогоревшую антрепризу, никому более особенно не нужную, отважился взяться молодой берлинский артист Эрнст Йозеф Ауфрихт.
Чтобы дело снова пошло, начинающему директору категорически требовался ударный спектакль. И тут в поле его внимания попали только что приехавшие в столицу толковые провинциалы Бертольт Брехт и Курт Вайль. Драматург и композитор уже работали однажды вместе над оперой «Расцвет и падение города Махагони», а теперь предложили Ауфрихту некий обтекаемый пока что материал под названием «Опера нищих» (авторам, как, кстати, и потенциальному покупателю, не исполнилось тогда еще и тридцати лет). «Оперу нищих», точнее, фарс о нравах старого британского общества, написал за двести лет до того лондонский поэт Джон Гей, а отыскала забавный раритет и перевела на немецкий язык Элизабет Хауптман – женщина, которой придется всю дальнейшую жизнь ходить в «сотрудницах гения». Теперь оставалось лишь превратить этот фарс в нечто актуальное для современной сцены.
Получив задаток, Брехт с Вайлем взяли с собой подруг, актрис Хелену Вайгель и Лотту Ленья, и отправились из суматошного Берлина на Лазурный берег под сенью магнолий сочинять свои бессмертные зонги (своего рода баллады-интермедии, исполняемые по ходу действия в качестве пародийного авторского комментария). Получилось целых две дюжины. Они до сих пор составляют главное обаяние целой театральной эпохи. Теперь огромная афиша «Трехгрошовой оперы» висит в «Берлинском ансамбле» «на вечном приколе» и служит немым укором «Наполеону сцены», который «забыл» даже упомянуть на ней имя несчастной Хауптман. Судьба, однако, простила ему это. Хотя критика хором обругала премьеру, состоявшуюся 31 августа 1928 года, утро 1 сентября Брехт и Вайль встретили уже (сильно подвыпившими) знаменитостями, а через полгода «Опера» шагала по всей Европе. И долго бы, очевидно, шагала, если б не печальные события 33-го года в Германии. Рассказывать о мытарствах самого автора при нацизме здесь мы не станем – вроде бы не к месту. О событиях последующих двенадцати лет в здании на Шиффбауэрдамм тоже не будем вспоминать, потому что, собственно, не о чем. Пока по соседней Унтер-ден-Линден маршировали люди с факелами, здесь шли оперетты и юморески. Потом театр горел вместе с городом…
Действие II.
История. Суд над мастером
Из американской эмиграции в Берлин Брехт вернулся среди первых деятелей искусств и тотчас вместе с теперь уже женой и соратницей Вайгель бросился собирать труппу. К 1949 году «Берлинский ансамбль» был в основном «готов» и приступил к показу спектаклей: сначала на сцене Немецкого театра (Шуманштрассе, 13а). Позже, после долгих поисков собственной площадки, супруги остановили выбор на обветшавшем доме на Корабельной – пусть и тесноват, но овеян дорогими обоим воспоминаниями. И интуиция не обманула реформатора: в старых стенах Нового театра возник действительно новый театр, который навсегда останется для всех «театром Брехта» и на десятилетия переживет его.
Вернер Риман:«В первое время после войны мы мало знали о Брехте. У нас тут его не особенно «пропагандировали». Но вот выражение «Берлинский ансамбль» как-то сразу вошло в наш обиход. И скоро все лучшие люди там собрались. Все, кто вернулся из-за границы и из тюрем – Эйслер, Дессау, Бессон, Энгель и, конечно же, Эрнст Буш. Этот артист у меня всегда вызывал восхищение, особенно тогда, когда он пел – «Песню единого фронта», «Песню солидарности»… Помню: потом, когда я уже поступил в труппу, он много помогал новичкам, не орал, как Брехт, а объяснял, как «добрый пастырь». Буш понимал, каково нам, ведь сам не был, что называется, профессионалом…»
От автора:Бертольт Брехт сознательно составил свой ансамбль из представителей двух категорий: проверенных «боевых» соратников и молодых людей, не «испорченных» специальным образованием, но всецело преданных делу и ему лично – вроде аптекаря Римана. Для того прорыва в искусстве, который реформатору удалось осуществить за шесть с половиной послевоенных берлинских лет, нужна была именно такая «секта» единоверцев. В результате родилось то, что ныне называется «брехтовским театральным языком».
Апарт:В сущности, под этим термином подразумевается нечто прямо противоположное «полноводной» и вдумчивой школе Станиславского. Символический и минималистский язык Брехта – это язык радикального протеста. Язык бескомпромиссной борьбы, неважно, по большому счету, с кем. В 50—60-х его берут на вооружение все авангардистские сцены Европы.
От автора:Буквально каждая из тогдашних постановок впоследствии вошла в историю: «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Мамаша Кураж»… Вернер Риман не оставался без дела.
Вернер Риман (голос звенит гордостью):«Я играл нищих, эсэсовцев и всякого рода пресмыкающихся подлецов. У меня, как видите, подходящая внешность: я высокий, тощий и бледный. И лицо, как у голодной лошади. Брехту все это нравилось. Он сам был худ и вертляв. А людей дородных и круглолицых, кажется, даже побаивался».
От автора:25 февраля 1956 года дородный и круглолицый Никита Хрущев прочел на ХХ съезде КПСС доклад «О культе личности и его последствиях». Говорят, что на Брехта за всю его трудную жизнь ни один литературный документ не производил такого сильного впечатления. Мастер воспринял этот документ как обвинительное заключение. И – признал «свою» вину. Шесть месяцев спустя он умер, не завершив работы над спектаклем «Жизнь Галилея». Его последней сценой стала сцена суда над ученым. После смерти основателя театр возглавила его жена, актриса Хелена Вайгель. Настали новые времена.
Действие III.
Современность. Борьба и мораль
Сцена I.
«Главный» артист
Входит Манфред Карге, 67 лет, артист, режиссер и преподаватель сценического искусства; исполнитель ролей Повара в «Мамаше Кураж» Брехта, мясного короля Маулера в «Святой Иоанне Скотобоен» того же автора, герцога Йоркского в «Ричарде II» Шекспира.
Перед нами – один из «патриархов» труппы, хотя с театром его связывает лишь первое десятилетие карьеры (60-е годы) и последнее – «эра» главного режиссера Клауса Паймана, о котором речь впереди. В конце семидесятых Карге, как и многие художники его поколения, уехал на Запад. Но особого сюрприза в том, что судьба снова привела его в «Берлинский ансамбль», нет: он «всегда стремился туда, где было интереснее всего».
Автор:Сейчас вы – один из крупнейших «брехтовских» артистов Германии. А как все начиналось?
Карге:Когда я был студентом, над моей кроватью висели две фотографии: Хемингуэя и Брехта…
Автор:Разве Хемингуэя издавали в ГДР?
Карге:Я вам скажу, что и к Брехту непросто относились. Он совсем не вписывался в общий политический климат. «Берлинский ансамбль» был островом блаженных.
Автор:Тем более сложно было, наверное, на него «выбраться» постороннему.
Карге:Случайно вышло: летом 1961 года я окончил театральное училище и уехал на каникулы. Возвращаюсь, а в Берлине уже успели построить стену. Мне она, как ни странно, принесла удачу. В городе принципиально изменился «расклад сил». А также – количество работников: первого сентября труппа «Ансамбля» недосчиталась человек восьми, их отрезало границей. И меня вдруг пригласили сразу на несколько прекрасных ролей… Нет, конечно, все мы разделяли чувство, что стена – это, по-немецки говоря, «шайссе». Но появилась надежда, что теперь, когда граница стала отчетливой, нам удастся более отчетливо говорить то, что мы считаем нужным…
Автор:И удавалось?
Карге (после паузы): На наше счастье, мы не успели закоснеть. Скажем, если бы я, новичок, в любом другом театре пришел к директору и спросил: «Нельзя мне самому поставить спектакль?» – на меня посмотрели бы так, будто я наложил кучу на стол. А на двери кабинета Вайгель всегда висел плакат с надписью «Одна минута». Это значило, что ровно на минуту к ней может в любой момент заглянуть любой проходящий по коридору. Вхожу: «Хелли, мы хотим ставить…» – «Да? Что?» – «Махагони». Хелена была старой театральной лошадкой. Она тут же сказала: «Неси распределение ролей».
Автор:И с тех пор вы уже сорок лет ставите Брехта по всему миру. Не надоел ли он вам?
Карге:Нет, от него нельзя устать. Его любовь к намеку, остроумие, глубина, швейковское лукавое начало – это, все, что мне нужно в искусстве. Кроме того, я постоянно открываю в Брехте нечто новое. Во времена ГДР он, естественно, был источником контраргументов. А после воссоединения страны… Разве, скажем, вы не замечаете, что критика капитализма снова актуальна? Кроме того, Брехт создавал действительно большую литературу. Кто теперь пишет так? Где великие визионеры? Где взгляд в будущее? Все попрятались по углам и слушают, как экономисты рассказывают о бесперспективности нашего общественного устройства. А Брехт, между прочим, предупреждал, что этим кончится.
Сцена II.
Худрук. Пьянящие мысли
Мы покинули столовую и теперь находимся в самом «чреве» театра. Здание, аскетическое снаружи, изнутри вполне соответствует «китчевой» (или, как сегодня бы сказали, «масскультовой») эпохе конца XIX века, когда его строили. Обильная позолота и лепнина, обитые красным плюшем банкетки, резные шпалеры на стенах. Трудно себе представить нечто более противное эстетике Брехта. Не так ли?
Вернер Риман (с улыбкой):Ну, что вы. Он был просто в восторге от всего этого старорежимного великолепия.
От автора:Брехт внес в интерьер только одну коррективу.
Риман (указывая на лепной плафон с прусским гербом, «зависший» слева над сценой):Видите орла? По распоряжению директора кто-то из артистов, вооружившись ведром красной краски и шваброй на длинной ручке, дотянулся до этой «вредной» птицы и перечеркнул ее красным крестом.
От автора:Дерзкий дизайнерский ход вполне «устроил» все последующие поколения руководителей «Ансамбля»: от Хелены Вайгель до Хайнера Мюллера, знаменитого драматурга, появившегося здесь сразу после падения ГДР. Впоследствии именно в этих стенах он произнесет саркастическую остроту смертельно больного человека: «Что-то со мной не так: я слишком много курю и слишком медленно умираю», – и уйдет из жизни в 1995-м. Театр оплачет его, пройдет короткую полосу безвременья и, наконец, встрепенется, откликнувшись на решительный зов нового «капитана», известного своей свирепой решительностью, Клауса Паймана.
Первым делом Пайман закрыл театр.
Правда, всего на несколько месяцев.
По прошествии же их, слегка подновив и отчасти перестроив здание, торжественно открыл 8 января 2000 года свой «Берлинский ансамбль».
Входит Клаус Пайман, 68 лет, режиссер, художественный руководитель «Ансамбля» с 1999 года. До «воцарения» в Берлине командовал театрами в Штутгарте и Бохуме, затем – знаменитым венским Бургтеатром (с 1986 по 1998 год). Заклятый враг истеблишмента. Относится к числу самых именитых «старых мастеров» европейской сцены и пользуется репутацией отпетого левака.
…А чтобы репутация эта, не дай Бог, не «проржавела», он регулярно «полирует» ее эффектными жестами. Вот недавно пригласил на практику в театр известного террориста-«краснобригадовца» Кристиана Клара, который отбывает 26-й год пожизненного заключения за многочисленные убийства и антигосударственную деятельность. Прокуратура пока того не отпускает, но, может, отпустит потом.
Автор:Господин Пайман, у вас на «повестке дня» – премьера «Мамаши Кураж», но ей уже почти 70 лет, а действие пьесы разыгрывается во время Тридцатилетней войны. Что тут актуального?
Пайман:За последние годы я поставил три большие пьесы. Вместе они образуют некий цикл, который можно озаглавить как «Героини Брехта»: в «Матери» это Пелагея Власова, в «Святой Иоанне Скотобоен» и «Мамаше Кураж» – заглавные персонажи. Однако социальный аспект меня тут мало интересовал, как и вся брехтовская театральная теория, которую я считаю устаревшей. Важны и актуальны только люди, конкретные образы. Хотелось показать, что мы имеем дело, независимо от политических идей, с сильными пьесами. С этой точки зрения «Кураж» – прекрасная семейная драма: у женщины трое детей, которых она теряет, и двое любовников, с которыми тоже ничего не получается…
(После паузы):Впрочем, я лукавлю. Конечно, никуда не деться от того, что мы играем эту драму сегодня, когда в мире уже давно идет Третья мировая. Я не сомневаюсь, что текущие события, которые мы наблюдаем – от балканского конфликта до ближневосточного, иракского и кавказского, – это она и есть. «Кураж», заметьте, рассказывает о войне религиозной. Нынешняя война – тоже за веру… То есть и за нефть, конечно, как все понимают. Хотя наша свободная пресса почему-то считает неприличным об этом писать.
Автор:Вы называете театр «институтом по улучшению человечества». И вам в самом деле кажется, что публика приходит сюда не чтобы провести приятный вечер, а на «перевоспитание»?
Пайман:Этого я не знаю, и знать не хочу. Мне, естественно, НЕ кажется, что растлитель малолетних, убийца или вообще любой негодяй случайно заглянет к нам, посмотрит, скажем, «Кавказский меловой круг» и тут же превратится в честного человека. Ничего подобного: он отправится домой и снова изобьет жену или детей… Вера в «театр как моральную инстанцию» (формулировка Готхольда Эфраима Лессинга), надежда, что мир можно сделать лучше и честнее посредством сценической игры, – это, конечно, иллюзии, которые живут часа два-три, пока не кончится спектакль.
Но, с другой стороны, каким был бы мир вообще без искусства? Еще хуже, злее, холоднее и безнадежнее.
Конечно, мы – «фабрика грез». Мастерим свой маленький альтернативный мирок и пытаемся потом противопоставить его гигантскому спруту снаружи. Этот мирок эфемерен, и первый порыв холодного ветра из-за двери театра легко разрушает его. Но сама пьянящая мысль о том, что пусть в одном, отдельно взятом доме посреди города Берлина (Германии, Европы…) можно такой «блиндаж» соорудить, – сродни наркотику, от которого не отучат никакие разочарования.
Кроме наркотика, больше сейчас рассчитывать не на что. Подумайте сами: христианство уже давно «откланялось». Социалистическая идея, увы, тоже изошла трещинами до самого фундамента. Почти все, кто раньше хотел улучшить мир, вооружившись ею, отказались от затеи. Особенно немцы, мы ведь видели крушение ГДР.
Автор:Вы разочарованы?
Пайман (с горечью):Есть от чего прийти в отчаяние: хорошая «пьеса», плохое исполнение… (Меняя тон): Нет, ностальгии по исчезнувшей стране я не чувствую ни малейшей: у меня успел выработаться к ней железный иммунитет. Уж слишком это был скучный и мелкобуржуазный проект – Германская Демократическая Республика. Интерес в нем представлял только побочный эффект: в результате дурацкого общественного эксперимента искусство получило множество выдающихся молодых людей. Не успели они начать свой путь, как оказались сбиты с ног запретами и цензурой – это очень болезненно, но закаляет таланты. Кстати, и Брехт ушел, в сущности, во внутреннюю эмиграцию, когда осознал, что не может дышать воздухом мещанской диктатуры. Я сам из того, послевоенного поколения. Я помню, как счастливы мы были, что нацистский милитаризм наконец ушел со сцены. И я помню, что мы тогда подразумевали под демократией – создание эффективных механизмов, которые никогда больше не допустят войны. И все. Остальное само собой пойдет хорошо. Конечно, получается идеализм в чистом виде. Собственно, Германия ведь родина идеализма, она заражена им безнадежно от Гегеля и Фихте до Маркса. Мы, например, мечтали так: прибавим к Гегелю и Марксу практические методы Ленина или Мао и закроем все вопросы истории. Этой мыслью и руководствовались, пока не осознали весь ее ужас. Но оказалось «поздно»: театр-то уже основан, и дееспособный театр! Для него, написавшего на своих знаменах лозунг «Показать людям путь к лучшему миру!», крушение социализма, конечно, стало катастрофой…
Автор:И это значит, что теперь вы работаете «просто так» – без идеала?
Пайман:Ну, есть неизменный идеал – искусство. Оно всегда готово снять все противоречия и оставить нам только красоту и сочувствие. Посмотрите, например, на средневековую живопись – в ней два мотива: эротический и страдательный. Мария и Христос. Желание прекрасного и солидарность с бесправными – вот все, что нужно художнику во все времена.
Автор:С тем, кто так говорит, не поспоришь, но как вашей декларацией пользоваться на деле?
Пайман (энергично):Срывать маски с тех, кто распоряжается людскими судьбами, как это делали и Мольер, и Брехт, и мой предшественник Хайнер Мюллер. Показывать смехотворность так называемой власти. Делать все, чтобы мы ИХ (!) не боялись, и продолжать жить по своим правилам, проявляя солидарность и сострадание друг к другу. Неустанно искать красоту.
(После выразительной паузы):Немецкий журналист здесь обязательно спросил бы меня: «И таким образом вы надеетесь добиться для людей лучшей жизни?..»
Воспитание рода человеческого – слишком деликатное дело. С ним надо осторожно обращаться, особенно если учитывать потенциальную силу прямого воздействия на зрителей. В течение тринадцати лет я служил, как вы знаете, директором Бургтеатра в Вене. Так вот: знаете, почему это заведение было построено? Потому что император Франц-Иосиф однажды сказал: «Я хочу подарить моим венцам подлинно национальный театр, чтобы они лучше себя вели». И с тех пор, если популярный артист из тамошней труппы выходил на сцену, например, в роли Лопахина, надев белые перчатки, на следующий день такие же покупала себе вся столица.
Автор:Возможно, австрийцам просто свойственна особая восприимчивость к художественному примеру? Вряд ли после вашей «Кураж» берлинцы выйдут на улицы с барабанами.
Пайман:…Ну, Берлин вообще варварский город. Здесь публика ощущает себя «столичной», оставаясь на деле глубоко провинциальной. Макс Рейнхардт бежал из Германии не только от нацистов, но и от берлинцев… А я еще в самом начале карьеры сказал, что хочу быть колючкой в заднице местного истеблишмента.
Автор:Сегодня левые вас упрекают в том, что именно ею (колючкой) вы и не являетесь.
Пайман:Видите ли, ситуация на Западе такова: люди, в чьих руках сосредоточилась реальная власть и с которых следовало бы спросить за то, что происходит в мире, выглядят вовсе не так, как мы себе их раньше представляли. Милые, образованные люди…
Автор:…Которые с удовольствием ходят в ваш театр…
Пайман:…И меня приглашают к себе в гости. Все эти промышленники, банкиры, политики, про которых мне все кристально ясно: они продажны, они – истинный и главный источник несправедливости.
Автор:Враг замаскировался?
Пайман:Да, он стал как бы невидим. С кем бороться? Почему, если все сильные мира сего так благонамеренны, умеренны, умны, доброжелательны, повсюду продолжают твориться ужасы?
В шекспировском «космосе» источник несчастий всегда на виду: коварный Ричард, преступный Макбет. Во времена Горького или Достоевского мы твердо знали противника: это тот, кто нас эксплуатирует и унижает. Даже когда шла Вьетнамская война, жизнь еще представала в чуть более простом виде: не правы американцы, они ведут войну против народа, который борется за независимость. Сегодня же проблема критики затруднена до предела: нет ни одного общепризнанного злодея!