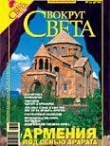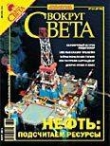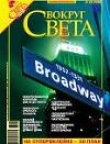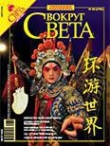Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №03 за 2006 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)

Словно в унисон историкофилософским размышлениям хайтековская часть Гинзы заканчивается, уступая место «токийской Таймс-сквер» – перекрестку Четвертого чоме. Здесь Харуми-дори, по которой следуем мы с Александом Кайрисом, пересекается с Чуодори, основной дорогой этих мест. Ее иногда ошибочно именуют в путеводителях «Гинзастрит». Архитектурное пространство перекрестка организовано вокруг уже упомянутого мной старейшего здания с большими часами на башне, а ныне очень дорогого универмага «Вако». Приобрести что-либо в этом строгом сером доме, похожем на старомодного джентльмена в цилиндре, – мечта любой японки, а в 45-м он уцелел лишь по счастливой случайности. В то время как вся Гинза была до основания разрушена бомбами «Летающих крепостей», «Вако» не получил даже царапины и был реквизирован генералом Макартуром под ставку Восьмой оккупационной армии.
На смену британской Гинзе XIX века и французской Гинзе первой половины ХХ уверенно заступала Гинза американская. Рядом с Четвертым чоме, в магазине «Мацуя», открылись военторг и склад посылок для американских военнослужащих. Надо ли говорить, что весь район немедленно превратился в гигантский черный рынок?
Шаг XIII. Якудза
Рынок «открывался» ночью на освещенных фонариками переносных прилавках («йомидзе»). Вдруг откуда ни возьмись здесь появлялись сигареты, радиоприемники, зажигалки, джинсы и прочие дары страны-победительницы. Всю эту пеструю торговлю на Гинзе держал в руках, подмяв под себя коренных японских якудза, скромный сержант морской пехоты США, а ранее «солдат» нью-йоркской мафии Ник Дзапетти. Его штаб-квартира располагалась в универмаге «Ланско». Начался токийский виток карьеры предприимчивого итальянца с того, что он «помог» командованию Восьмой армии открыть офицерский клуб «Рокер-4». Туда прямо в военных автобусах каждый вечер привозили на работу 2 000 девушек (название клуба, кстати, не имело никакого отношения к «року», который тогда еще и не родился. Слово «рокер» можно перевести как «лоток для промывания золота», а «4» появилось от названия соответствующего перекрестка Гинзы). Дело сразу окупилось – денег хватило и генералам, и мафиози.
Пост главного советника, «консильеро», у Дзапетти занимал русский белоэмигрант Владимир Бобров. В 1953 году в странном приступе патриотизма, прихватив мафиозную кассу вместе с русским же бухгалтером этой славной огранизации, первой красавицей Гинзы Ниной, Бобров рванул на моторной лодке к советским берегам. Но оказалось, не судьба. Беглецы заблудились в тумане и попали в руки американской контрразведки. А сам черный рынок района, переживший и междоусобицы якудзы, и экономические кризисы, пал жертвой Олимпиады-1964. Тогда городские власти, стыдясь иностранцев, приложили максимум усилий и «отбросили» нелегальную торговлю к окраинам. А здесь, где гуляем мы, напоминанием о ночном сиянии йомидзе остается ежегодный конкурс витрин и ночные шествия «отто-то-хикари» («Звуки и иллюминация») в рамках Большого карнавала Гинзы во вторую неделю октября…
Гинбура немыслима без визита в расположенную рядом с «Вако» старейшую на Японских островах булочную европейского типа, где продают «сакура анпан» – булочки с начинкой из сладкой бобовой пасты и засоленных цветов вишни. Особенно любил их и заказывал только здесь покойный Мэйдзи (правил в 1867– 1912 годах). Контраст сладкого и соленого в сочетании с нежным тестом удивителен.
Стоит также перейти Харумидори и познакомиться еще с одним старожилом района – магазином «Кюкедо». Это восхитительное царство японской каллиграфии, бумаги, красок и благовоний. Здесь можно купить все необходимое, чтобы дальше идти «кодо» («путем запаха») и «седо» («путем кисти»). И будьте уверены в качестве приобретенного: сама марка «Кюкедо» существует с 1663 года, а торговый дом на Гинзе – с 1880-го.
Шаг XIV. Микимото
В целом центр Гинзы прочно удерживают японские торговые гиганты, по странной прихоти судьбы все как один начинающиеся на «М»: «Мицукоси», «Мацуя», «Мацудзакая», «Микимото». Пройтись по ним – все равно что совершить путешествие в историю модернизации Японии: «Мицукоси» первым начал раскладывать товары не на полу, как было принято в старину, а на полках и в витринах. «Мацудзакая» первым прекратил требовать, чтобы покупатели снимали обувь перед входом. «Мацуя» первым запустил эскалаторы, которым больше всех радовались карманники: провинциалы забывали на «лестнице-чудеснице» обо всем, в том числе о кошельках. А «Микимото» стал первым «брэндом», вышедшим за границы империи. В конце XIX века его основатель Кокичи Микимото сделал простое, как все гениальное, открытие: если подложить песчинку-«затравку» в раковину устрицы-жемчужницы, то та «дорастит» ее до идеальной формы, обволакивая перламутром. Так было поставлено на поток производство искусственного жемчуга, точнее, естественного, но произведенного природой по «заказу» находчивого предпринимателя. Теперь в старом здании на Чуо-дори, где расположены магазин и музей знаменитой фирмы, стало тесно. «Гвоздь» экспозиции – коллекция уникальных ювелирных украшений с жемчугом «от Микимото» работы лучших ювелиров мира меняется ежегодно. Во Втором чоме Гинзу с 2005 года украшает «Микимото-2», построенный талантливым уроженцем Южной Кореи Тойо Ито. Не хуже Ренцо Пьяно он «впаял» рекламу заказчика в архитектуру: окна небоскреба сделаны, конечно же, в форме жемчужин.
Шаг XV. Сохранить лицо
Но даже у Микимото не хватило денег, чтобы просто расширить свой главный магазин около «великого» Четвертого перекрестка. Здесь – самая дорогая в мире земля. Любой житель Токио охотно покажет вам ювелирный магазин «Тасаки» около входа в метро «Гинза», который в 80-х годах обошелся владельцам в миллион долларов за каждый квадратный метр.
Прошло лет десять, промышленный бум, в разгар которого казалось, что Япония вот-вот догонит и перегонит Америку, кончился. «Экономический пузырь» лопнул, заставив бизнесменов десятками выбрасываться из окон конторских небоскребов. Но, как ни странно, цены на недвижимость, особенно на Гинзе, остались на прежнем уровне: страна «сохраняет лицо».
Сейчас район переживает уникальный период своей истории. Впервые он нацелен не в будущее, а в минувшее. Здесь пытаются законсервировать представление о Японии времен послевоенного экономического чуда. Сохранить образы Гинзы, делающие ее непохожей ни на одну торговую улицу мира. Оригинальность эта прослеживается и в сочетании громадных магазинов и уютных крошечных лавок, где продают традиционные товары. Мои любимые среди них – «Ватанабэ», где торгуют гравюрами на дереве, бумагой и красками, а также магазинчик карликовых деревьев – бонсай. Они затерялись в переулках Седьмого чоме, «в тени» торгово-развлекательного комплекса косметической фирмы «Сисеидо», прославившегося тем, что здесь поэт Такамура Котаро впервые попробовал кока-колу. И посвятил новому вкусовому опыту прочувствованные стихи.

Шаг XVI. Кимоно
Занимаясь гинбурой, вы обязаны глазеть на толпу. Поражает, что в ней сосуществует сразу несколько Японий. Одетые по последней европейской моде люди идут вперемешку с теми, кто в кимоно и деревянных сандалиях гета (представьте себе Тверскую или Невский, где «прикиды» от «Версаче» соседствуют с сарафанами и кокошниками). Хотя «Европы» на Гинзе становится все больше, здесь иногда можно встретить даже учениц гейш – майко из соседнего квартала Нихомбаси. По традиции, опытные наставницы «рисуют» им ярким гримом «красивые» лица («дипломированная» гейша косметики не употребляет, на ее лице должно быть видно любое мимолетное изменение настроения)… Еще я видел посреди бела дня молодого человека, не имевшего на себе ничего, кроме кожаных трусов. А эскортировали его импозантные ассистенты в строгих фраках и белых перчатках. Впрочем, то, конечно, был перформанс художника-авангардиста, эпатирующего «сытую буржуазию».
Сами представители этой буржуазии в Гинзе тоже иногда ведут себя эксцентрично, но уже по служебной надобности. У многих магазинов встречались респектабельные люди в «тройках», которые что-то громогласно выкрикивали, хватая прохожих за рукава. Выяснилось, что это будущие начальники отделов крупных компаний, которых перед повышением послали рекламировать различные товары: пусть избавляются от остатков застенчивости и привыкают навязывать свою волю. А вот – японцы в марлевых масках. Вообще-то, воздух в Токио чист. Муниципалитет тратит безумные деньги на экологию, и я своими глазами видел над Гинзой радугу. Так что классическое клише еще советской прессы о «задыхающихся от смога японцах» – полная ерунда. Маски же повязываются теми, кто переносит легкую простуду на ногах и боится заразить окружающих. «Деликатность японца превосходит понимание гайдзина», по справедливому мнению Кайриса. От себя добавлю: всякое воображение превосходит и их постоянная готовность помочь. Однажды ночью, заблудившись, я в отчаянии обратился к парочке влюбленных, тыча пальцем в карту, где была обозначена моя гостиница (без подобной «шпаргалки» портье вообще «не выпустит» вас на улицу). Парень в джинсах немного говорил по-английски. Он буквально взял меня за руку и повел. А его подружка в кимоно тут же отстала на два шага и засеменила сзади, не вмешиваясь в беседу мужчин. На протяжении десяти кварталов я чувствовал спиной, как она ненавидит гайдзина, испортившего свидание, но стоило обернуться – и в лицо мне светила только вежливая улыбка. Японец – заложник иностранца, он просто не может допустить, чтобы с вами в его стране что-то случилось. Главное, понять: знает он, как вам помочь, или нет, а то и сам измучается в ужасе, что «теряет лицо», и вас измучает. В последнем случае – найдите способ тактично отказаться от его «услуг» и тотчас отправляйтесь за советом в полицейский участок («кобан»), который на Гинзе расположен прямо у Четвертого чоме. Сверкающее зеркальными стеклами конструктивистское сооружение увенчано статуей лупоглазого беспечного лягушонка, олицетворяющего гинбуру. Дежурные стражи порядка, среди которых непременно найдется милая девушка в кокетливой форменной шляпке, говорят по-английски и только и делают, что спасают потерявшихся иностранцев.
Шаг XVII. Суши
Тем временем солнце перевалило на западную сторону горизонта – самое время перекусить. Саша не стал мудрствовать и завел меня в первый попавшийся суши-ресторан, на Гинзе таких десятки. Он традиционный: необходимо снять обувь и сидеть на татами. Интерьер – смешанный, в хай-тек стильно вплетаются классические японские мотивы. Низкие столики вырезаны из ценного дерева, а посуда и даже палочки выплавлены из хромированного металла. Вместо стенок, разделяющих «кабинеты», – полупрозрачные легкие завесы из какой-то необычной ткани, а сквозь них видны силуэты других клиентов, поваров, «колдующих» над вашей едой. В Стране восходящего солнца кухню не прячут, а выставляют напоказ. Повара в артистизме не уступают гейшам. Интересно, как они умудряются от густого чада кухни оставить только легкие, аппетитные ароматы?.. Кстати, зайдя не в ресторан, а в сушибар, можно поучаствовать еще в одном аттракционе: сесть за стойку и смотреть, как мимо по «конвейеру» проплывают суши (правильнее – суси) разных видов. Ну и время от времени «ловить» их. Гинза специализируется на этих рулетиках из риса с сырой рыбой, хотя здесь можно найти еду на любой вкус.
Шаг XVIII. Сакэ
…Как и выпивку. Правда, в наши дни суши все чаще запиваются «чужим» напитком – пивом, которое буквально хлынуло в Японию еще во времена Мэйдзи. Хлынуло опять-таки через Гинзу. На Чуо-дори уже больше ста лет функционирует специальный зал «Лев», где подают один из трех главных японских сортов – «Саппоро», а также наименований пятьдесят европейских, американских и австралийских. Выглядит он изнутри как типичная мюнхенская пивная, даже официантки обряжены в баварские платья с жакетками. Но в целом японцы пытаются соблюсти национальное своеобразие даже в таком очевидно иностранном деле, как пивоварение: сейчас в Токио входит в моду их «ответ остальному миру» под названием «хаппосу». Этот дешевый напиток на морской воде и сыром солоде придуман всего восемь лет назад. Но – нечто вроде «баловства», а основу местной алкогольной «мифологии» продолжает, конечно, составлять сакэ, которого мы с Александром Кайрисом также не преминули отведать в главном святилище напитка – сакэ-центре «Нихонсу». Он совмещает в себе функции магазина, где продаются сотни три сортов 15—20-градусной рисовой водки, музея, где вам все о ней расскажут, и распивочной, где ее можно сколько угодно пробовать.
Я пришел к выводу, что самое интересное в сакэ то, как ты от него пьянеешь: не долго, отяжелев после бессчетного числа винных бокалов, не сразу, проглотив стакан русской «белой», а плавненько, словно парашютист, который некоторое время скользит по крылу самолета и только потом срывается в бездну.
Шаг XIX. Искусство
Мир еды на Гинзе – второй по размерам после мира торговли: на 3 000 магазинов приходится 1 607 баров и ресторанов. Почетное третье место занимает мир искусства, только частных художественных галерей здесь насчитывается более трехсот. Кайрис знакомит меня с владельцем галереи «Синода Биютцу», а сам, утомленный гинбурой, отправляется в свой офис работать. Масамичи Синода выглядит еще весьма молодо, но, как оказалось, торгует импрессионистами уже почти два десятка лет. Рассказ «инсайдера» открывает передо мной секреты «художественной Гинзы».
Шаг назад. Ван Гог и Хокусай – одно лицо?
Когда в 80-х годах разбогатевшие японцы начали скупать «обнаженных» Ренуара, «летающих влюбленных» Шагала, «голубых и розовых акробатов» Пикассо, мировой рынок искусства всерьез заинтересовался дальневосточной империей. В 1987 году за 40 миллионов долларов сюда уехали из Англии «Подсолнухи» Винсента ван Гога. Этого голландца жители Страны восходящего солнца считают своим, веря, что в предыдущей жизни он был художником вроде Хокусая. Еще год спустя универмаг «Мицукоси» с Гинзы приобрел гуашь Пабло Пикассо «Акробат и Арлекин» за 38,5 миллиона долларов. Но звездный час Японии настал в 1990-м, когда никому дотоле не известный дилер с Гинзы Хидэто Кобаяси заплатил на аукционе в Нью-Йорке 82,5 миллиона долларов за «Портрет доктора Гаше» того же ван Гога и еще 78 – за «Мулен-дела-Галет» Ренуара (заказчиком был мультимиллионер Саито). Эти покупки стали символом превращения Японии в экономическую супердержаву, а Гинзы – в Мекку артрынка. Правда, во время кризиса последнего десятилетия японские коллекционеры начали потихоньку распродавать купленные на волне успеха сокровища. Распродавать в том числе и российским клиентам, которых с каждым годом становится все больше. Если цена на нефть еще немного вырастет – чем черт не шутит, вдруг «Доктор Гаше» перекочует в Москву?
Шаг XX. Кампай
На Гинзу опускается вечер, и я в последний раз меняю компаньона: непроницаемого господина Синоду – на улыбчивого Александра Лыскина, товарища по экспедиции «Вокруг света». Фотограф только несколько часов назад приземлился в аэропорту «Нарита» и теперь напоминает мне меня самого двухдневной давности: ошарашенно глазеет на улицы в трех уровнях. Клин, как я теперь уже знаю, вышибают клином, и, чтобы привести коллегу в чувство, тащу его в «веселый квартал» Гинзы – к отелю «Никко». Кругом стайками прогуливаются подвыпившие клерки знаменитых фирм. Похоже, за вечер они уже не раз провозглашали: «кампай!» (нечто среднее между нашими «На здоровье!» и «Поехали!»). Заманчиво горят огни ночных клубов: «Эсквайр», «Париж»... Молодые ребята, очень напоминающие японцев с мечами из фильма «Убить Билла», приглядывают за своими подопечными «хостессами» («хозяюшками»). Снимать не рекомендуется, хотя никто и не разобьет вам камеру, как это сделали бы просвещенные европейцы где-нибудь на Риппербане в Гамбурге. Опытный Лыскин делает вид, что ничего не понимает, а сам нажимает и нажимает на затвор.

Девушки, кто в длинных вечерних платьях, кто в коротких «а-ля Мерилин Монро», весело смеются и охотно позируют. Но стоит появиться потенциальному клиенту, все как по команде переключают свое очарование на него. Рядом с шеренгой хостесс сидит за своим столиком хиромантка с усталыми глазами Кассандры. Перед ней лежит электрический фонарик: им она будет освещать вашу ладонь во время гадания. Гадалки на Гинзе работают в основном не с женщинами, а с мужчинами, с теми самыми клерками, которых заманивают девицы. Последние, кстати, отнюдь не жрицы любви в привычном понимании. Продажная любовь в Японской империи официально запрещена с 1957 года, и в клубе, который сейчас перед нами, никакого разврата не будет. Хостессы – те же европеизированные гейши, их дело – флирт, который скрасит вечер замученных на службе джентльменов. Подлить пива или сакэ, первой крикнуть «кампай!», пошутить и посмеяться вашим шуткам, спеть в компании, а потом красиво расстаться с клиентом, долго кланяясь ему вслед, – вот вся их работа. Но, что самое удивительное, – и сами клиенты с ними чаще не отдыхают, а работают! В раскованной атмосфере, созданной хостессами под «кампай!», можно «разрулить» ситуацию, которая на официальных переговорах зашла в тупик из-за «оков этикета». Крупные компании даже оплачивают из своего бюджета услуги «вечерних фей». «Самый простой способ стать своим в этом царстве замкнутых групп – пару раз до бесчувствия напиться с партнером из Страны восходящего солнца. Если президент японской компании поведет вас вечером по злачным местам, его подписи на счетах будут играть для дальнейших деловых отношений не менее важную роль, чем заветная подпись на контракте», – справедливо писал в «Ветке сакуры» советский журналист Всеволод Овчинников. Правда, писал он это в «золотые семидесятые», а с тех пор экономический кризис заставил корпорации вдвое сократить представительские расходы. Элитарные закрытые клубы, где бутылка виски «Баллантайн» стоит 1 500 долларов, а гостей принимают только по рекомендациям, – теперь редкость. В моде агрессивный стиль заведений подешевле, которые не стесняются буквально вырывать клиентов друг у друга.
Район с хостессами остался позади, мы с Лыскиным направляемся в бар иностранных журналистов снимать ночную Гинзу сверху.
Нас, правда, ждал там поначалу неприятный сюрприз: вылезти прямо на крышу, о чем вроде бы было договорено, поначалу не разрешили. Менеджер всего здания, к которому Ассоциация и лично мой новый друг Джулиан Райалл обратились с официальной просьбой, вежливо, но твердо отказал. Дескать, с крыши открывается слишком хороший обзор закрытой для туристов жилой части Императорского дворца. Да, и кроме того, не так давно один самоубийца сиганул вниз: «У господ русских ведь нет справок, что они нормальные?..»
Положение, однако, спасла пресловутая японская боязнь потерять лицо. Узнав об отказе своего коллеги, менеджер клуба, расположенного в этом здании, не стерпел обиды. Он провел нас какими-то лабиринтами, открывая многочисленные двери собственным ключом. И вот – мы на месте. От вида действительно захватывает дух. С одной стороны, как на ладони – Сады Микадо, с другой – Гинза. Александр тут же улегся на парапет со своим фотоаппаратом и в зловещем свете красных фонарей крыши кажется снайпером, который ведет прицельный огонь по скоростным поездам, потоку машин, золотыми нитями уходящему к морю… И тут до меня доходит: Гинза – это игра. Японцы уверены, что говорят только то, что хотят сказать. Мы убеждены, что способны уловить «проговорки» и раскрыть тайну их культуры. И те, и другие темнят, как и полагается в азартной игре. Не случайно Гинза дневная и ночная – такие разные. Настоящей видится мне последняя, когда японский Бродвей вспыхивает безумным фейерверком огней.
Фото Александра Лыскина
Григорий Козлов
Олицетворение средних веков

Светская живопись появилась на Руси только в конце XVII столетия – до этого она находилась под строгим церковным запретом». Вот почему мы не знаем, как выглядели знаменитые персонажи из нашего прошлого». Теперь благодаря работам специалистов Музея-заповедника «Московский Кремль» и экспертов-криминалистов у нас есть возможность увидеть облик трех легендарных женщин великих княгинь: Евдокии Дмитриевны, Софьи Палеолог и Елены Глинской. И раскрыть тайны их жизни и смерти».

Великая княгиня Евдокия Дмитриевна
Родилась между 1350—1355 годами. Умерла в 1407 году. Евдокия происходила из семьи суздальских и нижегородских князей. В 1366 году она стала женой великого князя Дмитрия Донского и родила ему 11 детей, двоих из которых крестил преподобный Сергий Радонежский. В 1382 году, когда хан Тохтамыш напал на Москву, Евдокия чудом избежала гибели. Согласно немногочисленным свидетельствам она была скромной и благочестивой женщиной, хорошей матерью и супругой. В московском летописном своде конца XV века записано о 1393 годе: «Княгиня великая Евдокея Дмитреева поставила на Москве церковь каменную Рождество святые богородицы и украсила ее иконами и книгами и сосудами золотыми и серебряными и пеленами многоценными». Кроме того, Евдокия основала Вознесенский монастырь и некрополь при нем. По обычаю тех лет незадолго до смерти она приняла монашество под именем Евфросиния. Канонизирована православной церковью в чине преподобной.

Великая княгиня Софья Палеолог
Родилась между 1443—1448 годами. Умерла в 1503 году. Софья приходилась племянницей последнему византийскому императору Константину XI, погибшему в 1453 году при захвате турками Константинополя. Вместе с близкими она пережила все тяготы изгнания и бегства сначала на остров Керкиру (совр. Корфу), а затем в Рим. Софья рано осиротела и, если бы не заботы Виссариона Никейского, известного церковного деятеля и просветителя, судьба ее могла оказаться плачевной. Супруга Лоренцо Медичи Кларисса Орсини находила юную Палеолог очень приятной: «Невысокого роста, восточное пламя сверкало в глазах, белизна кожи говорила о знатности ее рода». В июне 1472 года царевна отбыла в Московию, чтобы стать женой великого князя Ивана III. Приезд иностранки был для москвичей значительным событием. Летописец отметил в свите невесты «синих» и «черных» людей – арабов и африканцев, никогда прежде не виданных в России. Софья стала участницей сложной династической борьбы за наследование русского престола. В итоге ее старший сын Василий (1479—1533) стал великим князем в обход законного наследника Ивана, чья ранняя смерть по сей день остается загадкой.
Прожив в России 30 с лишним лет, родив мужу 12 детей, Софья Палеолог так и не смогла до конца понять чужую для нее страну, ее традиции и законы. Даже в официальных хрониках можно встретить записи, осуждавшие поведение княгини в некоторых сложных для страны ситуациях.

Великая княгиня Елена Глинская
Родилась около 1510 года. Умерла в 1538 году. Дочь Василия Глинского, который вместе с братьями бежал из Литвы в Россию после неудавшегося восстания на родине. В 1526 году Елена стала женой великого князя Василия III. Сохранились его нежные письма к ней. В 1533—1538 годах Елена была регентшей при малолетнем сыне, будущем царе Иване IV Грозном. В годы ее правления построили стены и башни Китай-города в Москве, провели денежную реформу («князь великий Иван Васильевич всея Руси и его мать великая княгиня Елена велели переделывать старые деньги на новый чекан, для того, что было в старых деньгах много обрезанных денег и подмесу…»), заключили перемирие с Литвой. При Глинской в тюрьме погибли два брата ее мужа, Андрей и Юрий, претенденты на великокняжеский престол. Так великая княгиня пыталась защитить права своего сына Ивана. Посол Священной Римской империи Зигмунд Герберштейн писал о Глинской: «По смерти государя Михаил (дядя княгини) неоднократно укорял его вдову в распутной жизни; за это она возвела на него обвинение в измене, и он несчастный скончался в заключении. Немного спустя и сама жестокая погибла от яда, а любовник ее по прозвищу Овчина, как говорят, был растерзан и разрублен на части». Свидетельства об отравлении Елены Глинской подтвердились только в конце XX века, когда историки изучили ее останки.
Идея проекта, о котором пойдет речь, возникла несколько лет назад, когда я участвовала в экспертизе человеческих останков, обнаруженных в подвале старого московского дома. В 1990-е такие находки быстро обрастали слухами о якобы происходивших здесь расстрелах сотрудниками НКВД в сталинские времена. Но погребения оказались частью разрушенного кладбища XVII– XVIII веков. Следователь был рад закрыть дело, а работавший со мной Сергей Никитин из Бюро судебно-медицинской экспертизы вдруг обнаружил, что у него с историком-археологом есть общий объект для исследований – останки исторических личностей. Так, в 1994 году началась работа в некрополе русских великих княгинь и цариц XV – начала XVIII века, сохраняющегося с 1930-х годов в подземной палате рядом с Архангельским собором Кремля.
Жестокосердная Софья
Первой «рассказала» о себе женщина XV столетия, прожившая долгую, по меркам того времени, жизнь, – Софья Палеолог, супруга великого князя Ивана III. Антропологи и эксперты-криминалисты помогли историкам узнать об этом человеке подробности, которых нет в письменных источниках. Теперь известно, что великая княгиня была небольшого роста – не более 160 см, болела остеохондрозом и имела серьезные гормональные нарушения, обусловившие мужеподобность облика и поведения. Смерть ее наступила по естественным причинам в возрасте 55—60 лет (разброс цифр обусловлен тем, что неизвестен точный год ее рождения). Но, пожалуй, самыми интересными оказались работы по воссозданию внешности Софьи, благо ее череп хорошо сохранился. Методику реконструкции скульптурного портрета человека давно и активно используют в судебно-розыскной практике, и точность ее результатов многократно доказана.
Мне посчастливилось видеть этапы воссоздания облика Софьи, еще не зная всех обстоятельств ее многотрудной судьбы. По мере того как проявлялись черты лица этой женщины, становилось ясно, насколько жизненные ситуации и болезни ожесточали характер великой княгини. Да иначе и быть не могло – борьба за собственное выживание и судьбу сына не могла не оставить следов. Софья добилась того, чтобы ее старший сын стал великим князем Василием III. Смерть законного наследника, Ивана Молодого, в возрасте 32 лет от подагры до сих пор вызывает сомнения в ее естественности. Кстати, здоровьем князя занимался итальянец Леон, приглашенный Софьей. Василий унаследовал от матери не только облик, который оказался запечатлен на одной из икон XVI века – уникальный случай (икону можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея), но и жесткий характер. Греческая кровь сказалась и в Иване IV Грозном – он очень похож на свою царственную бабушку средиземноморским типом лица. Это отчетливо видно, когда смотришь на скульптурный портрет его матери – великой княгини Елены Глинской.
Отчего умерла княгиня Глинская
Реконструкция внешности Елены Глинской высветила ее прибалтийский типаж. Братья Глинские – Михаил, Иван и Василий – перебрались в Москву в начале XVI века после неудавшегося заговора литовской знати. В 1526 году дочь Василия – Елена, которая, по тогдашним понятиям, уже засиделась в девках, стала женой великого князя Василия III Ивановича. Умерла она скоропостижно 27—28 лет от роду. Лицо княгини отличалось мягкими чертами. Она была довольно высокого для женщин того времени роста – около 165 см и гармонично сложена. Антрополог Денис Пежемский обнаружил в ее скелете весьма редкую аномалию: шесть поясничных позвонков вместо пяти.
Один из современников Ивана Грозного отмечал рыжину его волос. Теперь ясно, чью масть унаследовал царь: в захоронении сохранились остатки волос Елены Глинской – рыжего, как красная медь, цвета. Именно волосы помогли выяснить причину неожиданной смерти молодой женщины. Это крайне важная информация, ведь ранняя гибель Елены несомненно повлияла на последующие события русской истории, на формирование характера ее осиротевшего сына Ивана – будущего грозного царя.
Как известно, очищение человеческого организма от вредных веществ происходит через систему печень – почки, но много токсинов накапливается и сохраняется длительное время также в волосах. Поэтому в тех случаях, когда мягкие органы недоступны для исследования, эксперты делают спектральный анализ волос. Останки Елены Глинской анализировала эксперт-криминалист кандидат биологических наук Тамара Макаренко. Результаты получились ошеломляющими. В объектах исследования эксперт обнаружила концентрации солей ртути, в тысячу раз превышающие норму. Такие количества организм не мог накопить постепенно, значит, Елена сразу получила огромную дозу яда, что вызвало острое отравление и стало причиной ее скорой смерти.
Позднее Макаренко повторила анализ, который убедил ее: ошибки нет, настолько яркой оказалась картина отравления. Молодую княгиню извели с помощью солей ртути, или сулемы, – одного из наиболее распространенных в ту эпоху минеральных ядов.
Так 400 с лишним лет спустя удалось узнать причину гибели великой княгини. И тем самым подтвердить слухи об отравлении Глинской, приведенные в записках некоторых иностранцев, посетивших Москву в XVI– XVII веках.
Просто «Евдокея»
Так лаконично был отмечен белокаменный саркофаг Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского. До сих пор жизнь этой великой княгини остается за рамками научных публикаций, что объясняется скудостью упоминаний о ней в средневековых хрониках. Неизвестно, когда в семье нижегородского и суздальского князя Дмитрия Константиновича родилась девочка Евдокия. Не знаем мы и о ее детских годах, которые, впрочем, должны были закончиться ранним замужеством.
В 1366 году в Коломне состоялась свадьба Евдокии и юного московского князя Дмитрия Ивановича. В их семье родились 11 детей (первенец Василий появился в 1371-м, последний – Константин – в 1389-м). Угрозы военных набегов неоднократно заставляли великую княгиню покидать Москву. Так, в августе 1382 года, когда она только-только родила сына Андрея, к городу подходил хан Тохтамыш с огромным войском. Вместе с ним заодно выступили и родные братья Евдокии – Василий и Семен. Это из-за их предательства Тохтамышу удалось захватить и сжечь Москву. Дмитрий Донской тогда покинул город, чтобы собрать войско для отпора врагам, а великая княгиня с новорожденным сыном смогла вырваться из Кремля вместе с митрополитом Киприаном буквально перед приходом ордынцев. Горожане сперва не хотели выпускать из крепости жену отсутствующего великого князя, и, останься Евдокия в Москве, при захвате города она бы несомненно погибла.