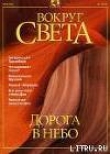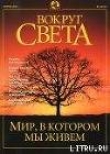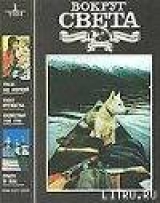
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №1 за 1994 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Но тут на еще недавно доблестную армию, стоявшую у ворот Петрограда, обрушилась новая беда – сыпной тиф. Журналист Г.И.Гроссен, оставивший воспоминания «Агония Северо-Западной армии», писал: «Пьеса „Мороз по коже“ петроградского Театра Ужасов бледнела перед тем ужасом, который я испытывал в Нарве в начале февраля (1920) при посещении „госпиталя“ – парусиновой фабрики, которая, в полном смысле этого слова, была гробом живых и мертвых людей». Поручику Рябчикову повезло – он выздоровел, спасенный добрыми людьми, на крыльцо дома которых был положен «живым трупом»…
После окончательного расформирования Северо-Западной армии в марте 1920 года выживших после тифа русских солдат и офицеров, ставших «лицами без определенных занятий», эстонское правительство направило на принудительные лесные работы – лесоповал и добычу торфа.
Этот очередной круг ада – полузвериную жизнь в лесу – преодолели только самые стойкие. Бывший поручик Рябчиков оказался в их числе.
А потом был переезд во Францию, эмигрантское существование в Париже, ожидание ареста во время немецкой оккупации. И всю жизнь – тоска по России, страстное желание увидеть кого-нибудь из оставшихся на родине близких. Приехавшая в конце 1965 года в Париж после долгого и изнурительного оформления выезда сестра Татьяна Матвеевна застала лишь свежую могилу брата, с которым рассталась сорок семь лет назад…
Твое лицо,
Твое тепло,
Твое плечо —
Куда ушло?
Галлиполийский обелиск

Этот памятник возвышается в центре участка, называемого Галлиполийским. Когда-то подобный памятник стоял неподалеку от Галлиполи – небольшого турецкого порта в Дарданеллах, где в ноябре 1920 года после эвакуации из Крыма, по распоряжению французского оккупационного командования, были размещены части Русской армии генерала Врангеля. Здоровье людей, высаженных в буквальном смысле на голом месте, было подорвано перенесенными тяготами – и на греческом кладбище вскоре стали появляться русские могилы. Их становилось все больше, и русских изгнанников начали хоронить на месте старого армянского кладбища, где, по преданию, хоронили пленных запорожских казаков и русских солдат Крымской войны. Здесь и образовалось Русское военное кладбище.
У обитателей галлиполийского лагеря возникла мысль увековечить память своих соотечественников, умерших на чужбине. Решили соорудить памятник. Автором его проекта и одновременно строителем стал подпоручик Технического полка Н.Н.Акатьев. Для сооружения памятника по приказу генерала А.П.Кутепова, командира 1-го Армейского корпуса, в который были сведены русские части в галлиполийском лагере, каждый должен был принести хотя бы один камень.
И потекла «бесконечная вереница людей, согнувшихся под своей добровольной ношей, в том числе седых стариков и малых детей, с тихими и серьезными лицами приходивших на кладбище», – вспоминал Николай Николаевич Акатьев. Было принесено 24 тысячи камней.
Памятник, торжественно открытый 16 июля 1921 года, напоминал одновременно и древний курган, и шапку Мономаха, увенчанную крестом. На мраморной доске под двуглавым российским орлом было написано: «Упокой, Господи, души усопших. 1-й Корпус Русской Армии своим братьям-воинам, в борьбе за честь родины нашедшим вечный покой на чужбине в 1920-21 годах и в 1854-55 г.г., и памяти своих предков-запорожцев, умерших в турецком плену».
Галлиполийский памятник был разрушен землетрясением 23 июля 1949 года. Его уменьшенную копию как дань памяти всем участникам Белого движения в России к сорокалетию со дня открытия было решено установить на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где к тому времени нашли последний приют многие участники движения. И как когда-то камни, теперь – деньги на сооружение памятника были собраны русскими людьми, уже рассеянными по всему миру. Проект воссоздания Галлиполийского памятника безвозмездно делали супруги Бенуа: Альберт Александрович и Маргарита Александровна, ранее создавшие проекты Успенской церкви на этом же кладбище и храма-памятника под Реймсом в честь погибших во Франции в 1914-18 годах русских воинов.
Памятник был открыт в воскресенье, 2 июля 1961 года в присутствии большого количества народа. На мраморной доске под двуглавым орлом была сделана новая надпись: «Памяти наших вождей и соратников». Другая мраморная доска с краткой историей памятника прикрывала замурованную нишу, куда были вложены списки «в рассеянии скончавшихся» участников Белого движения. А по восьмиугольному цоколю шли посвящения генералу Лавру Георгиевичу Корнилову и всем воинам корниловских частей – корниловцам, адмиралу Колчаку и всем морякам российским, генералу Маркову и марковцам, казакам, генералу Дроздовскому и дроздовцам, генералу Деникину и первым добровольцам, генералу Алексееву и алексеевцам, генералу Врангелю и чинам конницы и конной артиллерии…
Ни один из вождей Белого движения, чье имя увековечено на памятнике, не нашел здесь своего последнего приюта. Большинство приняло смерть в России и осталось там без могил и крестов. Прах умершего в Екатеринодаре М.В.Алексеева удалось перевезти в Сербию, а уцелевшие А.И.Деникин и П.Н.Врангель оказались погребенными далеко от парижского кладбища, где одиноким стражем могил русских воинов возвышается Галлиполийский памятник.
Владимир Лобыцын | Фото автора и П.Корнакова
Via est vita: Богиня со дна моря

«Для меня настоящим сокровищем может быть остов корабля Христофора Колумба, пропавшего в 1492 году около Гаити, или якорь Магеллана, исчезнувший на рейде Борнео. Золото для меня почти ничего не значит. Поиски его – далеко не главная цель…» – говорит известный французский искатель подводных сокровищ Патрик Лизе.
В наше время искатель сокровищ уже не одинокий охотник. Для поисков и обследования затонувших кораблей сегодня приходится снаряжать целую экспедицию: ведь легкодоступные суда все давно обследованы или разграблены, а те, с которыми предстоит работа, как правило, покоятся на большой глубине, подступы к ним затруднены и даже опасны из-за встречных течений. Поэтому часто возникают большие технические сложности. И не только технические. Для проведения такой экспедиции надо найти меценатов и спонсоров и нередко добиться еще разрешения государства. Да и юридическая сторона дела не всегда безупречна…

Так, в июле 1987 года франко-американская экспедиция – два подводника и робот – отправилась из Марселя в Северную Атлантику к мысу Рат, где на глубине 4000 метров лежит знаменитый «Титаник», затонувший в 1912 году. Первая экспедиция 1986 года открыла призрачные роскошные пространства поглощенного морем лайнера… Казалось бы, начинай работу. Но возникла сложная проблема: как оценить это «захоронение» с правовой точки зрения? После какого времени можно брать то, что находится на затонувших кораблях? Закон, который датируется еще временами Кольбера, говорит, что потерянное в море принадлежит первому, кто его найдет. Однако семьи оставшихся в живых пассажиров «Титаника» протестуют, хотя и понимают, что поднять сейчас дела по страхованию и наследству никому не доставит удовольствия. Их гнев и возмущение обрушиваются на тех, чья профессия – погружение в море и исследование затонувших когда-то кораблей: конечно же, считают протестующие, их толкает к этому жажда наживы! В двадцати тысячах лье под водой, вдали от нескромных взглядов не получают ли они ничем не ограниченную свободу?
Журналист Доминик Фретар решил разрушить подобное представление о людях, рискующих жизнью в глубинах моря, и нашел человека, который согласился говорить.
Итак, Патрик Лизе – искатель сокровищ нового типа.
Ничто не предсказывало, что Патрик выберет такую редкую профессию: он родился в предместье Парижа и с детства боялся воды. Что же касается «Острова сокровищ» Стивенсона, то прочел эту классику лишь после 30 лет. Правда, он уверяет, что в детстве обожал проводить время на чердаке дома своей тетушки, извлекая из груды хлама почтовые марки и старые свечи…
Молодой учитель Патрик Лизе получает назначение на остров Реюньон, а затем на Маврикий. Однажды он случайно делает важное для себя открытие, прочитав журнал, где бельгиец Робер Стенюи описывает поиски корабля Непобедимой Армады. На Патрика этот рассказ производит огромное впечатление, и Робер Стенюи становится для него своего рода идолом. Патрик решает укротить воду и получает диплом мастера плавания. Это было в 1972 году. Его первое знакомство с подводной стихией произошло около острова Маврикий, в месте, называемом «Золотой порошок», где лежал затонувший в 1744 году корабль «Сен-Жеран».
Тогда Патрик, вероятно, и не предполагал, какие открытия ждут его впереди, но что он понял сразу – это необходимость углубленного анализа морских европейских архивов. Он возвел эту работу в принцип, исходя из того, что кораблекрушение всегда оставляет следы: или это рассказы спасшихся, или переписка губернаторов колоний, бортовые журналы, счета торговых компаний, архивы нотариусов. Он дотошно изучает каждую мелочь, угадывает, сопоставляет, читает между строк – только так можно определить место, где покоится корабль, о котором он, естественно, хранит гробовое молчание. Одно неосторожное слово – и десять «коллег» опередят его!
У Патрика Лизе есть меценат, человек, который долго жил в Азии: это эксперт по антиквариату и большой эрудит. Патрик согласился назвать лишь его инициалы – Ф.Г. Сегодня государства очень редко предоставляют концессии искателям подводных сокровищ, но очень часто зовут их приехать, так как не имеют достаточных средств, чтобы вести работы: большинство стран, лежащих на скрещении путей индийских компаний, где находится множество затонувших кораблей, совсем небогаты. Стоимость экспедиции зависит от местонахождения объекта и цели изысканий. Например, исследование судна «Ройял Кэптен», которое затонуло в Китайском море в 1773 году в сотнях километров от берегов, стоило очень дорого. А три месяца погружений Патрика Лизе и его коллег около острова Маврикий обошлось всего в 20 тысяч франков. Тогда они обследовали судно Джона Боуэна «Спикер».
Джон Боуэн – примечательный персонале: полукупец, полукорсар. Его история показательна в том смысле, что подтверждает, насколько зыбка была граница между торговцем и пиратом в XVIII веке. Джон Боуэн был капитаном судна, курсирующего на торговых путях от Южной Каролины и Бермуд, когда его взяли на абордаж французские пираты. Они сохранили ему жизнь, потому что нуждались в человеке, знающем море. И вот корабль-пират «Спикер» направился к гвинейским берегам, огибая мыс Доброй Надежды, и в конце концов сел на рифы острова Маврикий. Джон Боуэн нашел убежище у короля Бабау, но оседлая жизнь его тяготила, и когда много месяцев спустя ему предложили завербоваться на корабль, экипаж, которого состоял из английских корсаров, он согласился. Так Джон Боуэн стал пиратом.
Как Патрик Лизе напал на след «Спикера»? Вот что рассказывает он сам:
– Еще Даниель Дефо в своей «Истории пиратов» (1709 год) говорил о Джоне Боуэне. Дефо был современником всех этих моряков и, несомненно, хорошо их знал. Из осторожности он написал эту книгу под псевдонимом Капитан Джонсон, как открыл это недавно американский ученый Шонхорн. Короче, Дефо рассказывает, что Джон Боуэн потерпел крушение в 1702 году около Маврикия. У меня были дата, место, фамилия капитана – оставалось только точно обозначить место, где должен лежать корабль. В то время я преподавал на Маврикии. Просмотрел все местные архивы и нашел рассказ спасшегося при этом кораблекрушении. Вообще из таких рассказов можно почерпнуть очень многое. Не понимаю, почему до меня никто не обращал на это внимание… Так я стал кем-то вроде Шерлока Холмса кораблекрушений.
В 1702 году остров принадлежал Голландии. Я направился в королевские архивы Гааги, где разыскал рапорт губернатора Маврикия от 16 января 1702 года, описывающий кораблекрушение против Гранд-Ривьер, на юго-востоке, невдалеке от Сварте Клифф (остров Роша). Вместе с президентом Международной федерации погружений Жаком Дюма мы отправились на поиски «Спикера». Разговоры с местными жителями и рыбаками тоже кое-что прояснили.
Мы определили место, где затонул «Спикер», и, погрузившись на дно, почти сразу же нашли бронзовую статуэтку индийской богини, оружие, золото, серебро, австрийские, французские, испанские, турецкие монеты, навигационные приборы, разные бытовые предметы. Я очень горжусь этими находками, особенно статуэткой богини…
Долгое время Патрик Лизе работал в Китайском море. Экспедиция по исследованию корабля «Ройял Кэптен» была трудной и рисковой: потребовалось даже присутствие вооруженной охраны. Остов этого корабля покоился в опасных водах, вдали от берегов. Китайское море кишит акулами, которые очень агрессивны, а также змеями и ядовитыми рыбами. Но было нечто еще более серьезное – это пираты, которые грабят проходящие суда. Они рыскали вокруг подводников и однажды, когда пытались украсть генератор, охранники были вынуждены открыть огонь. Один из похитителей был убит.

«Ройял Кэптен» перевозил большую партию китайского фарфора династии Мин. Синие и розово-фиолетовые камеи, цветные и серые с тушью и золотом эмали пользовались огромным спросом в Европе. И, конечно, посуда. В XVIII веке из Китая во Францию было импортировано более десяти миллионов изделий из фарфора. Индийские компании Голландии и Британии обеспечивали на морских дорогах, изобилующих пиратами, конвоирование кораблей, которые перевозили китайский фарфор.
Экспедиция Патрика Лизе подходила к концу, улов был небогатый, и подводники решили, что больше уже ничего не найдут, как вдруг в зарослях кораллов мелькнул ярко-синий рисунок – это были края тарелок и чашек. Пришлось освобождать их из кораллового плена при помощи молотка, зубила и даже пневматической дисковой пилы. «Я очень люблю первым прибывать на такие открытия!» – говорит Патрик Лизе.
Он вспоминает, как его экспедиция обнаружила судно Индийской компании: «26-метровый корпус, зарывшийся почти на шесть метров в песок. Потом на его палубе мы увидели ящики с совершенно нетронутым фарфором и упаковки с чаем… Угадать местонахождение затонувшего корабля и погрузиться на дно, убедиться, что ты не ошибся, – это для меня радость несравненно большая, чем найти даже тонну золота!»
В устах Патрика Лизе эти слова не звучат фальшиво: поднятые им со дна морского сокровища украшают ныне многие музеи мира. Исследователь мог бы поведать, как добыли они для музея в Париже редчайшие монеты. Сокровища Хильдерика, первого короля Франции, были украдены из Медальерного кабинета в 1830 году. Золотые монеты переплавили, но часть сбросили в Сену около моста Турнель. Их-то и достали удачливые подводники. Об этом Патрик Лизе рассказал в своей книге.
– Мы имеем право лишь на те монеты, которые есть в дубликатах, – говорит ученый. – Оригинальные же хранятся теми государствами, в которых мы проводили изыскания. Лично я нахожу абсурдным продавать найденные предметы: мне хочется создать фонд и открыть частный музей, причем он не будет археологическим…
Но не только радость открытий знакома исследователю. В среде поисковиков-подводников существуют и профессиональный шпионаж, и жестокая конкуренция. Один из хороших друзей Патрика «обошел» его, основываясь на неосторожном слове, которое и навело на след. Через пятнадцать дней он открыл документ, на который намекал Лизе. Попросил концессию – и получил ее.

Другой пример. У Патрика есть грозный соперник-коллега Роберт Маркс, американец. Однако Лизе удалось его опередить в открытии испанского галеона «Сан-Хозе», затонувшего рядом с Филиппинами в 1694 году. Конкуренция в этом деле неизбежна. Охотников за сокровищами становится все больше. Особенно с тех пор, как средства массовой информации стали активно заниматься этой темой. Существуют уже общества, где постоянно заняты разработкой поиска сокровищ. В Майами, например, этот вид акционерных обществ процветает. Мел Фишер, который взял во Флориде один из самых прекрасных призов, которые только можно представить, – он нашел «Атоху», галеон, затонувший в 1622 году с золотом, серебряной посудой и драгоценностями, живет на доходы со своих обществ уже много лет. Если создавшееся общество не находит ничего в течение года, оно исчезает, из него возникает другое, с другими акционерами, в которых никогда не бывает недостатка.
Патрик Лизе работает главным образом для того, чтобы пополнять знания человечества. Морские историки относятся сейчас к нему как к равному. Конечно, он не археолог и не эксперт по китайскому фарфору, для этого понадобились бы годы учебы, но многие знания он приобретает в процессе работы.
В районе Филиппин Патрик Лизе нашел 120 испанских судов, плававших на линиях Манила – Кантон, Кантон – Манила, Манила – Акапулько. Испанцы везли из Акапулько в Манилу серебро, пришедшее из Перу. Оттуда благородный металл уплывал на борту китайских кораблей до Кантона: серебро обменивалось на шелк, золото, фарфор. Суда отходили к Акапулько, затем грузы пересекали Панамский перешеек на спинах мулов до Портобелло, где другие корабли доставляли их до Кадиса или Севильи.
Морские пути цивилизации… Не удивительно, что Патрик Лизе переполнен самыми необычными историями. И в первую очередь – пиратскими.
Одна из них – о Ля Бюзе. В 1714 году губернатор острова Бурбон предложил пиратам амнистию. Большинство ее приняло, и они стали хорошими колонистами. Наследник губернатора был менее просвещенным человеком и приказал повесить Ля Бюза, который десятью годами раньше с блеском провел операцию по захвату португальского корабля, доверху наполненного алмазами, золотой посудой, слитками… Ля Бюз был взят в плен работорговцем и, на его несчастье, переправлен в Бурбон.
Другая история – о капитане Страдлинге, который, рассердившись на своего боцмана Александра Селькирка, без лишних церемоний высадил его на один из островов архипелага Хуан Фернандес (Чили). Известно, что Селькирк был прототипом героя Даниеля Дефо – Робинзона Крузо. О судьбе же Страдлинга мы знаем гораздо меньше. Он охотился за испанским галеоном около берегов Перу и потерпел крушение вдали от Коста-Рики. Взятый в плен испанцами, в 1710 году он был выдан французскому капитану и заключен в тюрьму Сен-Мало, где рассказал директору тюрьмы, что обладает сокровищем и может показать, где оно находится, в обмен на свободу…
Третья история – почти легенда – о том, как пират Эвери, напав на корабль Великого Могола, правителя Индии, увидел закутанных в покрывала женщин, возвращавшихся из Мекки. Легенда говорит, что захват корабля сорвался из-за дочери Великого Могола, которую Эвери похитил и увез на остров Маврикий, чтобы на ней жениться.
Похоже, Патрик Лизе с увлечением коллекционирует пиратские истории. Что ж, ведь они дают толчок для будущих поисков.
По материалам журнала «Grands reportages» подготовила Л.Пешкова
Исторический розыск: Страсти по Илье

Муром – не Муром?
По каменным ступеням, отполированным до зеркального блеска миллионами башмаков, спускаюсь круто вниз. Мгновенно пронизывают могильный холод и сырость. Трепетное пламя свечи, крепко зажатой в моей чуть дрожащей от волнения руке, отбрасывает на своды пещеры причудливые тени, выхватывает из темноты подземелья таинственные ниши и коридоры лабиринта, уходящие куда-то вдаль. Ощущаю, как на голове начинают шевелиться волосы от чувства, которое, пожалуй, сродни священному ужасу. Суеверный страх перед непознанным толкает назад, наверх, к свету, солнцу, но любопытство и желание воочию увидеть Историю побеждают. Фигура идущего впереди монаха, одетого во все черное и поэтому почти растворяющегося во тьме пещеры, успокаивает. С таким проводником я чувствую себя немного увереннее.
Там, наверху, бушуют страсти XX века, здесь, под толщей земных пород, время навсегда остановилось. Тут властвует XII столетие, «золотой век» Киевской Руси.
Перед гробницей, надпись у изголовья которой гласит – «Илья из града Мурома», я останавливаюсь. Это – цель моего визита в катакомбы Киево-Печерской лавры.
Об Илье Муромце написано-переписано много. Но я даже не мог себе представить, что у одной только былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» свыше ста вариантов. Добавьте к этому огромное количество литературоведческих статей и едва ли меньшее – фундаментальных трудов маститых ученых мужей. Все они занимались историей богатырского эпоса.
А сколько копий или, вернее, перьев сломано при изучении и вопроса о реальности существования Ильи Муромца! Большинство исследователей с упорством, достойным лучшего применения, доказывало, что образ Ильи – «плод художественного обобщения чаяний народа, его идеалов». Почти все современные исследователи в один голос утверждают, что историзм былин особый, не всегда основанный на конкретных исторических фактах. Гораздо меньше ученых отстаивало диаметрально противоположную точку зрения. Их труды в основном относятся к прошлому веку. Моей задачей было отделить зерна реального от плевел догм и воссоздать биографию славного витязя земли Русской как реального человека. И я взялся за ключевые вопросы: откуда он родом, где и когда сложил свою буйную голову? Несмотря на всю сложность этой задачи, мне, кажется, удалось приоткрыть завесу тайны над именем Ильи – ведь в наших руках данные, которые доселе не были известны.
…На берегу Оки-реки, близ древнего града Мурома уютно расположилось село Карачарово – родина знаменитого богатыря. «В славном городе во Муроме, во селе во Карачарове» – так совершенно одинаково былины рассказывают нам о месте его рождения. Неоднократно он сам по ходу повествования вспоминает свои родимые места, затерявшиеся среди лесов дремучих да болот непроходимых и топких.
Вроде бы все ясно: Илья – уроженец муромский, и точка. Ан нет! Оказывается, есть на земле как минимум еще одно место, претендующее называться родиной великого богатыря. Это город Моровск (в старину – Моровийск), расположенный на территории современной Черниговской области Украины.
В основе этой версии лежат сведения об Илье, записанные в XVI веке. Исследователи обратили внимание на измененное имя богатыря – Моровлин и поспешили сделать вывод: родом он из Моровийска, а не из Мурома. Нашелся и город, название которого созвучно Карачарову, – Карачев. Получилось, что Илья богатырь не муромский, а уроженец Черниговского княжества.
В подтверждение этой гипотезы приводились следующие аргументы: в окрестностях Карачева находится село Девятидубье и протекает река Смородинная. А если еще вспомнить, что все то окружают дремучие брынские (брянские) леса, то получим все необходимые атрибуты места действия былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Еще 150 лет назад старожилы показывали место, где было гнездо знаменитого разбойника, а на берегу речки даже сохранился пень от громадного дуба.
Всем известно, что ни одно историческое исследование не может обойтись без географической карты. Один из самых известных атласов России – «Большой всемирный настольный атлас», изданный А.Ф. Марксом в 1905 году. Революционные изменения тогда еще не коснулись географических названий. Огромные страницы карты пожелтели от времени… Есть! Вот город Карачев Орловской губернии и в 25 верстах на северо-восток от него село Девять Дубов. Я тщательно перенес все, что может быть связано с именем Ильи, на свою карту.
Первое, что бросается в глаза при подробном изучении карты, – это удаленность Карачева от Моровийска. Если Муром и Карачарово находятся в непосредственной близости друг от друга, то Моровийск и Карачев разделяют сотни километров. Говорить о «моровийском городе Карачев» почти такой же абсурд, как и называть Москву киевским городом. С этой точки зрения, версия о черниговском происхождении Ильи не выдерживает никакой критики.
С другой стороны, Муром, Карачарово, Девять Дубов, Чернигов, Моровийск и Киев находятся на одной линии, которая полностью совпадает с древним торговым путем. У меня возникает законное желание объединить две гипотезы в одну, и тогда получим, что Илья – богатырь муромский, ехал «дорожкой прямоезжею» в стольный Киев-град «через те леса Брянские, через речку ту Смородинную», через Девять Дубов, расправился здесь с Соловьем-разбойником, пленил его и с этим дорогим подарочком прибыл к Великому киевскому князю.
Муром – самый древний город во Владимирской земле. Первое упоминание о нем находим в «Повести временных лет». Статья под 862 годом сообщает о поселениях Древней Руси них жителях: «В Новгороде – словене, в Муроме – мурома». Здесь было бы логично предположить, что если мурома – угро-финская народность, имеющая свою самобытную культуру, то тогда Муромец – представитель этой народности, ее богатырь.
Справедливости ради следует отметить, что существуют и другие версии трактовки имени былинного богатыря. Некоторые, например, усмотрели подобие корня «мур» слову «стена», встречающемуся в русском (помните: «муровать»), украинском и белорусском языках. В таком случае прозвище Ильи «Стена» равнозначно слову «богатырь», то есть человек непобедимый, твердый, стойкий. Другая версия основывается на этом же корне и предполагает вторую профессию Ильи – Муровец от слова «муровать», строить крепости, возводить стены, муры. Но, возможно, в основе прозвища лежит и древнее слово «мурава» – трава, луг. Тогда Муровец значило бы косарь, землероб, хлебопашец. Это полностью совпадает с содержанием былин и ни в коей мере не противоречит его происхождению – «сын крестьянина чернопахотного».
Есть версия, основанная на первом подвиге Ильи – освобождении дорог от злых разбойников. Имя богатыря связывают с муравским шляхом, или муравкой. В знаменитом Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона можно найти, что этим путем в Русь ходили крымские татары. Шлях шел высокой муравой (отсюда и название) по безлюдной степи, избегая переправ. Начинался он от Тулы и тянулся до Перекопа, с Киевом и Муромом не был связан вообще.
Для того чтобы внести ясность и дать окончательный ответ на этот вопрос, проследим эволюцию имени богатыря за последние 400 лет: от Муравленина – Муровлина – Муравича – Мурамеча – Муровского – Муромца и до «Ильи из града Мурома» в последней редакции подписи над его захоронением, которая, на мой взгляд, наиболее полно отвечает действительности. Так что правильнее всего сделать вывод, что славный богатырь Илья родом из древнего города Мурома.
Гущины из рода Муромцев

За окнами поезда на Муром проплывает природа, еще не пробудившаяся от зимнего сна; довольно однообразный незатейливый пейзаж – бесконечные еловые и березовые леса, болота, пожухлая прошлогодняя трава да местами чудом сохранившиеся снежные поляны. Мелькнула за стволами деревьев быстрая тень. Волк? Неужто и впрямь матерый серый разбойник? Возможность не исключена, хотя, пожалуй, на самом деле я видел обычную одичавшую дворняжку, заблудившуюся в лесу. Но сама атмосфера дремучих муромских лесов настраивает на такой лад, чтобы предположить скорее волка, чем собаку.
Цель моей поездки в Муром – своими глазами увидеть былинные места, встретиться с возможными потомками Ильи Муромца, поговорить с местными краеведами, собрать карачаровские предания и легенды о великом богатыре.
В Муромском историко-художественном музее судьба преподнесла мне славный подарок – местного краеведа А. Епанчина. Энтузиаст, истинный знаток истории родного города, неустанный собиратель местных преданий и легенд, да к тому же и представитель древнего знатного дворянского рода. Не один день пробродили мы с ним по Мурому и Карачарову. А что касается Ильи, то он с таким жаром говорит о своем великом земляке, словно знал его лично.
На родине богатыря все известное по былинам воспринимается по-новому. Вот здесь, к примеру, стояла изба Ильи. Адрес: ул. Приокская, д. 279. Здесь богатырский конь пробил копытом родник. Былины приобретают реальную форму, сказочные пейзажи плавно превращаются в действительность.
Вот и возможные наследники Ильи Муромца – семья Гущиных. Местные предания разъясняют, что раньше изба Муромца стояла в гуще леса, отсюда его второе прозвище – Гущин, впоследствии она стала фамилией потомков. Гостеприимные хозяева накрывают на стол. На столе появляются копченый судак, умело приготовленный заботливыми руками хозяйки, маринованные грибы, соленья, варенья. И это заставляет вспомнить еще об одном атрибуте легенд и сказок – скатерти-самобранке. И, конечно, беседа за самобранкой – о великом предке, дедах-прадедах славного рода Гущиных.
Феноменальная сила Ильи Муромца передалась по наследству его далеким потомкам. Так, например, прадед хозяина Иван Афанасьевич Гущин был известен в Карачарове и за его пределами своей недюжинной силищей. Ему даже запрещали участвовать в кулачных боях, ибо, не рассчитав силу удара, он мог убить человека. Он также мог легко тянуть воз дров, который лошади-то не сдвинуть с места. Легенды рассказывают, что подобный случай произошел с Ильей Муромцем. Однажды богатырь принес на гору три огромных мореных дуба, выловленных в Оке рыбаками. Подобный груз был бы не под силу лошадям. Эти дубы легли в фундамент Троицкой церкви, развалины которой сохранились по сей день. Интересно, что недавно при чистке фарватера Оки обнаружили еще несколько древних мореных дубов в три обхвата каждый. Да только вытащить их на крутой берег не смогли – технику не достали, а богатыри перевелись.
Не вызывает сомнения то, что род карачаровских крестьян Гущиных древний. Довольно легко удалось проследить их родословную до середины XVII века, а точнее – до 1636 года.
Так и хочется написать: «В городе память о великом богатыре хранится свято». Увы, это не соответствует действительности. Часовню, которую срубил сам Илья, разрушили; родники, возникшие на скачках его коня, засыпали. Собирал-собирал город деньги на памятник Илье, да только время превратило те тысячи в труху, и их еле-еле хватило на установку мемориальной доски одному известному писателю. О памятнике городские власти и думать забыли. Потомки же Ильи – Гущины – чтут его память. На свои деньги они заказали икону преподобного Ильи Муромца. В нее вставили ковчежец с частицей мощей богатыря, переданный в свое время Киево-Печерской лаврой. Икону торжественно установили во вновь отстроенной карачаровской церкви Гурия, Самона и Авива в день памяти Ильи – 1 января 1993 года.
Илья русский
Подвиги Муромца известны каждому, и нет особой необходимости их описывать, тем более что не это цель нашего повествования. Читателю гораздо проще и интереснее самому узнать о них из первоисточников. И если данная статья вызовет у кого-нибудь страстное желание перечитать русские былины, значит, сей скромный труд не пропал даром. Мы же займемся другим важным вопросом: реального существования нашего героя и последними страницами его славной биографии. Есть некоторые новейшие факты, заставляющие нас переосмыслить все известное доселе.