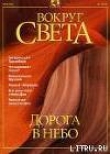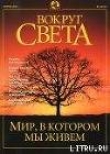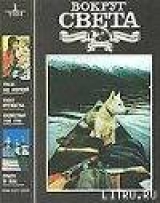
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №1 за 1994 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Via est vita: В штормовую осеннюю ночь
Путешествие – какое бы оно ни было – всегда соседствует с приключениями. Иногда это приключения-недоразумения, иногда стечение случайностей, которые обычно поджидают людей в пути, а иногда – серьезные события, смертельный риск, высшее напряжение сил и воли человека… Такие приключения не забываются, и люди, пережившие подобное, помнят их всю жизнь.
В тот промозглый сентябрьский день с утра штормило. Над Белым морем проходил циклон. Небо затянули низкие облака, порывы ветра уже достигали 25 метров в секунду, но вылет на боевое дежурство состоялся. Тяжелый, заправленный под пробки самолет поднялся в небо поздним вечером.
Старший лейтенант Шмагин привычно расположился в кресле второго штурмана, оглядел знакомые циферблаты приборов, с которыми, находясь долгие часы полета в одиночестве в своей небольшой кабинке, он, кажется, успел сродниться.
В 21.40 Шмагин принял первую метеосводку с земли. «…Температура воздуха плюс шесть, воды – пять, волнение на море – семь-восемь баллов». Эти данные, обычно передаваемые в конце связи, его, как воздухоплавателя, мало интересовали. Но на сей раз он почему-то подумал, как нелегко в эту ночь придется рыбакам и всем, кто по долгу службы или воле случая будет вынужден болтаться на морской волне.
Мерно гудели двигатели. Стрелка указателя скорости держалась у цифры 500, на высотомере – подползла к 1200 метрам. Набор высоты продолжался, и впереди, казалось, как и обычно, будет долгий, нудный полет в стратосфере.
Хриплый голос командира, раздавшийся в наушниках шлемофона, заставил Шмагина похолодеть. То, во что никогда не верилось, то есть верилось, что с ним-то этого не произойдет, случилось. Напряженно резким, неузнаваемым голосом командир отдал экипажу приказ приготовиться покинуть самолет.
Что произошло, какая страшная причина заставила командира отдать такой приказ, Шмагин даже не пытался узнать: ясно было, что счет идет на секунды. Силой воли он заставил взять себя в руки. Вжался в кресло, принял надлежащую позу, как совсем недавно проделывал это на тренажере на земле, охватил рукоятку катапультирования. В ожидании приказа мысленно сориентировался с картой. Они должны были в это мгновение находиться километрах в тридцати-сорока от береговой черты. Шмагин слышал, как командир докладывал об аварии земле, значит, ясно, искать будут, но все-таки попытался вспомнить, где на карте побережья отмечены поселения. Берег в этой части моря был пустынен. Лишь маяки стояли на мысах, а в каком из них могли быть люди, Шмагин не знал.
Гашетку катапульты он нажал одновременно с приказом покинуть самолет. Зажмурившись от грохота взрыва, штурман вместе с креслом вылетел в ночную звездную тишь. Раскрыв глаза, успел заметить удаляющиеся, как показалось, к земле огни самолета. Шмагин с силой оттолкнулся от кресла. Хлопок раскрывшегося парашюта, остановившего падение, привел его в чувство, придал уверенности. Как и в самолете, Шмагин был в ночном звездном небе один. Одновременно с ним никто не катапультировался, а если это и произошло, то в ночной темени отыскать кого-либо было невозможно.
Под ним была плотная пелена облаков. Пронизав ее, лейтенант услышал шум катившихся волн. Развернувшись, быстренько огляделся. Всюду черно. Ни огонька. Значит, надежда только на себя. «Ничего, придет помощь, найдут. Главное, – убеждал он себя, – не дрейфить, продержаться».
По инструкции рекомендовалось при подходе к воде отцепить подвесную систему парашюта, чтобы ненароком не запутаться в стропах. Но в черноте ночи невозможно было разглядеть беснующуюся поверхность моря, определить до нее расстояние. Решил расцепляться с парашютом после приводнения. Перед входом в воду успел развернуться по ветру. Удар при встрече с водой оказался неожиданно сильным. Погрузившись с головой и вынырнув, Шмагин почувствовал себя оглушенным, но холод пенящейся волны быстро привел в чувство.
Накренившийся к воде купол взбух от порывов ветра и с большой скоростью потащил Шмагина, то вознося на гребень волн, то опуская в межволновую яму.
Ветер был южным, мчал, как сообразил Шмагин, к берегу. Вот бы и добраться с его помощью до земли, но болтаться так долгие часы Шмагину показалось еще большим испытанием. Он расцепил замок подвесной системы, заметив, что особых усилий для этого не потребовалось. Крепления стремительно слетели с него, исчезнув в ночи вслед за парашютом. На Шмагине были куртка, летный комбинезон, под ним – шерстяной костюм; ботинки и шлемофон довершали экипировку. Так он и заколыхался на волне.
Из аварийной укладки выдернул вчетверо сложенную спасательную лодчонку. Привел в действие механизм ее надува. Теперь у него имелось собственное плавсредство. Опершись об упругие надувные борта, Шмагин забросил ноги и уселся в лодке. При таком ветре оставаться на месте, дожидаясь помощи, было невозможно. Ветер и волны гнали лодчонку к берегу. Подгребая ладонями, Шмагин развернул лодку так, чтобы удерживаться к ветру спиной. Сразу же возрастала парусность и остойчивость лодки, и его с хорошей скоростью погнало к берегу.
Но длилось это недолго. В одно из мгновений, когда лодка скатилась с волны, гребень следующей накрыл его и, завертев, перевернул. Опять пришлось плыть, удерживая лодку, и снова взбираться в нее. И это было лишь начало. Время от времени, как ни ловчил Шмагин, работая руками, находился-таки «девятый вал», который с легкостью исполина подбрасывал лодчонку вверх, заставляя затем падать вниз, и переворачивал, накрывая гребнем. С каждым разом после такого кульбита забираться в лодку становилось труднее. Приходилось подолгу отдыхать, оставаясь в воде и держась за борт лодки.
Уже через полчаса он почувствовал холод. На ветру мерзли руки, спина, затылок. Теперь он заставлял себя грести не переставая, чтобы не закоченеть совсем. В который раз перевернувшись, он скинул с себя шивретовую куртку: намокнув, она стала невероятно тяжелой и мешала забираться в лодку. И опять, устроившись в лодке, он греб и греб, правя к спасительному берегу. В нем еще теплилась надежда, что помощь придет, должна прийти, но, как опытный летчик, он понимал всю трудность поиска в море – в такую погоду и ночное время…
В первом часу ночи он увидел огни судна, проходившего от него на расстоянии около километра. Шмагин окоченевшими руками попытался достать из брезентового чехла аварийной укладки фальшфейеры, но руки не подчинялись, не могли открыть чехол. Тогда он, торопясь, разрезал его ножом и запалил фальшфейер.
В ослепительном свете ракеты пропали огоньки судна. Осветилось беснующееся вокруг море… Свет ракеты был так ярок, что его, казалось, просто невозможно не увидеть с судна. Однако там не прореагировали. Тогда Шмагин запалил вторую ракету, но судно, все так же ныряя в волну и поднимаясь на ней, скрылось в темноте.
С тех пор как он катапультировался, прошло около трех часов. Оценив проделанный за это время дрейф, Шмагин решил, что одолел почти половину расстояния до берега. И надо было продолжать плыть дальше. Только так можно было бороться с холодом. Только это поддерживало веру в спасение. И он опять погреб по ветру.
В аварийном запасе был шоколад, и, хотя во рту он не таял, а был как горькая сухая крошка, Шмагин заставил себя его есть. В который раз он анализировал ситуацию, определял примерный район своего приводнения, расстояние до берега, скорость дрейфа и высчитывал время, через которое до него доберется. Это придавало сил. А затем он рассчитывал примерное расстояние до ближайшего жилья от того места, где выйдет на сушу. Если в этот момент лодку опять опрокидывало и он оказывался в воде, то, вцепившись в борта и отплевываясь, Шмагин твердил: «Врешь, не возьмешь, дойду» и, перевалившись в лодку, продолжал грести.
Через четыре с половиной часа – в третьем часу ночи – он увидел мерцание огней двух маяков. И убедился, что расчет его оказался верным. Еще несколько часов, и его вынесет к берегу. Но в это-то время и подошло спокойное безразличие. Как будто борьба уже закончилась и он был на берегу…
Еще два с половиной часа видел он перед собой эти мигающие и медленно, невероятно медленно приближающиеся огни. Наконец они приблизились настолько, что в прорезавшихся предрассветных сумерках стали различимы силуэты маяков и очертания невысокого, местами обрывистого берега. Но по мере того как приближался берег, нарастал шум прибоя. Белая полоса пенящихся волн протянулась почти на два километра.
Мысленно соотнесясь со штурманской картой, Шмагин припомнил особенности побережья в этом районе и стал обдумывать, как одолеть прибойную полосу. Понимал, что это будет самым трудным, но, возможно, последним препятствием. И настраивал себя, приказывал собраться. В море, в холодной, отнюдь не для купания воде, он уже находился более шести часов.
Перед входом в прибойную полосу он немного приспустил воздух в спасательном жилете, чтобы быть более подвижным в воде, чтобы легче было плыть. И в самое время.
Волны сделались более крутыми, налетали сзади беспорядочными рядами, удерживать лодку в нужном направлении становилось все труднее. И чем ближе он подплывал к берегу, тем злее становился накат. В который уж раз сброшенный в воду, он увидел, что лодку отбросило далеко и она уплывает. Уплывает с аварийным запасом и ножом, и ее уже не догнать. И все же Шмагин, еще находя в себе силы двигать руками, поплыл.
Последнюю сотню метров он одолел, ступая ногами по дну. Но и тут волны не раз сбивали его, заставляя падать, цепляться за дно руками. На берег он вышел спустя семь часов после того, как катапульта выбросила его из самолета.
Он лег, думая отдохнуть, снять и выжать одежду, а потом идти к маякам. Но, полежав немного, зная, что в этом состоянии никак нельзя позволить себе забыться и заснуть, Шмагин попытался подняться. И не смог. Сил не осталось даже на то, чтобы расстегнуть «молнию» комбинезона. Тогда он пополз в ту сторону, где видел огни маяков.
Сколько он полз, Шмагин не помнит. Примерно через километр увидел рыбацкий домик. Там были люди…
В госпитале после обследования врачи констатировали: Шмагин абсолютно здоров. Не было даже простуды. Его допустили к полетам, и, отдохнув, он опять стал летать в том же полку, возможно, летает там и теперь, но уже в ином, более высоком звании.
А рассказ Шмагина, записанный на магнитофонную пленку, я услышал в Центре по подготовке пилотов к выживанию в экстремальных условиях. Делясь опытом с людьми летной профессии, Шмагин советовал заниматься физподготовкой, постоянно делать зарядку, считая, что это в немалой степени помогло ему, но главное – не терять выдержки и самообладания, способности быстро и правильно оценить создавшееся положение, уметь настроить себя на действия, кажущиеся в обычной обстановке невыполнимыми, верить, что из любой самой непредсказуемой ситуации выход есть и спасение придет.
Я решил, что с опытом этого человека неплохо познакомиться не только летчикам, но и многим из нас.
Валерий Орлов, специальный корреспондент «Вокруг света»
О странах и народах: Цаатаны – имеющие оленей

На самом севере Монголии, к западу от озера Хубсугул, живет очень малочисленный и мало кому известный народ. Недавно в стойбищах цаатанов побывали немецкие журналисты Ж.К.Гранте и К.Люттербек.
Шаман Тамбуксу испуган. Его изрытое глубокими морщинами лицо с маленькими бегающими глазками искажено страхом. Ведь это такой риск – извлечь из тайника ритуальный халат. И священный барабан – дюнгер. Вот уже десять лет он прячет в лесу от безжалостных властей свое шаманское облачение. Он боится лишиться последнего средства против злых духов.
Шаман не верит миру. Говорят, в Улан-Баторе сменилась власть. Наконец-то свобода придет и к цаатанам. Но надолго ли? Вдруг все опять изменится? В любом случае монголов следует остерегаться. В пятидесятые годы волна антирелигиозного террора захлестнула почти все аймаки страны. В 1981 году она настигла наконец Гамбуксу в неприступных горах Хубсугул. Кто-то выдал. Внизу, на равнине, в окружном центре шаман предстал пород судом, языка которого не понимал, и суд, за «неразрешенные культовые действия», приговорил его к четырем годам заключения.
Когда за хорошее поведение его через два года досрочно освободили, это был сломанный человек, лишившийся от страха дара речи. Никогда больше не доставал он из мешка свой обтянутый шкурой барабан и деревянные трещотки, чтобы отгонять злых духов, угрожающих людям и оленям голодом и болезнями, никогда больше не надевал он свой шаманский халат.
…Старый Гамбуксу исчезает в своем чуме. Когда через четверть часа он появляется снова, на голове у него «борто» – шапка, украшенная орлиными перьями и желтой бахромой, которая закрывает его лицо. Маленькое худое тело закутано в тяжелый халат, увешанный металлическими бляхами и обшитый пучками перьев хищных птиц. Ноги обуты в валяные сапоги, увитые яркими лентами.

Гамбуксу дрожит. Уже очень давно он не ощущал на себе тяжесть ритуальных одежд. В нем пробуждается мужество, он явно тронут, вновь ощутив украденное у него некогда достоинство. Все, стар и млад, молча смотрят на него. Для одних он – просто странный старик, пугающий людей своими внезапными обмороками, эпилептическими припадками и помрачениями рассудка. Другие втайне его за это почитают: его избрали духи.
Надев облачение, он гордо оглядывает собравшихся.
Но в его гордости есть примесь горечи:
– Я больше не помню заклинаний!
Гамбуксу чуть больше 77 лет. Он забыл священные тексты, передающиеся изустно из поколения в поколение, от отца к сыну. От страха забыл или от старческой слабости – кто знает… Заклинания никогда не записывали. Теперь, когда Гамбуксу умрет, исчезнет последний шаман цаатанов. И никто другой не сумеет поговорить с духами, некому будет их умилостивить.
И цаатаны, один из самых малочисленных народов земли, сделают еще один шаг к исчезновению. Они кочуют в трех днях пути от озера Хубсугул на высоте 3000 метров. Язык их – совсем не монгольский, он похож на тувинский.
В Монголии, конечно, их язык не запрещали, зато все время старались принудить перейти к оседлому образу жизни. Так удобнее было их контролировать. Но попытки властей всякий раз вступали в противоречие с неукротимым стремлением цаатанов к вечному пути по тайге. Снова и снова возвращались они в свои холодные горы, откуда власти время от времени выманивали их щедрыми посулами и обещаниями хорошей жизни.
Район вокруг озера Хубсугул необыкновенно красив. Его называют монгольской Швейцарией. Но высоко в горах, где кочуют цаатаны, климат весьма суров. Летом жара достигает 40 градусов, зимой температура падает до – 50. Хвойные деревья, грибы и мох – вот и вся флора тех мест; орлы, лисы и соболя – вот и вся фауна. И еще олени.
В течение десятилетий эта местность на границе с Сибирью была закрыта для чужеземцев. Только один-единственный европеец побывал здесь за все это время – ветеринарный врач из ГДР. В семидесятые годы он сумел найти вакцину против опасного вируса, поражающего оленьи стада. Цаатаны его до сих пор помнят и чтут как героя.
Ведь олень – не просто полезное животное, позволившее выжить предкам кочевников. Он дал им имя. «Цаа» означает «олень»; «цаатаны» – «те, кто владеет оленями». Олень составляет все содержание их жизни. Весной они следуют за ним вниз к краю большой равнины, оставаясь, однако, на ее границе: олени не едят траву. Летом поднимаются со стадами выше лесной зоны, чтобы избежать гнуса. Осень цаатаны проводят в светлых лесах, где олени в изобилии находят свою излюбленную пищу – мох. Зимой же и люди и олени озабочены исключительно тем, чтобы дожить до весны.
В отличие от монголов цаатаны живут не в круглых войлочных юртах, а в остроконечных шатрах – чумах. Грубо обработанные стволы деревьев ставят по окружности, а верхушки соединяют в остроконечный конус. Всю конструкцию покрывают грубым полотнищем и шкурами.

Во владении каждой семьи 200 – 300 животных. Однако что значит «во владении»? С 1930 го да все поголовье скота в Монголии обобществлено. В те времена из всех цаатанов была сформирована одна скотоводческая бригада с бригадиром-монголом во главе. Каждый месяц «дарга» (начальник) выплачивал им зарплату в 400 тугриков. Стада были пересчитаны, оленей переклеймили каленым железом. И вдруг оказалось, что цаатаны должны строго соблюдать разные предписания, разбираться в иерархии – кто дарга, кто – не дарга. Появились совсем уж непонятные для них запреты – к примеру, им сообщили, что оленей забивать теперь нельзя, поскольку все они принадлежат государству. Нарушителю грозил штраф в две месячные зарплаты. Запрет, кстати, не отменен и по сей день.
Однажды ночью в пургу немецкие журналисты наткнулись на семью, собравшуюся вокруг убитого оленя. Снег был пропитан кровью, внутренности дымились, и двое мужчин разделывали тушу ножами.
– Он был болен, – заговорили цаатаны. – Его надо было убить.
На лицах был написан страх. Не выдадут ли их? Они еще не слишком верят в демократические преобразования в стране. Журналисты спросили, зачем мясо больного животного прячут на верхушках деревьев.
–Для собак сгодится, – отвечали они.
Цаатаны питаются почти исключительно оленьим молоком и продуктами, которые из него можно получить. Изо дня в день их рацион состоит из свежего и кислого молока, грубого сыра и сметаны; нет ни овощей, ни фруктов, только ягоды – летом и осенью. Очень редко – мясо (вот как сейчас) или рыба. Во время кочевий они часто оказываются на берегах рек, кишащих лососями и форелью. Но к рыбе привычки у них нет. Вот бы подстрелить дикого оленя…
За диким оленем они готовы предпринимать очень далекие экспедиции. Как им удается усидеть на спинах своих мелких олешков, высотой всего в метр двадцать, – загадка. К тому же передвигаются олешки весьма странным мелким шагом, неимоверно раскачиваясь из стороны в сторону.

Вооружение цаатана составляет обычно пара ружей – некоторые неизвестно как попали из гитлеровского вермахта, на них даже сохранились свастики. Стреляет цаатан-охотник, только когда на сто процентов уверен, что попадет. Нет боеприпасов. За патрон – один патрон! – цаатан может отдать шкурку соболя. Патроны попадают сюда после долгих приключений из России. Они слишком мощны для стареньких ружей. И чтобы избежать разрыва ствола, половину пороха цаатаны отсыпают.
Гораздо чаще цаатаны охотятся с помощью самострелов. За полчаса сооружают некое подобие арбалета, который связан с натянутой бечевкой. Стоит, скажем, дикому гусю задеть бечевку, его прошьет стрелой.
Мужчины охотятся, а женщины занимаются оленями. Каждую оленуху доят два раза в день, молоко кипятят и готовят сыр. Откинутый на марлю, он сушится под самой вершиной чума.
Если мужчины достают в поселке водку-архи, они напиваются до беспамятства. И тогда колотят жен.
Постоянные потуги государства привлечь цаатанов к оседлой жизни увенчались переселением нескольких семей на равнину, в маленький безрадостный поселок на берегу озера Цагаан-Нур. Там они живут в пестро размалеванных деревянных домах. У них есть магазин, в котором редко можно что-нибудь купить, и школа, уроки в которой ведутся только на монгольском языке. Теперь, когда пришла свобода, они надеются, что им наконец разрешат учить своих детей на своем языке.
Тех, кто остался в родных горах, косят болезни. Даже женитьба здесь тяжелая проблема. Невесту найти можно лишь внутри семьи. А вне племени очень трудно: местные монголы относятся к ним, как в Европе к цыганам. Их считают неспособными к порядочной жизни, необузданными, грязными и дикими.
Кое-кто из молодежи пытается уйти от тяжелой жизни в горах. Для стариков это не так просто.
Когда Суин, старейшина одного рода, последний раз была на ежегодном празднике «тысячи оленей», это оказалось трудным испытанием и для нее, и для ее животных. Власти организовали праздник на покрытой травой равнине. У Суин, привыкшей дышать горным воздухом, сильно поднялось давление. И все подумали, что она умрет. Но как только старейшина оказалась наверху, в родных горах, она немедленно выздоровела. Села верхом на оленя и целый день, в метель и мороз, искала свою семью. Одна. Ей – 81 год.
По материалам журнала «Stern» подготовил А.Ельков
Комментарий ученого
К зарисовке, с которой познакомился читатель, следует добавить несколько слов. Картина, конечно, нарисована безрадостная, но, увы, во многом правдивая. И все-таки все не так ужасно. Самое, наверное, неприятное – утрата языка.
В Монголии живут не одни монголы. На ее земле обитают китайцы и русские, буряты и казахи, дархаты и хамниганы. И маленький народ цаатаны. А еще народы, которые когда-то монголами не были, но сейчас себя ими считают – дэрбэты, торгуты, байты, мингаты, хотоны, сартупы.
В истории этносов всегда происходит «вбирание» в себя, ассимиляция более мелких, зачастую неродственных групп.
«Цаа» – по-монгольски, как уже говорилось, означает «олень», «цаатан» – «имеющий оленей». Так называют их монголы. Но сами цаатаны, как утверждает монгольский этнограф Бадамхатан, посвятивший их изучению несколько лет, называют себя урянхайскими уйгурами, а свой язык уйгурским. Самые близкие их родственники-тоджинцы соседней Тувы и сойоты Окинского района Бурятии – тюрки. Кстати, следует отметить, что, по мнению ученых, среди предков цаатанов, тоджинцев и сойотов были самые разнообразные этнические группы, в том числе совсем не тюркские. То есть на протяжении истории сменялись и языки.
Некоторые старики и сейчас еще помнят свой тюркский язык, но только говорить им уже не с кем. Молодежь его не знает совсем, поскольку училась в монгольских школах, а самих знатоков языка осталось очень мало, и живут они все порознь, каждый со своими детьми и внуками, а иногда и вовсе в одиночестве, выпасая своих оленей.
Цаатаны живут в трех сомонах (районах) – Баян-дзурх, Улаан-уул и Ринчин-лхумбэ. Их численность – не более 200 человек, и в каждом из трех сомонов они образуют лишь небольшую бригаду, которая находится за много десятков километров от центральной усадьбы. Они редко спускаются на равнину и тем более к берегу озера Хубсугул.
Олень цаатанов – это тот самый олень, который водится или еще недавно водился в диком виде по всему северу от Аляски до Лабрадора и от Норвегии до Чукотки. Но одомашнили его только народы евразиатского севера (от саамов и ненцев до эвенов и чукчей) и Саяно-Алтайского нагорья (тувинцы-тоджинцы и тофалары). А также цаатаны. Вместе со своими стадами они совершают от 10 до 15 кочевок в год.
И – это главное – пока существует олень, не изменится основа жизни цаатанов, а следовательно, сохранится их самобытность. Но, может быть, новые веяния в Монголии приведут и к тому, что возродится их язык?
Наталия Жуковская, доктор исторических наук