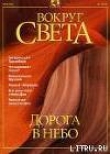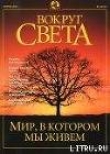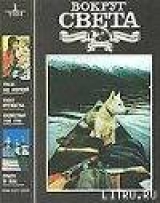
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №1 за 1994 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Конечно, владельцы ресторанчиков завлекали как могли – вечерами из всех ярко освещенных дверей звучала музыка, и томная, сладкая, и бравурная, ритмичная. Проходя мимо этих очагов нарочитого веселья, трудно было не кинуть внутрь взгляда, где за стойками потягивали пиво и коктейли загорелые парочки, а за столиками, ломившимися от яств, сидели солидные господа и целые семьи. Особенно притягивали взоры те ресторанчики, у входа в которые под стеклянными колпаками были выставлены местные кушанья. Эта наивная, несколько провинциальная приманка срабатывала безотказно: у заезжих туристов текли слюнки, и новые посетители решительно направлялись к столикам.
В дансинге молодежь бойко прыгала в небольшом зальчике, а на улочке стояли парочки, попивая из бутылочек воду и пиво. Не скандалят, вежливо пропускают машины, смеются девчонки-гречанки, тонконогие, в мини-юбочках. Их кавалеры великолепны: голубоглазые, русоволосые красавцы греки в черных пиджаках и штиблетах. – Давай-ка двинем к мэрии – там к вечеру весь городок собирается, – сказал мой спутник, матрос с российского сухогруза.
Действительно, по идущей вверх улочке с узкими, вымощенными каменной плиткой тротуарами – такими чистыми, что можно было бы по ним ходить босиком, – двигались, по всей вероятности, местные жители, солидно одетые, целыми семьями. Мэрия помещалась в настоящем дворце – единственном в островной столице, окруженном пальмами и подстриженными лужайками, где стоят мраморные бюсты местных знаменитостей разных времен (между прочим, пройдя на лодьях от Стамбула до Генуи, я нигде не заметил, чтобы в угоду политической моде крушили старые памятники а на их месте возводили новые: и в Афинах, и в Риме прошлое прекрасно уживается с настоящим). На площади перед дворцом играли дети, а их довольные родители сидели за ресторанными столиками под полосатыми тентами, поглощая напитки и мороженое.
– Этот праздник жизни будет продолжаться до самого утра. Поверь, я уже тут который месяц… – сказал мне на прощанье мой спутник, – пойду-ка я спать в свою каюту на судно.
А я гулял до рассвета по набережной, где всю ночь звучала музыка, сидели за столиками парочки, бродили любопытные и влюбленные мимо открытых лавочек. Пьяных не было видно, никто не орал, не дрался, я даже видел ночью и детей, и девушек, которые спокойно одни шли домой.
Утром взревели моторы могучих мотоциклов: парни повезли подруг по горным дорогам встречать восход. Я заметил, как с нашей яхты отправился куда-то Андрей Данилов, прихватив с собой пластиковую бутыль с водой.
Вернулся он только под вечер, весь обгоревший, запыленный, жадно набросился на оставшуюся с обеда гречневую кашу, а потом с удовольствием поведал о своих приключениях.
– Помните, на подходе к Сиросу мы заметили церквушку в горах? Я пошел взглянуть на нее вблизи, долго тащился по вырубленной в скале дороге – она петляла между уступами, то опускаясь, то поднимаясь, наконец, привела меня в храм. Передо мной – на утесе, словно вставленная в оправу синего неба, высилась желтокаменная православная церковь со сводчатыми высокими окнами. Сквозь ажурную решетку, украшенную российским гербом – двуглавым орлом с короной, сверкала синь Эгейского моря. В углу чисто выметенного двора покоилась скромная плита – могила монахини-праведницы, а ниже, под парапетом смотровой площадки, находился внутренний дворик – на скале, обрывающейся прямо в море. Оно плескалось о рифы метрах в двухстах ниже площадки…
– Но, гляньте, что стало с моими штанами, – и Андрей продемонстрировал разодранные джинсы, – это когда я карабкался на холм за церковью, чтобы посмотреть на остров сверху.
Холмы там выжженные, бурые, сплошь покрытые сухими колючками. Ни травинки, ни цветочка, вообще ничего живого.
Правда, встречался козий помет, а сами козы мелькнули лишь однажды, причем так высоко, что даже непонятно было, как они туда забрались. А в отвесной скале, по которой они прыгали, я заметил круглый вход в пещеру, похоже когда-то обитаемую – оттуда торчали куски травяной подстилки. Кто мог там скрываться – непонятно, тем более, что добраться к ней сейчас можно было только по веревочной лестнице.
Так что остров Сирос полон загадок…
Тут Андрей лукаво улыбнулся и добавил:
– Но если быть честным, то я, конечно, хотел перебраться через холмы на другую сторону острова, да силенок не хватило и времени тоже. Зачем? Так ведь там находится известный поселок Галиполис, куда специально приезжают из Германии и Швеции молодые нудисты. Там же рядом – уютная бухточка, где они купаются в костюме Адама и Евы.
– Голышом! – восторженно рявкнули моряки, предвкушая потрясающее зрелище.
– Естественно, – с видом первооткрывателя произнес Андрей.
– Боцман! Завтра побудка в пять утра – идем в Галиполис, – приказал кэп, уловив настроение команды.

Лишь только розовоперстая Эос коснулась морской сини, как яхта, подняв якорь и развернув паруса, уже мчалась к заветной бухте. Отвесный скалистый берег нависал над морем, принимая сокрушающие удары волн и нехотя, с гулом роняя в воду большие камни. Мы все лежали на палубе, нежась в лучах утреннего солнца, предвкушая необычную встречу. И вот за поворотом открылась круглая бухточка, защищенная со всех сторон скалами. Яхта бросила якорь, почти перегородив горловину бухты.
Все замерли, пристально вглядываясь в берег. Там на узкой полоске гальки лежало десятка два человек, подставляя солнцу бронзовые от загара тела без всяких там белых пятен. Некоторые повернули головы, разглядывая яхту, кое-кто даже поплыл к нам. Ободренная команда, издав пиратский клич, попрыгала в воду. Я задержался на борту и видел, как загорающие, вероятно, несколько смущаясь вновь прибывших, стали отодвигаться от кромки воды, уползать за камни.
Человек пять голых волейболистов, стоявших по колено в воде, зашли поглубже, хотя девушкам не удалось совсем скрыть свои симпатичные фигурки. Пожилая парочка с белоснежной кожей и впечатляющими формами у дамы (вероятно, немцы), миловавшаяся у берега, отодвинулась в сторонку…
Но по-прежнему как ни в чем не бывало плавали на зеленых и желтых резиновых плотиках загорелые, как шоколадки, наяды. Да, все подставляли обнаженные тела солнцу и теплой соленой волне и не видели в этом ничего греховного.
От бухты веяло умиротворенностью, чем-то библейским или античным. Так и осталась в моей памяти эта картинка: в рамке серых скал бирюзовая вода, и скользит по волнам смуглая наяда с распущенными волосами, посматривая лукаво на растерявшихся моряков.

Новые подвиги гераклов, или удивительные успехи Людочки-супермаркет
Посматривая на симпатичные пейзажики средиземноморских островов, которые мелькают сейчас перед моими глазами на экране телевизора, куда зазывают доморощенные турфирмы по всем телеканалам, я с удовольствием осматриваю свое хозяйство со своей верандочки в подмосковном домике, где пишу эти строчки. Все у меня здесь под рукой: с утра нарублю сухих сучьев и натоплю печку, попью чайку с домашним вареньем, а если не поленюсь набрать грибков да нарыть картошки в огороде, то и жареха к обеду поспеет. И самое приятное для меня после итальянского плавания – все удобства бесплатно: и дрова, и вода, и самодельный душ, сделанный из бочки и шланга, и, пардон, имеется интимная будочка за кустами смородины.
Любуюсь я со своей верандочки на райские острова, и снова перед глазами всплывают бесконечные швартовки в уютных гаванях, возникающих оазисами на пути измотанных штормами пилигримов, томимых жаждой и голодом. Ты думаешь, дорогой читатель, что, приближаясь к Итаке или Поросу, мы прежде всего говорили о достопримечательностях этих островов? Конечно, вспоминали и это, но главное, что вертелось в голове, – это вопросы низменного быта: где набрать горючки, воды и. самое главное, как бы, всеми правдами и неправдами, пополнить запас провианта.
Перед швартовкой не каждый счастливец успевал дождаться своей очереди в гальюн (они закрывались на большие амбарные замки, иначе портовые власти могли наложить штраф) или повисеть за яхтенной кормой на лесенке, подставляя спину соленой волне, чтобы помыться, побриться и т.д. И вот на глазах пораженных аборигенов, встречающих экзотические лодьи, наша разношерстная команда прежде всего бросалась на штурм разного рода общественных мест.

Успех приносил только благоприобретенный опыт. Ушлый пилигрим, перебравшись по сходням на причал, должен был моментально сориентироваться в ситуации. Его наметанный глаз не могла обмануть никакая реклама с обещаниями сервиса и всяческих удобств при осмотре достопримечательностей: уж если нет паромной пристани на острове, значит, нет и общественного туалета, и умывальника с горячей водой, а иногда и жидким мылом, где под краном можно исхитриться и помыть голову, зудевшую от грязни морской соли. Оставались, конечно, еще кафе, банки, музеи, но там нашего брата не ахти как привечали. Наивный соотечественник может вспомнить о душевых на пляжах, но это только на милой родине в прежние времена не стоило ни копейки. На Сиросе с меня за дерзкую попытку проникнуть в такую душевую чуть не содрали несколько сотен драхм, а на итальянских пляжах не успевал я отвернуть кран у душа, как гостеприимная сеньора норовила за его пользование всунуть билет за 5 000 лир.
Оставалась надежда лишь на темные южные ноченьки – лучшее время для разбойных действий. Мающиеся бессонницей греческие и итальянские старушки могли наблюдать с балкончиков своих домов, как от лодий отчаливала шлюпка, слегка громыхая бидонами, – это добры молодцы отправлялись по воду. А с носа тенями скользили полуобнаженные фигуры с полотенцами: любители водных процедур, прихватив с собой шланг и гаечный ключ, шли искать по городу подходящие краны. Вот так, дорогой читатель, чистота требует жертв.
А утром все умытые (а когда оставалась вода, то и в постиранной одежонке) отправлялись в город. Если автобусом, то это не вызывало больших затруднений: подбирался на остановке билет, естественно, использованный, и смело пробивался еще раз компостером (в том случае, когда не было кондуктора). Когда же надо было ехать поездом, то следовало проявить максимум изобретательности и надежно билеты проверяют только после прибытия на станцию, значит, нужно быть осмотрительным, чтоб не попасть в руки контролера. В итальянских поездах можно спрятаться в туалете, хотя они открываются проводниками. Когда мы ехали зайцами из порта Фьюмичино в Рим, отец Августин поведал историю, как один наш соотечественник все же смог проехать таким образом всю Европу, пока, правда, его не обнаружили в поездном туалете бельгийские контролеры.
Но любознательность можно утолить и пешими прогулками, а как быть с голодом, который, вместе с любовью (она, конечно, к теме нашего разговора не относится) правит миром, как сказал поэт. Чтобы идти на лодьях на веслах и под парусами, надо тратить много сил, а откуда они могли взяться, если вкушали мы лишь жидкий чай да такую же жидкую баланду из семи круп. Хлеб у нас кончился в Турции, сухари – в Греции, а сушки и печенье – перед итальянскими берегами, фрукты и овощи нам были просто противопоказаны по финансовым соображениям, так что оставалась лишь строгая норма консервов да крупы (на судах холодильника не было, и естественно, не сохранилось ни масла, ни мяса).
Поэтому ничего нет удивительного в том, что одними из самых ярких моих заграничных впечатлений были ночные пиршества на итальянских островах, когда не выдержавший голодного блеска наших глаз добрый пекарь пожертвовал на лодьи несколько подгорелых караваев, а в другой раз (почему-то все значительные события случались в плавании ночью) владелец ресторана прислал в коробках пиццу. Вот это был пир: мы сидели в темноте под брезентом и медленно ели кусочки пирога, растягивая удовольствие и стараясь не обронить ни крошки.
Почему мы не зарабатывали? Пытались, хотя за «бугром» никто не торопится брать иностранцев с двадцатидневной визой на работу. Но однажды нам повезло: хозяин ресторанчика решил ради рекламы сфотографировать свое заведение на фоне плывущих лодий.
Целый день мы жарились под солнцем, поднимая и опуская паруса и гоняя лодьи с места на место: заказчик желал получить качественный снимок. И за этот титанический труд он вечером пригласил нас в свой ресторан. Уж тут мы не дали промашки и до отвала наелись спагетти, с маслом и кетчупом, с наслаждением запивая все кисленьким винцом.
Другие виды заработка также не блистали выдумкой, хотя и приносили кой-какой доход.
Ну, прежде всего, сбор пожертвований. Сразу же по приходе в любой порт около лодий выставлялись жестяные ящики. Собранные драхмы и лиры откладывались для возвращения домой. Ящики даже опечатывались, так как команды лодий пытались откачивать деньги от этих сборов себе на пропитание.
У лодий всегда толпились любопытные. Им предлагалась рискованная экскурсия: взобраться по шатким сходням и взглянуть на житье-бытье пилигримов, так сказать, изнутри. Богатые туристы приходили в ужас от нашего быта и кормежки и могли отвалить, сильно разжалобившись, даже крупную купюру.
Предлагалось также катание на лодьях или плавание на другой остров. Молодожены из Англии даже согласились проплыть с нами подольше, заплатив за это удовольствие сорок фунтов, но после первой же ночевки на палубных досках под банками незаметно исчезли, даже не потребовав обратно своего щедрого взноса. Дольше всех с нами плыли французские девчонки, да и то лишь потому, что влюбились в бравых карельских поморов. Голь на выдумки хитра: ребята устраивали целые представления перед лодьями, чтобы заманить богатого туриста.
Низкий и плотный Вова-боцман наряжался в солдатскую шинель, напяливая военную фуражку, и, причесав свою бороду, выходил на набережную этаким цирковым «рыжим» зазывалой. А Коля – плотник, надев тельняшку, исполнял под гитару перед ресторанной публикой наши советские песни, за что ему кидали бумажки в стройбатовскую панамку, а хозяйчики ресторанов выставляли угощение за привлечение клиентов. Фотографы щелкали туристов на фоне экзотичных лодий, художники делали моментальные портреты-зарисовки, устраивая на самых фешенебельных островах вернисажи своих картин, но самый постоянный источник доходов был у наших торговцев. И здесь пальму первенства следует отдать скромному бухгалтеру из одной дружественной нам бывшей республики, у которой было простое и обычное имя Людочка.
Прежде всего, эта незаметная маленькая девушка удивила всех при таможенном досмотре, когда, несмотря на жесткую перетряску багажа, умудрилась сохранить на каждой лодье по мешку разных близких ее сердцу сувениров.
Затем опытные в плавании и торговле поморы подметили, что она не стала выкидывать весь товар на дешевом для российского экспорта стамбульском базаре. И, вообще, обладая незаурядным чутьем по части рыночной конъюнктуры, она весьма точно определяла, где какой товарец пойдет.
В Турции Людочка не стала навязывать мусульманам водку, а вынула припрятанную подзорную трубу, которую, правда, у нее отобрал капитан для более успешного вождения лодьи. На греческих островах, раскладывая товары прямо на пристани, она удивляла богатую публику кружевами и вышивкой, на которой гармонично располагались бутылки водки и банки икры, увитые янтарными бусами, а заевшимся итальянцам она неожиданно предложила надувные игрушки, «хохлому» и значки.
В скромных греческих городках Людочка выступала в роли бойкого зазывалы, а на богатых курортах сидела горькой сиротинушкой, вызывая к себе всеобщую жалость, за что и получала вознаграждения.
С каждым днем ее бизнес шел в гору, чему налицо были серьезные свидетельства. Во-первых, она приобрела черную майку с единственным словом – «Босс», которую подпоясывала широким ремнем с кошельками для разных мелких драхм и лир (твердую валюту хранила в самых укромных местах), а ниже пояса она была затянута в наимоднейшие розовые лосины, выгодно обрисовывающие ее формы, на что иностранные покупатели также обращали внимание.
В кругу «крутых» бизнесменов СНГ принято обзаводиться охраной, и Людочка также стала теперь прогуливаться с телохранителем, крепким высоким парнем, который отводил ее после вечерней кружки пива на лодью. Но в отличие от доморощенных миллионеров Людочка не швырялась с таким трудом заработанной валютой и даже не положила ее в конце путешествия в итальянский банк, а всю, до копейки, привезла в своем поясном кошельке на родину, чтобы открыть собственное дело.
Так что во время плавания пилигримы набирались не только моряцкого опыта и осматривали живописные античные руины, но понемногу проходили азбуку заграничной «школы выживания», прочно уяснив себе основное правило: «Без лиры в кармане жить трудно, но можно…»
Окончание следует
В. Лебедев, участник плавания в Италию на лодьях «Вера», «Надежда», «Любовь» | Фото Ю.Масляева
Исторический розыск:
Белая гвардия: последний приют

Бредить Парижем и страстно желать встречи с ним – давняя русская особенность. Еще в 1790 году молодой путешественник Николай Карамзин, приближаясь к Парижу, писал: «Вот он, – думал я, – вот город, который в течение многих веков был образцом всей Европы, источником вкуса, мод, – которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке, – которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал!.. Вот он!.. Я его вижу и буду в нем!..» – Ах, друзья мои! Сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия!»
К желанной встрече с Парижем я шел все первое полстолетие своей жизни. Но тогда выезд в Париж был для меня, как и для многих, так же реален, как полет на другие планеты… И вот наконец в декабре 1990 года, когда еще гремели фанфары перестройки и русские были желанными гостями за рубежом, я, как и молодой путешественник двести лет назад, приближался к Парижу – с такими же «живыми чувствами, с таким любопытством, с таким нетерпением».
Я ждал встречи с парижскими музеями, улицами и площадями, бульварами, знаменитыми кафе, Сеной, Эйфелевой башней и многим другим…
Но было в Париже одно место, посетить которое я считал более своим долгом, чем интересом. Это – русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в южном пригороде Парижа, где похоронены и мои родственники.
Живя в Париже у своих родных, я, сам поначалу этого не осознав, получил редкую возможность, попав на Сент-Женевьев, не торопиться к отъезжающему автобусу.
Начало декабря в Париже было сродни нашему октябрю. И в ясный день словно бы нашей золотой осени я входил в ворота русского кладбища на окраинной улице Лео Лагранж. И началось…
Была белая свеча Успенской церкви, вызывающей в памяти образ Покрова на Нерли, звонница, словно бы перенесенная сюда из древнего Новгорода, березы, еще не совсем облетевшие… Тишина… И каскад знакомых по истории и литературе русских фамилий…
Но больше всего меня поразили могилы участников Белого движения. Я почувствовал, до какой степени справедливы слова князя Сергея Евгеньевича Трубецкого, запомнившиеся мне при чтении его воспоминаний, написанных в эмиграции: «Будет ли наш прах покоиться в родной земле или на чужбине – я не знаю, но пусть помнят наши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы и они будут призывать их к любви и верности России». На каждой из них – какой-нибудь символ ушедшей России: Андреевский флаг из голубых и белых цветов, изображение русского ордена, восьмиугольный крест с крышей и золотыми куполами-луковками, горящие в нишах крестов свечи… И оставшиеся такими злободневными слова: «Боже, спаси Россию!» – на могиле братьев Кудрявцевых, добровольцев русской Северной армии. Я обходил полковые участки алексеевцев, дроздовцев, корниловцев, моряков, казаков, лежащих плечом к плечу, как когда-то в боях… И участки, где похоронены те, кто хотел, чтобы их вспоминали как кадетов и где на каждой могильной плите лежит погон кадетского корпуса из цветного фарфора…
Рассматривал воссозданный Галлиполийский памятник и думал о тех, кто покоится в тишине французского кладбища – о русских людях, страстно любивших родину, не щадивших своей жизни на войнах с ее врагами и оказавшихся далеко от ее пределов…
Я уехал из Парижа, вспоминая, конечно, его неповторимый облик, уют уличной жизни, архитектурные шедевры и шедевры искусства, обаятельных парижан, но унося в сердце русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Об этом кладбище много написано, но, главным образом, как о пантеоне деятелей русской культуры за рубежом. У меня же возникло желание – как чувство долга – написать об участниках Белого движения, нашедших здесь вечный покой. Неторопливо рассказать о них, используя в палитре рассказа все краски, а не только одну. Чтобы «прикосновение к истории» не осталось только поэтическим символом. Чтобы взгляд на их могилы стал поводом поговорить о нашей недавней истории – без кавычек.
И была задумана работа, в которой фотографии дополнялись бы текстом, не только сообщающим сведения из истории, но и воскрешающим – насколько это возможно – облик погребенных здесь русских людей.
Начав работу, я с глубоким сожалением убедился, что практически некому рассказать о гражданской войне по собственным впечатлениям. На помощь пришли многочисленные воспоминания, изданные за рубежом и наконец-то ставшие доступными для чтения в России. Материалы архивов, в том числе Русского зарубежного исторического архива, созданного русскими эмигрантами в Праге и привезенного оттуда в СССР после окончания второй мировой войны, но около полувека закрытого для исследователей. Неоценимым источником стали также исторические собрания друзей, в которых зачастую находишь нужную книгу, лишь протянув руку к полке.
С особым чувством эта работа ведется сейчас, когда тень гражданской войны вновь пугает Россию. Именно в наши дни нелишне вспомнить, какие беды несет братоубийственная война, в которой нет победителей…
Я горячо благодарю историков: члена-корреспондента Российской академии наук Я.Н.Щапова, научного сотрудника Института военной истории А.И.Дерябина и заведующего отделом Артиллерийского музея П.К.Корнакова за профессиональную помощь, оказанную автору.
Ниже предлагается несколько страниц из задуманной работы.
Кубанский казак Улагай


Улагай… В этой фамилии слышится что-то от азартной охоты, памятна она не только тем, кто изучал историю гражданской войны, но и просто знакомым с поэзией 20-х годов в России:
Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки по следам Улагая,
То чешской, то польской,
То русской речью —
За Волгу, за Дон,
За Урал, в Семиречье.
Это строки из романтической «Песни о ветре», с которой в 1926 году началась поэтическая известность бывшего красноармейца Владимира Луговского.
Генерал-лейтенант Сергей Георгиевич Улагай (1876-1944) – кубанский казак, выпускник Николаевского кавалерийского училища (которое в бытность его Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров окончил Лермонтов), участник русско-японской войны.
В первую мировую он – полковник, командир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска. В конце 1917 года на Кубани, где он оказался после участия в неудавшемся выступлении генерала Л.Г.Корнилова против Временного правительства, Улагай формировал добровольческие части. В Ледяном походе Добровольческой армии в феврале-мае 1918 года с Дона на Кубань и обратно полковник Улагай командовал пешими кубанскими казаками-пластунами. Позднее был начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии, а с марта 1919 года – командиром 2-го Кубанского конного корпуса.
В ноябре 1919 года был произведен в генерал-майоры, в 1919-м – в генерал-лейтенанты. В феврале 1920 года, выжив после тифа, Улагай вступил в командование Кубанской армией Вооруженных Сил Юга России.
Он вошел в историю как командир группы особого назначения Русской армии генерала Врангеля, высадивший из Крыма десант на Кубань летом 1920 года. П.Н.Врангель вспоминал: «Генерал Улагай мог один с успехом „объявить сполох“, поднять казачество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все. Отличный кавалерийский начальник, разбирающийся в обстановке, смелый и решительный, он во главе казачьей конницы мог творить чудеса».
Но «поднять» кубанское казачество Улагаю не удалось. Десант на Кубань, одна из последних ставок белых в гражданской войне, потерпел поражение. Советская история приписала главнокомандующему Русской армией генералу Врангелю увольнение генерала Улагая из рядов армии как виновника поражения. На самом деле два приказа Главнокомандующего от августа и сентября 1920 года отражают лишь перемещение генерал-лейтенанта Улагая по службе. Интересно, что писал о нем советский военный историк А.В.Голубев, сам участвовавший в боях с десантом: «Улагай крепко держал в руках управление своими частями и, несмотря на ряд частных поражений, не допустил разгрома своих главных сил.
Это и дало ему возможность планомерно произвести обратную эвакуацию в Крым, забрав с собой не только все свои части, больных и раненых, но и мобилизованных, бело-зеленых, пленных красноармейцев, в том числе и раненых». Это – оценка, данная в 1929 году, когда в России человеку пишущему еще удавалось представить события такими, как они были.
После эвакуации из Крыма, как и большинство русских офицеров, уцелевших в гражданской войне, генерал-лейтенант Сергей Улагай эмигрировал. Но не было у него ни службы в албанской армии, ни сотрудничества с гитлеровцами в годы второй мировой войны, приписанных ему советской историей, поскольку, как выяснилось, к этому имел отношение другой человек – полковник Кучук Улагай.
Считается, что Сергей Георгиевич Улагай умер в 1944 году. В1948 году его прах был перевезен «откуда-то издалека» на кладбище Сент-Женевъев-де-Буа, где после отпевания отцом Борисом (Старком) С.Г.Улагай нашел свое последнее пристанище. «Вечная слава Русскому Воину» – написано на его скромной могиле. И вечная память.
Дроздовцы


«Дроздовцы», воины Добровольческой армии, носили на малиновых погонах вензель и на мотив марша Сибирских стрелков (хорошо известный нам по песне «По долинам и по взгорьям») пели свой, Дроздовский марш:
Из Румынии походом
Шел Дроздовский славный полк,
Для спасения народа
Нес геройский, трудный долг.
Полковник Генерального штаба Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1919) в декабре 1917 года в Румынии начал формировать из русских, воевавших на Румынском фронте, добровольческий отряд. В марте 1918 года отряд, называвшийся 1-й отдельной бригадой русских добровольцев, выступил из Ясс на Дон. «Впереди лишь неизвестность дальнего похода. Но лучше славная гибель, чем позорный отказ от борьбы за освобождение России!» – напутствовал своих бойцов Дроздовский. Дроздовцы совершили 1200-верстный поход, с боями заняли Новочеркасск и Ростов и в июне 1918 года присоединились к только что вышедшей из Ледяного похода Добровольческой армии генерала А.И.Деникина. Полковник М.Г.Дроздовский принял командование 3-й дивизией, основу которой составил его отряд.
В ноябре 1918 года в бою под Ставрополем Дроздовский был ранен и 14 января 1919 года умер от заражения крови в ростовском госпитале. Тело его было перевезено в Екатеринодар и похоронено в Войсковом соборе. В память М.Г.Дроздовского, перед смертью произведенного в генерал-майоры, его шефство было дано стрелковому и конному полкам.
В марте 1920 года в Екатеринодар, уже занятый красными войсками, ворвался отряд дроздовцев и вывез гроб генерал-майора, – чтобы не повторилось неслыханное надругательство, какое в апреле 1918 го да в том же Екатеринодаре было учинено над прахом генерала Л.Г.Корнилова. Гроб с телом генерала М.Г.Дроздовского морем был вывезен из Новороссийска в Севастополь и там в сокровенном месте похоронен. Где – теперь этого уже никто не знает…
Дроздовские части были одними из самых боеспособных. За три года гражданской войны дроздовцы провели 650 боев. Их стихией были особые атаки – без выстрелов, во весь рост, впереди – командиры. Более пятнадцати тысяч дроздовцев осталось лежать на полях сражений братоубийственной войны, ставшей трагедией России.
Последние дроздовские части закончили свое существование в Болгарии, куда попали после эвакуации галлиполийского лагеря. А на участке русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, именуемом «дроздовским», похоронены рядом друг с другом уцелевшие в гражданскую «дрозды», как они себя называли, и на чужбине сохранившие верность своему полковому братству.
Сейчас над могилами дроздовцев уже не возвышается хорошо известная по старым фотографиям трехарочная звонница – в 1987 году взамен обветшавшего памятника был установлен новый. Но, как и прежде, на нем ярко выделяется бело-малиновый крест с вензелем дроздовцев и надписью «Яссы» – знак 2-го офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка. И все долгое парижское лето могилы дроздовцев украшают белые и малиновые флоксы.
Поручик Рябчиков


Поручик Александр Матвеевич Рябчиков (1888—1965) – рядовой участник Белого движения. Выпускник Московского технического прядильно-ткацкого училища, он ушел на фронт первой мировой войны вольноопределяющимся. В 1916 году окончил Петергофскую школу прапорщиков и до марта 1918-го воевал на Юго-Западном фронте. Командир роты 43-го Охотского пехотного полка поручик Рябчиков за отражение атаки 13 августа 1917 года на реке Збруч, по представлению солдат роты, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
В марте 1918 года на станции Клин, тогда еще Николаевской железной дороги, у возвращавшегося по демобилизации боевого офицера враждебно настроенная толпа сорвала погоны и Георгиевский крест. Все домашнее имущество многодетной семьи, нажитое трудом отца, отставного унтер-офицера, фабричного служащего, было реквизировано… И тогда для демобилизованного поручика во имя спасения России от собственного, не чужеземного врага началась вторая война, такая же Великая, как и прошедшая, – в рядах Северо-Западной армии генерала Юденича.
Было наступление на красный Петроград, едва не закончившееся его победным взятием, отступление, ад обстрела белых частей орудиями главного калибра линейного корабля «Севастополь» (парадокс истории: в марте 1921 года «Севастополь» стал ядром антибольшевистского Кронштадтского восстания).
В ноябре 1919 года отступавшая под натиском красных, уставшая от непрерывных боев Северо-Западная армия встретила на границе направленные на нее штыки недавних союзников: граница ставшей независимой Эстонии оказалась на замке. Когда все же «милостивое» разрешение эстонского командования перейти границу было получено, части Северо-Западной армии разоружили и загнали в леса и болота. И только после вмешательства английской миссии русские части были размещены в населенных пунктах близ Нарвы.