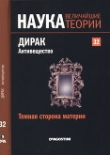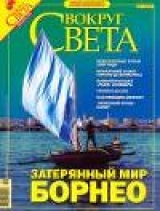
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №12 за 2005 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Рыбья участь капибары

Спокойная жизнь самых больших из ныне живущих на Земле грызунов – капибар заканчивается с наступлением засухи, когда на них открывают сезон охоты. Всадники-гаучо окружают мирно пасущихся животных таким образом, чтобы отрезать им путь к воде, в которой они могли бы укрыться от преследователей. Остается только накинуть лассо.
«Капиюва» на языке индейцев гуарани означает «хозяин травы». Так жители Южной Америки прозвали гигантского грызуна, обитающего по берегам рек и озер и питающегося исключительно травой и водными растениями. Правда, в качестве самого популярного международного имени этого вегетарианца прижился несколько искаженный вариант слова, а именно – «капибара». В Европе же его зовут более прозаично – водосвинкой за гротескную схожесть с ближайшей родственницей морской свинкой, да и научное название Hydrochoerus лишено пафоса и переводится с латыни как «водяная свинья», что, по мнению людей, имевших возможность наблюдать за животными, является крайне несправедливым. Так, например, известный натуралист Джералд Даррелл считает, что «вид у капибары весьма аристократический: ее плоская широкая голова и тупая почти квадратная морда имеют благодушно-покровительственное выражение, придающее ей сходство с задумчивым львом».

Длина тела капибары составляет 1,5 м, а вес взрослого животного может достигать 60, а по некоторым данным – и 70 кг. Водосвинка вдвое больше дикобраза и бобра и является самым крупным представителем отряда грызунов современной фауны, сумевшим уцелеть в эволюционной борьбе за кормовые ареалы с копытными. В процессе отвоевывания места под солнцем капибара даже обрела некую схожесть с крупными травоядными и в облике, и в повадках. Ее ноги, конечно, не так длинны и стройны, как у антилоп или лошадей, но и не похожи на короткие конечности грызунов. Она научилась стремительно бегать, резко прыгать и жить под открытым небом, не занимаясь рытьем нор. Ее дети рождаются не голыми и слепыми, как у сородичей, а в шерстке и зрячими, способными практически сразу следовать за семьей. Все это очень похоже на примитивных копытных. Однако на лапах у водосвинки все-таки не копыта, а перепонки, что позволяет ей жить на суше и в воде. Несмотря на внушительные размеры, она не только прекрасно плавает, но и отлично ныряет и может подолгу оставаться под водой. Эта особенность капибары как раз и позволила пережить вторжение настоящих копытных и оказаться вне конкуренции.
Такой образ жизни и по сей день имеет несомненные преимущества для выживания. Во-первых, водные растения обычно содержат очень мало механических тканей и легче усваиваются пищеварительной системой грызунов. Во-вторых, это дает возможность прятаться в зависимости от обстоятельств от наземных врагов в воде, и наоборот. Впрочем, у взрослых капибар врагов не так и много – только ягуар и человек, хотя на детенышей нередко нападают кайманы.
Однако у этих выгод есть и оборотная сторона: жесткая привязанность к воде сильно ограничивает территорию, пригодную для проживания. Но во многих районах Южной Америки, пожалуй, труднее найти сухой луг, чем переувлажненный. Область распространения капибар как раз и совпадает с «влажной» частью континента – от Панамы до северной Аргентины, исключая высокогорную часть Анд и их западные склоны.
Живут капибары стадами, которые состоят в среднем из 20 животных: взрослого самца и нескольких самок, при которых, естественно, состоят дети разных возрастов. В такой группе или возле нее могут жить и подчиненные самцы, не имеющие права претендовать на самок гарема. Впрочем, даже если кто-то из молодых самцов и допускает некорректное поведение, конфликты крайне редко заканчиваются драками. Жизнь самок полностью посвящена воспитанию потомства, причем не только своего: они охотно нянчатся со всеми детьми в группе.
Исключительно покладистый характер капибар отмечали все, кто держал их в неволе: даже взрослые животные очень доверчивы и легко приручаются, мирно уживаются с прочими домашними животными и даже обучаются командам, а наиболее способные – цирковым трюкам.

Тем не менее история взаимоотношений капибар с человеком далеко не идиллична. Еще в доколумбовы времена коренные жители континента охотились на водосвинок. Вкус мяса понравился и прибывшим в Америку конкистадорам. А после того как католическая церковь в XVI веке вдруг признала их «рыбой», разрешив своим чадам вкушать мясо этих животных в постные дни, охота на капибар приобрела невиданный размах. Кстати, практика подобных богословско-кулинарных уловок была уже хорошо отработана – в средневековой Европе в «рыбы» попали не только киты и тюлени, но и бобры, и даже выдры.
Настоящая же угроза нависла над капибарами, когда в странах, где они живут, стало интенсивно развиваться сельское хозяйство. Фермеры увидели в кротких грызунах вредителей посевов и конкурентов домашней скотине и объявили им беспощадную войну.
Однако во второй половине прошлого века скотоводы убедились, что вытеснение капибар совершенно бессмысленно. Обвинения в адрес грызунов были сплошным недоразумением, ведь их процветание основано как раз на том, что они сумели уйти от конкуренции с копытными. Их кормовые угодья – болота, топкие берега и мелководья. В других местах, у водоемов с твердым берегом дикие капибары действительно нередко пасутся вместе с домашним скотом, но поедают при этом опять-таки водные растения, мало интересуясь злаками и прочей коровьей едой. По этой же причине они не опасны и посевам сельскохозяйственных культур. Но к тому моменту, как животные были оправданы, в ряде районов численность водосвинок сократилась настолько, что там пришлось вводить полный запрет на их промысел. Однако согласно закону противоречий, как только табу на охоту обрело силу, в мире сильно увеличился спрос на «нетрадиционные» сорта мяса, в том числе и на мясо капибары. И в 80-е годы в Венесуэле появились первые капибаровые фермы. Идея не только себя оправдала – разведение капибар позволило превратить «бесполезные» болота в продуктивные пастбища, – но и оказалась чрезвычайно эффективной: капибара, став крупным травоядным, в значительной мере сохранила репродуктивные привычки грызунов. Самки рожают 2—4 (иногда и до 8) детенышей, физиология и климат позволяют им делать это до трех раз в год. Через 15—18 месяцев эти свинки уже сами способны к размножению, а до размера взрослых вырастают еще раньше. Из традиционных домашних животных такой плодовитостью и скоростью роста обладает только свинья, но ее не разводят на пастбищах. Сегодня фермы, специализирующиеся на выращивании капибар, очень рентабельны, ведь с каждого гектара угодий можно получить вчетверо больше мяса, чем при разведении крупного рогатого скота.
Правда, пасти капибар – дело хлопотное: там, где они кормятся, часто не может проехать ни джип, ни всадник-гаучо, да и электропастуха не поставишь – высокая влажность. Поэтому капибаровые фермы расположены в основном в районах с сильно выраженной сезонностью климата. Во время дождей животные обитают на больших пространствах, почти не встречаясь с людьми, и приносят там приплод. В сухой же сезон они собираются на берегах постоянных водоемов, давая возможность «пастухам» пересчитать поголовье и отделить нужную часть взрослого стада.
При таком полувольном содержании капибары, похоже, и не замечают, что их одомашнили.
Борис Жуков
Декабрьская репетиция октября

Ровно сто лет тому назад Российская империя впервые в своей истории оказалась на пороге гражданской войны. Декабрьское вооруженное восстание в Москве стало самым драматичным эпизодом первой российской революции, до основания потрясшей страну. Современники и историки по-разному оценивали эти события: одни считали их преступным антиправительственным мятежом, другие – героическим подвигом московских рабочих. Попробуем же взглянуть на декабрьскую трагедию глазами ее участников и очевидцев и восстановить реальный ход событий.
Революция началась в Петербурге с трагических событий 9 января, когда власть, не сумевшая проявить ни такта, ни выдержки, довела дело до расстрела массовой манифестации столичных рабочих. На протяжении 1905 года противостояние правительству народных масс, радикальных революционных партий и более умеренной либеральной оппозиции все больше и больше накаляло обстановку в стране. Внезапно оказалось, что существующим порядком вещей недовольно подавляющее большинство жителей России, в том числе и те, кто вроде бы должен был его поддерживать, – значительная часть дворянства, многие государственные служащие и предприниматели, не говоря уже об интеллигенции.
Правительство металось от запоздалых уступок к попыткам продемонстрировать твердость. На усмирение революции силой не хватало ни воли, ни средств, поскольку значительная часть армии вела изнурительную и неудачную войну с Японией, а после ее окончания сама являла собой потенциальную угрозу для власти. Но и уступки мало кого удовлетворяли. Наоборот, они убеждали недовольных в том, что необходимо продолжение борьбы. Революция как бы «нащупывала» пределы сопротивляемости власти, а та, в свою очередь, «училась» иметь дело с революционной стихией.
Напряжение в стране достигло апогея осенью. В октябре 1905 года началась всеобщая политическая стачка, буквально парализовавшая жизнь крупных городов. Бастовали все – от служащих Государственного банка до булочников и водопроводчиков. В Петербурге забастовка едва не началась даже в одном из полицейских участков! В этом всеобщем протесте слились самые разные силы. Одни хотели демократической республики и всеобщего избирательного права, тогда как других устраивало ограничение самодержавия. Одних удовлетворили бы повышение заработной платы и 8-часовой рабочий день, а другие желали ни много ни мало как отмены частной собственности и установления всеобщего имущественного равенства. При этом совершенно очевидно, что ожидания и цели, скажем, рабочих и фрондирующих предпринимателей, мягко говоря, не всегда совпадали.

В этой обстановке многим, в том числе и части государственных деятелей, не говоря уже о либеральной оппозиции, казалось, что революцию можно остановить с помощью конституционной реформы, то есть создания представительного органа, который вместе с царем будет управлять государством. Как утверждал будущий председатель I Государственной думы, московский профессор С.А. Муромцев, «только конституция может умиротворить и успокоить, а потому надлежит ее требовать». Ставку на такое «умиротворение» сделали граф С.Ю. Витте и ближайший советник царя Д.Ф. Трепов, убедившие Николая II издать знаменитый Манифест 17 октября, провозглашавший политические свободы и создание законодательного народного представительства. Надежды, что манифест удовлетворит всех и откроет путь для примирения власти и общества, были так широко распространены, что, узнав о его подписании, один из руководителей политического сыска, П.И. Рачковский, даже заявил с улыбкой начальнику столичного Охранного отделения: «Вот ваше дело плохо. Вам теперь никакой работы не будет».

Но все они жестоко просчитались. Манифест не только не умиротворил страну, а привел к прямо противоположному результату. Эйфория от достигнутой победы буквальнFо окрылила революционеров и либералов. И те, и другие не собирались останавливаться на достигнутом. Революционные партии еще в начале 1905 года взяли курс на вооруженное восстание. Именно в то время появляется известная теория «перманентной революции», согласно которой российские события должны были положить начало установлению диктатуры пролетариата во всемирном масштабе. Характерны те советы, которые в октябре давал товарищам по партии лидер большевиков В.И. Ленин: вооружаться револьверами, ножами, тряпками с керосином для поджогов, самодельными бомбами и т. п., а в качестве «тренировки» перед восстанием – убивать шпионов, устраивать взрывы полицейских участков, нападения на банки для конфискации средств на нужды революции, избивать городовых.
По всей стране начинаются формирование, вооружение и обучение боевых дружин, которые должны были стать «ударной силой революции». В Петербурге огромный авторитет приобрел созданный в октябре Совет рабочих депутатов, формальным руководителем которого был адвокат Г.С. Хрусталев-Носарь, а реальным – социал-демократ Л.Д. Троцкий. По столице даже гуляла злая шутка: в России существуют два правительства – графа Витте и Носаря, причем неизвестно, кто кого арестует. По меткому замечанию одного из лидеров партии социалистов-революционеров (эсеров) В.М. Зензинова, ситуация к концу 1905 года складывалась так: «Революция и правительство – как два человека, нацелившихся уже один в другого из пистолета. Вопрос в том, кто первый нажмет собачку».
В конце ноября – начале декабря напряжение в обоих лагерях дошло до предела. Революционеры опубликовали так называемый Финансовый манифест – призыв к населению забирать вклады из сберегательных касс и требовать всех выплат золотом, что грозило государству полным банкротством. В ответ правительство после долгих колебаний решилось отдать приказ об аресте Совета рабочих депутатов в полном его составе, что и было сделано 3 декабря. После этого революционные партии, руководители которых находились тогда в Петербурге, призвали народ к всеобщей стачке протеста. При этом было ясно, что стачка будет лишь прологом вооруженного столкновения революционных сил с властью. Инициативу выступления взяла на себя Москва, менее истощенная предшествовавшими выступлениями, нежели Петербург.
Прелюдия
Прошедшие в Москве 3—5 декабря фабрично-заводские собрания и конференции трех главных революционных партийных организаций – большевиков, меньшевиков и эсеров – продемонстрировали, что большая часть рабочих буквально рвется в бой. Как заявил партийным функционерам один из них, «если вы и дадите приказ воздержаться от вооруженного выступления, мы все равно выйдем; рабочий класс готов биться…» Многие лидеры революционеров предпочли бы отложить выступление до весны. Однако «настроение масс» заставляло их отбросить всякие сомнения в необходимости восстания. «Столкновение приближалось со стихийной силой, – вспоминал позже В.М. Зензинов. Так приближается гроза с громом, молнией, ливнем… Думаю, что в глубине души мы все были уверены в неизбежности поражения: что, в самом деле, кроме поражения, могли мы ждать при столкновении с войсками, вооруженными пулеметами и артиллерией? Что могли мы сделать со своими жалкими револьверами и даже динамитными бомбами? …Если бы даже удалось овладеть Москвой, на что, по правде сказать, никто из нас и не надеялся, исход столкновения ни в ком не мог вызвать сомнения, потому что Москва, конечно, была бы все равно раздавлена. Но бывают положения, когда люди идут в бой без надежды на победу – это был не вопрос стратегии или политического расчета, а вопрос чести…»
Конечно, Зензинов задним числом упрощал ситуацию: на поражение революционеры во все не настраивались. За неделю до начала восстания в одном из полков московского гарнизона произошли волнения, подавленные командованием с большим трудом. В войсках действовало множество агитаторов, и большинство частей (особенно саперных и пехотных) считались ненадежными. Собственно, как и в 1917 году, в 1905-м революция могла рассчитывать на победу только в одном случае: если армия перейдет на ее сторону. Поэтому, кстати, некоторые партийные лидеры и стремились отсрочить восстание до будущей весны, когда ожидалось возвращение воинских частей из Маньчжурии. Надежды, что солдаты откажутся стрелять в восставших, в Москве были очень сильны, особенно поначалу. Ожидалась и мощная поддержка страны, которая могла заставить власть капитулировать.
Реальные же силы самих революционеров действительно были не очень значительны и сплоченны. Точных данных о количестве «боевиков» в Москве в декабре 1905 года нет. По оценкам мемуаристов и историков, в восстании принимало участие до 8 тысяч вооруженных и полувооруженных дружинников, организованных в несколько крупных отрядов. Есть и гораздо более скромные оценки их численности, но проверке эти данные не поддаются. Так, например, действовали партийные дружины (большевистская, меньшевистская и эсеровская), студенческая, кавказская, железнодорожная, типографская, а также заводские (на предприятиях Гужона, Шмита, Цинделя, Трехгорной мануфактуре и др.) В Москву подтягивались также боевики из Подмосковья (Мытищ, Коломны, Люберец, Перова). Оружия не хватало, а степень обученности боевым действиям у большинства дружинников была минимальной. Характерно, что когда восставшие захватили артиллерийское орудие, им не удалось, несмотря на все старания, не только ни разу из него выстрелить, но даже обезвредить его, сняв замок.

У революционеров изначально не было ни единого руководства, ни авторитетного харизматического вождя, ни четкого плана действий. Члены ЦК большевиков Ленин или, например, Л.Б. Красин, а также такие лидеры эсеровской партии, как В.М. Чернов и Б.В. Савинков, в дни восстания в Москве не появились. Руководители же отдельных отрядов (например, З.Я. Литвин-Седой, А.В. Ухтомский и другие) действовали лишь в пределах небольших районов. Мы не знаем, что именно помешало авторитетным революционным лидерам приехать в декабре 1905 года в Москву – недостаток личного мужества, занятость более важными делами (хотя что может быть важнее решительной схватки с врагом?) или неверие в успех затеянного дела. А может быть, недостаток информации помешал им своевременно оценить серьезность происходящего во второй столице? К сожалению, документы и мемуары хранят на этот счет молчание. Известно лишь, что Ленин, который, в общем-то, тогда еще не был знаковой фигурой, с 12 по 17 декабря был занят на партийной конференции в Таммерфорсе (Финляндия). Большевики командировали в Москву только одного из второстепенных партийных функционеров И.А. Саммера, который не оказал на ход событий никакого влияния.

Стоит заметить, что среди будущих участников восстания были и фанатики, горевшие желанием отомстить за страдания народа и убежденные, что на силу нужно отвечать только силой, и просто «рисковые» молодые люди, жаждавшие открытой схватки с властью и верившие в свою счастливую звезду. Были и такие, кто поддался настроению минуты и шел на баррикады из чувства солидарности с товарищами или любимыми людьми. Были, наконец, среди повстанцев и просто дисциплинированные члены революционных партий, не привыкшие рефлексировать над приказами партийного центра. Московские власти также не располагали большими резервами. В их распоряжении были 15-тысячный гарнизон и около 2 тысяч полицейских, но лишь примерно десятая (!) часть войск считалась надежной. Как докладывал царю адмирал Ф.В. Дубасов, незадолго до того назначенный московским генерал-губернатором, в первые дни восстания он мог полагаться только на 1 350 штыков (главным образом кавалерию – драгун и казаков). Как сам Дубасов, так и московский градоначальник барон Г.П. Медем еще до начала восстания неоднократно обращались в Петербург к министру внутренних дел П.Н. Дурново и командующему округом великому князю Николаю Николаевичу с просьбой о присылке дополнительных подразделений, но неизменно получали отказ. Масштабы происходящего правительству поначалу не были ясны, а опыт октябрьской забастовки заставлял опасаться, что основные волнения произойдут именно в Петербурге. Неудивительно, что московская администрация оказалась в очень сложном положении. Впрочем, и революционеры, и власть имели лишь самое приблизительное представление о силах друг друга и поначалу действовали, скорее, «на ощупь», методом проб и ошибок.
Что же касается основной массы жителей города, то предшествовавшие месяцы революции и годы глухого недовольства правительственной политикой заставляли москвичей сочувственно относиться к тому, что оценивалось многими из них как массовый протест против угнетения и несправедливости. Не нужно забывать, что в 1905 году россияне еще очень плохо представляли себе, что такое гражданская война. Может быть, поэтому в стране не нашлось ни одной политической или социальной силы, которая попыталась бы остановить приближавшуюся бойню.

«Точно праздник…»
Непосредственное решение о начале всеобщей политической стачки принял на заседании 6 декабря Московский Совет рабочих депутатов по инициативе местных комитетов РСДРП и эсеров, подчеркнув при этом, что надо «стремиться перевести ее в вооруженное восстание».
С середины дня 7 декабря город с более чем миллионным населением начал на глазах менять свой привычный вид. Остановились крупнейшие предприятия, прекратилась подача электроэнергии, встали трамваи, один за другим закрывались магазины, с прилавков которых москвичи буквально сметали все продукты. На всякий случай запасались также водой, керосином, свечами. Перестало работать и большинство московских учреждений, прекратился выпуск газет, кроме «Известий Московского Совета» (в дальнейшем отсутствие газет способствовало массовому распространению разнообразных слухов и панических настроений). Закрылись театры и школы. Было почти полностью парализовано железнодорожное сообщение (функционировала только Николаевская дорога до СанктПетербурга, да и то лишь потому, что ее обслуживали солдаты). С 4 часов дня город погружался в темноту, поскольку Совет запретил фонарщикам зажигать фонари, многие из которых были к тому же разбиты. Оставлены действующими были только газовые и водопроводные сети из опасения, что они могут выйти из строя.
В первый день всеобщей забастовки атмосфера в городе была относительно спокойной: «ни запаха пороха, ни крови». Несмотря на обилие угрожающих внешних признаков, настроение москвичей было, скорее, бодрое и радостное. «Точно праздник. Везде массы народу, рабочие гуляют веселой толпой с красными флагами, – записала в дневнике графиня Е.Л. Камаровская. – Масса молодежи! То и дело слышно: «Товарищи, всеобщая забастовка!» Таким образом, точно поздравляют всех с самой большой радостью… Ворота закрыты, нижние окна – забиты, город точно вымер, а взгляните на улицу – она живет деятельно, оживленно». По словам приехавшего в этот день в Москву А.М. Горького, «в отношении войска в публике наблюдается некоторое юмористическое добродушие»: «Чего же вы – стрелять в нас хотите?» – спрашивают солдаты, усмехаясь. – «А вы?» – «Нам неохота». – «Ну и хорошо». – «А вы чего бунтуете?» – «Мы – смирно…»

Первое столкновение, пока без кровопролития, произошло вечером в саду «Аквариум» (возле нынешней Триумфальной площади). Полиция попыталась разогнать многотысячный митинг, разоружив присутствовавших на нем «боевиков». Однако действовала она очень нерешительно, и большинство дружинников сумели скрыться, перемахнув через невысокий забор. Несколько десятков арестованных на следующий день были отпущены. Однако в ту же ночь слухи о массовом расстреле митинговавших подвигли нескольких эсеровских боевиков на совершение первого теракта: пробравшись к зданию охранного отделения в Гнездниковском переулке, они метнули в его окна две бомбы. Один человек был убит, еще несколько ранены.
9 декабря события приняли уже по-настоящему драматический оборот. Первые кровавые столкновения восставших и правительственных сил произошли на Страстной (ныне – Пушкинская) площади. А вечером войска осадили и расстреляли из орудий училище Фидлера на Чистых прудах, где по обыкновению собирались революционеры. Засевшие там «боевики» поначалу просто не верили, что по ним будет открыт огонь, уповая на нерешительность солдат. Ночью и в течение следующего дня Москва покрылась сотнями баррикад. Вооруженное восстание началось. Многих интересует вопрос: кто первым начал стрелять? Совершенно очевидно, что к этому были готовы обе стороны, и вооруженный конфликт стал практически неизбежным. Вместе с тем факты говорят, что инициатива все же принадлежала правительственным силам, которые посреди дня обстреляли из пулемета и разогнали демонстрацию рабочих и оказавшихся поблизости от Страстной площади обывателей, что и подтолкнуло революционеров к началу активных действий. При этом возведение баррикад началось не по чьему-то приказу, а стихийно.
Из инструкции «Советы восставшим рабочим» Боевой организации при Московском комитете РСДРП. 11 декабря 1905 года: 1. Главное правило – не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами человека в три-четыре, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать…
2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пу сть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти…
7. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих…
8. На драгун и патрули делайте нападения и уничтожайте.
9. В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Околоточных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны своей жестокостью и подлостью, тоже убивайте…
10. Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то в первый раз побейте, а во второй – убейте… …Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. В захваченной части мы сейчас же установим свое, выборное управление, введем свои порядки, восьмичасовой рабочий день, подоходный налог и т. д. Мы докажем, что при нашем управлении общественная жизнь потечет правильнее, жизнь, свобода и права каждого будут ограждены более чем теперь…
Разрушать и строить!
«Строили баррикады с энтузиазмом, весело, – не без иронии вспоминал Зензинов. – Работали дружно и с восторгом – рабочие, господин в бобровой шубе, барышня, студент, гимназист, мальчик… На короткое время все чувствовали какую-то взаимную близость, чуть ли не братство – и потом все снова расходились по своим делам… Баррикады строил обыватель. Это было так весело! Разрушать и строить! Разрушать и строить! В постройке, казалось, было даже какое-то соревнование – как будто люди старались построить у своих домов баррикады, которые должны были быть лучше соседних». В ход шли заборы, рухлядь, фонарные и телеграфные столбы, домовые ворота, афишные тумбы. Все это опутывалось проволокой, обсыпалось снегом и заливалось водой, превращаясь в ледяной панцирь. Первая линия баррикад протянулась пунктиром по Бульварному кольцу от Покровских ворот до Арбата, вторая – по Садовым улицам от Сухаревой башни до Смоленской площади, третья – как бы соединяла Бутырскую, Тверскую и Дорогомиловскую заставы. Много их было также в Замоскворечье, в Лефортове и Хамовниках, на Арбате и Пресне, Пречистенке и Мясницкой, Лесной и Долгоруковской улицах.
Поначалу баррикады оставались без защитников, и значение их было, скорее, моральное. Вместе с тем они разрезали город на множество мелких участков и не давали возможности войскам маневрировать. В результате в Москве появилось немало своеобразных небольших «оазисов», где восставшие чувствовали себя полными хозяевами и куда в течение нескольких дней не смели показаться правительственные отряды, действовавшие поначалу довольно робко и как бы наобум. У наблюдателя могло сложиться впечатление, что власть в городе вот-вот окончательно перейдет в руки восставших. В их среде господствовали самые радостные настроения. По словам того же Зензинова, «в первые дни впечатление от неожиданного, сказочного успеха… было опьяняющее. Москва – сердце России, оплот реакции и самодержавия, царство черной сотни – покрыта баррикадами, и эти баррикады держатся против регулярных войск с артиллерией и пулеметами!»
Огромную роль в этом успехе сыграла тактика партизанских действий, которой придерживались революционеры. Перемещаясь мелкими группами, обстреливая солдат из окон и подворотен, дружинники не вступали с ними в открытый бой, а старались рассеяться после коротких и внезапных нападений. Разрушавшиеся баррикады постоянно возводились заново. В таких условиях правительственные силы находились в постоянном напряжении, необычайно выматывавшем их силы.
Настоящую охоту революционеры открыли на полицейских. Дошло до того, что возле городовых, дежуривших в центре Москвы, власти вынуждены были выставлять армейские караулы. Зачастую, не имея перед глазами противника и неся потери от непонятно откуда летевших пуль, войска открывали беспорядочную стрельбу из пулеметов и пушек во все стороны. «Боевики» при этом страдали гораздо меньше, чем простые московские обыватели, которых любопытство и всеобщее возбуждение толкали на улицы. «Картечь и шрапнель летели в густые массы, в толпы любопытных, пулеметы стреляли вдоль улиц и веером обстреливали сверху город, – писал Зензинов. – Интересно было поведение публики: несмотря на стрельбу и раненых, толпы народа весь день собираются на тротуарах, на углах и за углами улиц и везде, где было какое-либо подобие прикрытия.
…Все смотрели на происходящее как на какой-то народный праздник. Как будто по всем улицам города летал какой-то веселый, шаловливый, задорный дух бунта. Вот, между прочим, почему в эти и особенно в позднейшие дни пострадали на московских улицах главным образом совершенно случайные люди: выбегавшие на угол посмотреть кухарки и горничные и вообще любопытные. Можно было отметить странную особенность этих дней – даже тогда, когда кровь уже пролилась – это какое-то детское задорное веселье, разлитое в воздухе: казалось, население ведет с властями какую-то веселую кровавую игру…» Но постепенно настроение обывателей менялось: льющаяся кровь была устрашающе реальной, а противоборствующие стороны все больше втягивались в процесс взаимного истребления, что не могло не действовать на москвичей отрезвляюще.
Подавление
В течение трех дней, 11—13 декабря, по всему городу продолжались ожесточенные столкновения. 12-го числа Дубасов сообщал в Петербург: «Положение становится очень серьезным, кольцо баррикад охватывает город все теснее, войск становится явно недостаточно». Московские власти пошли на жесткие меры. Был введен комендантский час (с 9 вечера и до 7 утра), отключены все частные телефонные линии. Войска получили приказ открывать огонь по группам более трех человек и по домам, из окон которых велась стрельба. Наконец, под угрозой конфискации домовладельцев обязали постоянно держать закрытыми все двери и ворота, ведущие на улицу. По словам московского губернатора В.Ф. Джунковского, эта мера «возымела действие»: «Домовладельцы уже без войск, собственными силами стали разбирать баррикады и ставить ворота на свои места, а три дня назад эти же домовладельцы, управляющие домами и другие из трусости и малодушия, быть может, помогали революционерам и тащили сами свои ворота на баррикады».