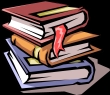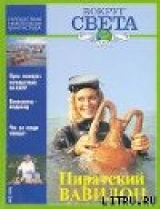
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №2 за 1996 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
...Как полагают, Птолемей в своей «Географии» называет Аргирой, Серебряной землей, Аракан. В этой связи вспоминается, говорит профессор, быть может, не совсем к месту, следующее обстоятельство. Когда вечером, при лунном свете, купаешься у араканского побережья, в Нгапали, возникает ощущение, что ты плещешься в жидком серебре. Стоит провести рукой по воде – и она отливает серебром. Говорят, что это серебрится мельчайший планктон, которым изобилуют воды Бенгальского залива. Не исключено также, что в воде растворено какое-то светящееся вещество. Небольшая территория Аракана, равная 13 тысячам квадратных миль, продолжает профессор, представляет собой горную цепь, отделяющую его от собственно Бирмы, и узкую, но очень плодородную прибрежную равнину, пересеченную множеством рек и ручьев. В их заболоченных устьях растут мангровые леса. Естественным рубежом между Араканом и Бенгалией служит река Нааф. Араканское население – это смесь монголоидной и европеоидной рас. Сейчас араканцев во всей Бирме около 2 миллионов. Две тысячи лет назад тибето-бирманские племена пришли сюда из степей северо-западного Китая и нагорий Тибета. Индоевропейцы, по всей видимости, появились здесь еще раньше, пересилившись из глубин Индостана. Согласно араканским хроникам, Даньявади – первое государство на земле Аракана – возникло более пяти тысячи лет назад. Сведения эти ученые считают легендой. В начале нашей эры тут процветало государство Вейшали. Впрочем, нас столь седая древность в данном случае особо не интересует.
Перенесемся ко временам «Хожения» Афанасия Никитина, в XV век. В 1430 году была основана новая столица Аракана – Мраук-У. Аракан, или Ракхапура, становится сильным, процветающим государством, которое контролирует тысячемильный морской путь от устья Ганга на западе до устья самой протяженной реки Бирмы – Салуина, впадающей в Мартабанский залив, – на востоке. По свидетельствам путешественников, в XV – XVII веках Мраук-У, одна из немногих гаваней на восточном побережье Бенгальского залива, расположенная на торговом пути между Индией и островами пряностей, был сопоставим по своим размерам и влиянию с Амстердамом и Лондоном того времени. В нем проживало более 100 тысяч жителей. Вот и в «Хожении» сообщается, что «Шабатская пристань на индийском море очень большая».
Араканцы – прирожденные мореходы. Сохранились сведения о том, что один из королей лично, во главе своего флота нанес, выражаясь современным языком, официальный дружественный визит на Цейлон. И сейчас основное занятие жителей Аракана связано с морем, с рыболовством. На утлых суденышках, под парусом, рыбаки выходят в открытое море.
Королевство бронзового Будды
Ключевой фразой в отрывке о Шабате можно считать следующую: они, то есть жители Шабата, не евреи, не бесермены (мусульмане), не христиане, иная у них вера, индийская. Что же эта за вера индийская? Индуизм? Нет, потому что ранее приверженцев этой религии Никитин называет индеянами-индусами. Определенно, речь идет о буддизме, который в те годы практически исчез в Индостане, поглощенный индуизмом. Зато распространился в Юго-Восточной Азии. И Аракан на протяжении всей своей обозримой истории являлся буддийским. По преданию, сам Будда Гаутама посетил Аракан в VI в. до н.э. в сопровождении 500 монахов по приглашению легендарного короля Сандатурия – повелителя Луны и Солнца. По повелению последнего была отлита гигантская бронзовая скульптура Будды. Работая, мастера могли сличать изваяние с подлинником. Будда вдохнул святость в изображение своими устами. Недаром бронзовая фигура получила имя Маха Муни, что означает Великий Святой.
Считается, что в мире есть всего два прижизненных изображения Будды Гаутамы. Одно – это Маха Муни, а другое – сандаловый Будда Жанданзуу, который сейчас хранится в Бурятии. Мне посчастливилось видеть обе святыни. Маха Муни в настоящее время в Аракане нет. Бирманцы, завоевав Араканское королевство, в 1784 году вывезли из Мраук-У гигантскую статую в свою тогдашнюю столицу Амарапуру. Затем столица была перенесена в Мандалай, куда переместилась и святыня. В Мандалае я ее и увидел. Перед Маха Муни молились десятки, если не сотни людей, благоговейно сложив руки и беспрерывно касаясь лбами земли. Пожалуй, это единственное место в Бирме, где ощущается настоящий религиозный экстаз. Молящиеся все время наклеивают на бронзовый образ листочки сусального золота. В результате Маха Муни оказался укутанным в золотой кокон весом более тонны. Его корона украшена драгоценными камнями самой высокой пробы: рубинами, сапфирами, изумрудами, нефритами и алмазами. Сверху над статуей мерцает покрытый золотом потолок. На его золочение ушло более 30 килограммов золота. Маха Муни был жемчужиной Мраук-У, араканской столицы.
Общее же число находившихся на территории Аракана статуй Будды, пагод и храмов просто не поддается исчислению. Многие из них сохранились до наших дней, как уже упоминавшиеся три пагоды Сандовея или же огромная Пагода восьмидесяти тысяч изображений Будды в Мрохаунге – Старом городе – так теперь называется городище средневекового Мраук-У. Представьте только, что в одной-единственной пагоде насчитывается 80 тысяч Будд! Во многих местах Аракана ведут археологические раскопки, приносящие все новые и новые ценнейшие находки. По преданию, считается, что в Аракане всего было построено 6.352.755 пагод, ступ и храмов. Так что без работы археологи не останутся. Многого уже никогда не найти. До сегодняшнего дня в Аракане сохранился обычай проводить праздники песчаных пагод. Каждый человек, даже самый бедный, может сделать доброе дело, улучшить свою карму, возведя пагодку из песка. Пусть даже она простоит всего несколько дней. Песок осыплется, но Книга судеб все равно пополнится положительной записью.
Араканское королевство располагалось на стыке различных культурных и религиозных традиций и испытывало их влияние. На востоке находился родственный буддийский Пегу, на западе -мусульманская Бенгалия, в Индостане процветал индуизм. Самыми могущественными правителями региона в то время были Великие Моголы, мусульмане по вероисповеданию. Араканские короли, чтобы стоять вровень с Моголами и бенгальскими султанами, помимо буддийских, принимали исламские титулы… Так, один из самых славных королей, покоривший в 1459 году Читтагонг, Басопью, имел и другой титул – Калима-шах. Придворный церемониал также копировал многие черты торжественных ритуалов, которым следовали султаны. Сами араканцы были истинными буддистами, но в стране жило немало и мусульман, выходцев из Бенгалии и других государств, строились мечети. Все эти обстоятельства вводили в заблуждение путешественников и купцов.
Сандаловый дворец
Порты Мраук-У, Сандовея и других городов Араканского побережья посещали корабли из арабских княжеств, индийских государств, Камбоджи, Сиама, с Явы, Цейлона и Мальдив. Некоторые купцы, искатели счастья, оседали в богатом краю надолго. В королевской гвардии служили иностранные наемники. Особое место среди них занимали выходцы из Персии, в частности, из персидского города Хорасана. Они были не только торговцами, но и занимали важные должности при дворе короля. И Афанасий Никитин сообщает о том, что в Шабате хорасанцам платят жалованье и они женятся на местных девушках. Совпадение полное. Более того, в Аракане значительное распространение получил персидский язык – международный язык того времени. На нем в Мраук-У публиковались важные указы, персидский использовался при контактах с другими государствами. В самой Бирме еще в начале прошлого века вся переписка с англичанами велась на персидском. Каждый из 49 королей последней араканской династии чеканил новую монету. Когда я впервые увидел подобные монеты в Национальном музее в Рангуне, то сначала подумал, что они привозные: из какого-нибудь княжества Персидского залива. Мне объяснили, что монеты самые что ни на есть араканские. Только на них принято было указывать имя правителя на персидском.
Теперь перейдем к «произведениям земли» Шабата, указанным в «Хожении». Неоднократно повторяется, что здесь родится «шелк, да сандал, да жемчуг, да сахар – и все дешево». Аракан всегда славился своими шелковыми тканями. И сейчас в Бирме самые популярные шелковые юбки – лоунчжи, мужские и женские, – из Аракана. Они так и называются – араканские лоунчжи. Живя в Бирме, я сам их носил и могу засвидетельствовать добротность материала. На память я захватил одну араканскую юбку в Москву и иногда надеваю ее летом дома. Очень удобная вещь.
Католический миссионер падре Фрей-Себастьян Манрик, побывавший в Аракане в начале XVII века и посетивший королевский дворец, сообщает, что дворцовые покои были построены из сандалового дерева, причем использовались три вида благоухающей древесины: белый сандал, красный сандал и особый его вид – караме. Священник был поражен густым ароматом благородного дерева, который наполнял дворец.
Теплые воды Бенгальского залива богаты жемчугом. Рядом с Нгапали, неподалеку от берега есть небольшой живописный остров, буйно поросший пальмами. Я хотел сплавать туда, но мне отсоветовали. Оказывается, на острове действует хозяйство по разведению моллюсков для получения жемчуга. Посторонним вход воспрещен. Заморские гости дивились в королевских палатах Мраук-У роскошным покрывалам, сплошь расшитым жемчугом. В «Хожении» шабатский жемчуг упоминается дважды. Причем, в одном случае говорится об инчи – скатном жемчуге, отличающемся особым качеством. И в Аракане родится жемчуг самый высокопробный.
Мамоны, обезьяны, слоны и мускусные олени
И наконец рассказ А.Никитина о животном мире Шабата. «Слонам там цену по росту дают, а по ночам в лесах озоруют мамоны (видимо, леопарды или что-нибудь в этом роде – Н.Л.) да обезьяны». Сохранились свидетельства о том, что множество слонов вывозили через араканские порты и продавали на Коромандельском побережье Индии. В торжественных церемониях выезда короля участвовало до 700 слонов – огромное стадо. Ежегодно устраивали скачки на слонах. Эта традиция возрождается сейчас. Благо недостатка в слонах в гористых джунглях пока нет. Даже в наши дни, когда население Аракана увеличилось многократно в сравнении со средними веками, тут не редкость – встретить и леопарда, и обезьяну, и крокодила, и питона. Некоторые текущие сообщения бирманской прессы выглядят просто, как цитаты из «Хожения». Ну, например, читаю информацию о том, что два маленьких леопарда пойманы в одном из районов Аракана прямо около автомобильной дороги (вспомним, и у Никитина, леопарды досаждают людям на дорогах). Вот сообщение о поимке около араканской деревни, правда, не зверя, а почти пятиметрового питона в момент, когда он охотился на оленя. А вот страшная новость. В районе Мраук-У(!) объявился крокодил-людоед. Прежде чем его застрелили солдаты, он успел съесть более 20 человек. Зубастое чудовище было свыше шести метров в длину и даже имело кличку – Белая Пасть.
Последний факт, сообщаемый А. Никитиным о Шабатской пристани, касается мускусных оленей, Индолог Минаев полагал, что нет никакой необходимости считать эту подробность относящейся к Шабату. Но, с другой стороны, нет никаких веских оснований не считать так. Тем более, что и это лыко нам в строку. В лесистых горах Аракана и в соседних районах водятся многие виды оленей, в том числе и кабарга. Как помним, филолог Срезневский искал Шабат на острове Шабазпур у устья Ганга. Делал он это на том основании, что там водятся мускусные олени. Но ведь эта область как раз и находилась под контролем Аракана. Знаток средневекового Араканского королевства английский историк М. Коллис в своем труде «Золотой Мраук-У» пишет, что здесь в большом количестве продавался, наряду с пряностями, и мускус.
Итак, все сведения о Шабате, приведенные в «Хожении», вплоть до мелочей, совпадают с реалиями Аракана или близки к ним. Остановимся немного на характеристиках мистического Шабата и вполне реального Аракана, их географических координатах. Перечисляя гавани «индийского моря» с запада на восток, Никитин упоминает Шабатскую пристань ранее Пегу: «от Шабата до Певгу 20 дни». Он сообщает далее, что «Шабат от Бидара (столица Бахманидского султаната) в трех месяцах пути; от Дабхала (главный порт Бахманидского султаната, в 136 км от Бомбея), до Шабата «2 месяца морем итти», что соответствует другому его указанию: «От Силяна (Китая) до Шаибата месяц итти...» Поэтому, думается, нет оснований искать Шабат в Индокитае или же на индонезийских островах, как это делали некоторые исследователи. Мусульманская Бенгалия, как кандидат на место загадочной страны, также отпадает. Истина, как всегда, лежит посередине: между Бенгалией на западе и Чамбой на востоке, то есть в Аракане. Аракан занимал положение на стыке культур, религий и рас и оставался в силу этого за пределами внимания и индологов, и китаеведов.
Джамбу – остров к югу от горы Меру
Но почему же все-таки Шабат, называемый также в различных русских летописных списках Шаибат, Шабатское и Шабаитьское пристанище, Шибаит, Сибат и Шабот? Откуда эти названия и как их увязать, чуть было не написал – навязать Аракану и Мраук-У? Сходства-то звукового нет никакого. Навязывать, притягивать за уши доказательства в данном случае не требуется. Предлагаем, как нам кажется, вполне обоснованную гипотезу. Вытекает она из буддийской космологии. В буддийских священных текстах говорится, что в центре Вселенной находится гора Меру. Ее окружают четыре острова. Только на одном из них, южном, обитают люди. Называется этот остров Джамбу, Джамбудвипа. Представления буддизма о строении мира уходят корнями в ведическую древность, в брахманизм. Наследник брахманизма – индуизм, учит, что Джамбу – это название сказочной реки, стекающей с горы Меру. Вместо воды в ней течет сок плодов растущего вокруг горы дерева с таким же названием – джамбу. Иногда под рекой Джамбу подразумевался Ганг.
Тут уместно возвратиться к версии гебраиста И. Маркона об отождествлении Шабата с легендарной рекой Шамбатион, где жили потомки Моисея. Но если Шамбатион-Джамбу – это Ганг, то опять все сходится. Влияние Аракана простиралось во второй половине XV века вплоть до устья Ганга. Кроме того, в Мраук-У была большая колония иностранцев и среди них наверняка находились и иудеи. Во всяком случае, в нынешнем Рангуне на 26-й улице есть синагога, и некоторые из ее прихожан (честно говоря, с раскосыми глазами, сильно смахивающих на каренов и качинов) говорили мне, что их предки поселились на территории Бирмы несколько столетий назад.
Любопытна и еще одна деталь. Считалось в свое время, что одна из крупных народностей Бирмы – карены – потомки одного из исчезнувших колен Израилевых. Так, к примеру, думали первые христианские миссионеры, попавшие в эту страну. По всей видимости, потому, что у каренов-буддистов очень напряженные ожидания пришествия грядущего Будды Майтрейи, своего рода Мессии – и конца света. У иудаистов, как известно, также сильны упования на Мессию. (И наконец, уже в наши дни в иудаизм обратились несколько племен народа мизо, родственного качинам и каренам. Обратившись же, тут же вывели свой род прямо из Земли Обетованной.) По всей видимости, через купцов-евреев дошли обрывки подобных известий и до А. Никитина. Но круг его общения был широк, и он, сопоставив все полученные данные, счел нужным опровергнуть рассказы евреев о том, что жители Шабата их веры. Однако нельзя согласиться с утверждением И. Маркона о том, что Шабат – не реальная страна.
Шабат – Джамбу – Аракан
Подводя итоги, скажу, что автор этих строк убежден: Шабат, Аракан и Джамбу полностью совпадают. Думаю, что звуковое сходство слов «Шабат» – «Шамбат» и «Джамбу» ни у кого сомнений не вызывает. Особенно, если принять во внимание специфику произношения в различных языках. По-бирмански, как и по-аракански, Джамбу произносится как Зэбу. От купцов Афанасий Никитин вполне мог услышать и Жамбу, и Чамбут, и Шамбот.
Буддисты и индуисты именем Джамбу называют любой остров, населенный людьми, но также и любую собственную страну, где процветает буддизм или индуизм. У всех народов есть такая слабость: считать себя пупом Земли. Араканцы тут не исключение. В их легендах, опирающихся на буддийскую литературу, говорится, что араканцы происходят от ракшасов, древнего племени то ли людей, то ли чудовищ-великанов, обитавших у южного подножия священной горы Меру. Путешественники, побывавшие в араканской столице, оставили свидетельства о том, что во второй половине XV века там были построены два деревянных резных дворца с названием «Дворцы горы Меру»: один, северный, – для заседаний королевского совета, а другой, южный, для проведения буддийских соборов высшего духовенства. Так, в символической форме отражались претензии королевской и духовной властей на лидерство в буддийском и вообще окружающем мире. В книгах на бирманском языке, изданных в Рангуне, «Аракан» и «Старые столицы Аракана» среди прочих деталей, раскрывающих историю и культуру араканцев, помещена даже колыбельная песня. Написана она во второй половине интересующего нас XV века придворным поэтом короля Басопью-Калима-шаха Пхадуминнью для принцесс. Сперва я даже хотел пропустить это место в книге – что может сообщить колыбельная? Но стоило мне бросить взгляд на текст, как я буквально впился в него. И немудрено. В колыбельной король Аракана, Ракхайна, прямо назван повелителем острова Джамбу! Так и написано: народ – араканцы, райкхайны, а страна их – Джамбу. Если уж в колыбельной между Араканом и Джамбу ставится знак равенства, то, по-моему, все становится ясно.
Приведенные доказательства, думается, надежно приковывают Шабат к Аракану-Джамбу. Немного даже стало грустно: одной загадкой меньше. Но стоит ли унывать? В местном историческом журнале опубликован отчет о работе археологической экспедиции в Аракане. В окрестностях Мрохауна, на островах Рашри и Манаун (Чедуба), расчищены средневековые городища с сотнями разной степени сохранности буддийских храмов и пагод. Найдены новые каменные плиты с письменами на древних языках – санскрите и пали, бронзовые колокольцы, подсвечники, масляные плошки, другие культовые предметы, испещренные надписями с использованием алфавитов брахми и деванагари. Познавать тайны араканской буддийской цивилизации еще только предстоит.
Николай Листопадов, кандидат исторических наук | Фото автора
Сандовей —Рангун
Загадки, гипотезы, открытия: Как стать бабочкой

Болъшинство ученых убеждено, что только строго научные исследования позволят нам до конца выяснить загадку существования живого. Эта разновидность веры достойна удивления столь же, сколь и мнение огромного числа дилетантов, полагающих, будто эту загадку можно разгадать, лишь проникнув в иное, трансцендентальное пространство.
Однако и наука, хоть ученые не признаются в этом, уже во многих точках добралась до границы, из-за которой явно проглядывает действительность ненаучная. Я попытаюсь показать это на примерах.
Кто обучает пауков?
Инстинктивное поведение животных, до сих пор не объясненное биологами, – ключ (возможно, не единственный) к тому нематериальному пространству, в котором берут начало все явления природы. Мы убедимся в этом, проследив за пауками и птицами, связанными одинаковой страстью к ткачеству.
Птица ткач – африканская разновидность зяблика; от Восточного Конго до южноафриканских саванн встречаются поселения этих пернатых. Словно экзотические плоды, висят на деревьях десятки шарообразных гнезд, сплетенных из травы и других гибких волокон. Гнездо, занятое парой взрослых птиц и несколькими подрастающими птенцами, уже имеет приличный вес. К тому же оно набухает от дождей и раскачивается ветрами. Чтобы постройка в конце концов не рухнула, ткачи дополнительно прикрепляют ее к ветке крепким волосом животных, чаще всего взятым из хвоста зебры или антилопы гну. При этом птица клювом завязывает волос особым, всегда одинаковым, узлом.
Известный любитель-природовед Эжен Марэ, живший в начале века в тогдашнем Трансваале и обладавший невероятным даром мгновенной наблюдательности, заметил, что юные пары ткачей, строя новые гнезда, не берут пример со своих старших товарищей по колонии. Тогда он задал себе вопрос: кто и как их обучает? Ведь при строительстве гнезд птицы всегда придерживаются одного и того же плана.
Начал месье Эжен с того, что исключил фактор обучения. Для этого он вынул из гнезда несколько яичек ткачей и подложил их на высиживание канарейкам, жившим в его просторном бунгало. Когда юные ткачики проклюнулись и выросли, он не выпустил их на свободу, а перенес из канареечных клеток в «персональные», где они соединились в пары и, не имея доступа к каким-либо материалам, пригодным для плетения гнезда, снесли яйца прямо на пол клетки. Яйца у них снова отобрали и опять передали на высиживание канарейкам, и так далее. Таким образом четыре поколения ткачей были лишены не только контакта со старшим поколением и природной средой, но даже вскормлены искусственной пищей.
Марэ решил, что если четвертое поколение ткачей ухитрится построить такие же гнезда, как и неведомые им пращуры, это будет доказательством того, что таковые способности обретены иным путем, нежели наблюдение, пример и обучение.
Он подбросил в клетки горсточки травы, тонкие веточки, волокна и увидел, что ткачи тут же взялись за работу. Вскоре птицы сплели висячие гнезда, ничем не отличающиеся от гнезд, построенных в буше их вольными предками. При этом они не хуже пра-пра-прадедов знали, зачем нужен оказавшийся в клетке конский волос. Они отнюдь не вплели его в стенку гнезда! Оставленный на потом, он был использован для прикрепления постройки к верхнему пруту клетки и завязан «фирменным» узлом!
Из своего эксперимента Марэ сделал вывод, что умение строить гнезда должно быть наследственным. В те времена идея генов только зарождалась, а относительно механизма наследственности практически ничего не было известно. Ясно было одно: наследуемая информация должна пройти через фильтр яйца. В опыте Марэ это произошло трижды. Что же является носителем информации в яйцеклетке или сперматозоиде?
Сегодня мы точно знаем, что единственный носитель информации, передаваемой новому поколению, – нить ДНК с зашифрованной генной записью.
Однако попытка представить себе механизм записи-зашифровки формы гнезда, а затем прочтения шифра и замены его на движение клюва птицы наталкивается на такие трудности биологического и информационного характера, что они делают такой способ передачи невозможным.
Работа автоматического станка с числовым управлением, вырезающего совершенно одинаковые металлические профили всегда одним и тем же способом, – вершина простоты по сравнению с задачей, стоящей перед ткачем. Всякий раз иные – и дерево, и ветка, и материал для строительства гнезда; работа то и дело прерывается; многочисленные повреждения исправляются на ходу...
Не вдаваясь в дальнейшие детали, скажу: передачу инструкции построения гнезда генетическим путем приходится полностью исключить.
Что же остается? Что управляет молодой птицей, дабы она могла вести себя в точности так же, как это делали поколения ее предшественниц? Биолог скажет – инстинкт. Хорошо, пусть инстинкт. Но кто знает, что скрывается под этим словом?
И тут мы вступаем в «ненаучное» пространство, не поддающееся исследованию физико-химическими методами. Нам наверняка не удастся объяснить, что такое инстинкт, до тех пор, пока мы не примем гипотезы существования субтильных (тонких, идеальных) образцов форм и поведения, всюду присутствующих в пространстве и вступающих в своеобразный резонанс с живыми существами.
К точно таким же выводам ведет и анализ поведения пауков, ткущих свои сети. У большинства видов молодые паучки, покинув яйцо, больше не сталкиваются с родителями. Вообще не знают их. Более того, по мере сил избегают контактов со взрослыми пауками, чтобы не окончить свою младую жизнь в их желудках. Они вырастают в одиночестве, не пользуясь ничьим примером, и все же, достигнув определенного возраста, принимаются за ткачество, прекрасно зная, как это делать, хотя, возможно, до того вообще ни разу в жизни не видели паутины. Они, не колеблясь, изготовляют сети в соответствии с извечными образцами, причем сразу в окончательном виде. Вдобавок, в отличие от птиц, они не могут охватить свое произведение взглядом по той простой причине, что работают в плоскости сети!
Приступая к работе, паук прикрепляет нитку к стволу дерева. Выделяя нить паутины расположенными в брюшке железками, он переходит на соседнее дерево, на ту же высоту, после чего, подтягивая к себе, натягивает эту нить, более толстую, нежели другие, так как к ней будет подвешиваться вся паутина. Теперь с обоих ее концов он опускает нити, достигающие земли, затем соединяет их на определенной высоте так, чтобы они образовали букву «Y». Точка, в которой сходятся три плеча, будет центром паутины. Следующее действие – выведение радиусов. Они расходятся из центра под одинаковыми углами. Радиусы-лучи соединяются спиралью. Паук перемещается от центра по часовой стрелке и кратчайшим путем переходит от луча к лучу. Получающаяся логарифмическая спираль пересекает лучи всегда под постоянным углом.
Сети различных видов пауков ткутся по особым, характерным для данного вида планам. Очередность действий точно определена. Чтобы возвести конструкцию, необходимо проделать ряд измерений: углов, расстояний, натяжения нитей, их изменяющейся толщины. Исследователи в один голос утверждают, что спиральную структуру сети можно объяснить исключительно внутренними причинами, ибо в окружающем пространстве не обнаружено ничего, что могло бы заставить паука располагать радиальные и спиральные нити именно так, как он это делает.
Это означает, что у пауков как бы существует некоторое представление целого, образ сети и план строительства, расписанный на последовательные этапы. А также действует какой-то фактор, который контролирует ход работы: что уже сделано и что еще предстоит сделать. Такого «пакета» информации не может передать яйцо. Мы уже показали на примере зябликов-ткачей, что гены птицы не в состоянии передавать такого рода запись из поколения в поколение.
Трудности исчезают, если признать, что пауком руководит «резонирующий» с его нервной системой нематериальный образец, общий для всего вида. Характерным указанием на это может служить опыт, проделанный энтомологом П.Н. Уиттом, который изучал влияние ядов и нейротропных веществ на поведение пауков, строящих сети. Оказалось, что под действием этих веществ паук строил сеть абсолютно правильную, почти идеальную.
Уитт сделал вывод, что в конструкции сети есть основной элемент, который свойственен инстинктивному поведению, но подвергается искажениям либо под воздействием внешних факторов, либо из-за несовершенства самого организма паука.
Ну конечно же! Основной элемент и есть наш гипотетический субтильный образец. А нейротропное вещество облегчает пауку более глубокое слияние с ним, более полный резонанс.
Увы, большинство биологов все еще не теряет надежду на то, что модель паутины отыщется в яйце!
Амебы строят башню
Амебы – это одноклеточные существа, едва различимые невооруженным глазом; самые большие из них не превышают 0,6 миллиметра в диаметре. Эти капельки цитоплазмы, заключенной в клеточную пленку, перемещаются, медленно ползая по дну водоемов и влажной лесной почве. Поглощают бактерии и каждые 3-4 часа делятся. Такова жизнь вида Dictyostelium discodeum. Невозможно даже представить, что амеба в состоянии совершить нечто большее. И вообще что-либо из того, что человеку удалось лишь после миллиардов лет медленного развития многоклеточного организма и четырех миллионов лет столь же упорного создания мозга homo sapiens! Тем не менее, это так.
Если на каком-то участке возникает нехватка пищи, голодающие амебы, до того свободно разбросанные по всей его площади, начинают выделять химически сигнал, который доходит до остальных особей и заставляет их собираться в центральной точке. Спустя некоторое время сорок-шестьдесят тысяч одноклеточных создают общее тело, именуемое грексом. Подобно голой улитке, уже как единый организм, этот грекс продолжает перемещаться со скоростью один миллиметр в час.
И тут-то начинаются вещи невероятные. Отдельные амебы «запоминают» очередность своего прибытия на сборный пункт, хотя у них нет органов памяти. Те, что первыми оказались в «голове», и ведут общество, «знают» о своей роли проводников. Если их переместить в хвост, они за короткое время вновь возвращаются во главу колонны.
Ежели переход грекса в поисках питательных бактерий не дает результатов, амебы изменяют поведение. Явно не обладая ни зрением, ни речью, ни способностью мыслить, сознавать собственное существование и положение в пространстве, они, тем не менее, начинают вести себя так, словно все это у них есть.
Ради достижения столь далекой и абстрактной цели, как выживание хотя бы одной особи, простейшие приступают к созданию непростой инженерной конструкции в виде шаровой капсулы на высокой башне. Такая конструкция, в принципе, природе известна: нечто похожее представляет собою, например, головка зрелого мака на длинном стебле.
Строительство требует от амеб четкого разграничения задач и специализации клеток. Однако не видно, чтобы кто-нибудь отдавал им распоряжения. Те амебы, которые последними прибыли на место сбора, образуют из своих тел дискообразное основание. Из его середины вырастает стебель, создаваемый теми, что прибыли первыми. По ним взбираются следующие в очереди, и именно они формируют из себя шарообразную капсулу.
Часть амеб размещается в получившейся камере наподобие пассажиров в необычном экипаже. Здесь они преображаются, превращаясь в споры. Сжимаются, обезвоживаются, окружают себя плотной кожурой, затормаживают метаболизм и наконец становятся семенами, вроде маковых зернышек.
Амебы, образовавшие конструкцию, сами обрекли себя на вымирание. Лишенные пищи, они вскоре погибнут. Спустя некоторое время капсула распадется, споры рассыплятся, и, если поможет ветер, у них появится шанс попасть на влажную почву. Тогда они оживут, снова станут амебами, начнут питаться и делиться. Популяция восстановится.
А теперь, чтобы лучше понять, в чем суть того, что совершили амебы, взглянем на них с нашей, человеческой, колокольни. Представим себе, что в некой далекой стране, в день рождения Обожаемого Вождя, десять тысяч его верноподданных бегают по стадиону, держа в руках разноцветные шапочки. Неожиданно они останавливаются, напяливают шапочки на головы, и пред очами восторженных зрителей расцветает точный портрет вождя, сложенный из разноцветных пятнышек.