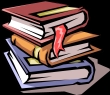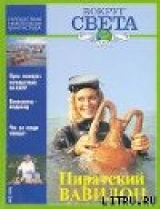
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №2 за 1996 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Загадки, гипотезы, открытия: Пиратский Вавилон
Был июньский день 1692 года. Солнце над Ямайкой приближалось к зениту, и город Порт-Ройал, расположенный на песчаной косе, тонул в потоках вязкого зноя. Небо было безоблачным, а Карибское море – гладким, как зеркало. Но эта духота! Она тревожила горожан: именно в такую жаркую и безветренную погоду почти каждый год отмечались подземные толчки. Впрочем, жители привыкли к ним, и, казалось, ничто не могло нарушить обычный ритм их жизни.
...В гавани лениво покачивались корабли с убранными парусами, некоторые стояли в доках под разгрузкой. Место для кренгования судов занимал фрегат «Сван»; экипаж неохотно скоблил его заросшие ракушками и водорослями борта.
...Вдоль грязной улицы Темзы, держась тени, прохаживались матросы; за кирпичными, покрытыми штукатуркой стенами домов вяло двигались слуги, готовившие полуденную трапезу. На кухне Джеймса Литтлетона, жившего за Форт-Джеймсом, варились в медном котле аппетитные куски говядины и черепашьего мяса.
...Вдоль причала Хамфрея Фримена прогуливался состоятельный горожанин. Он достал свои искусно отделанные и покрытые кожей латунные часы, стрелки показывали почти без четверти двенадцать. Горожанин уже хотел повернуть домой, как вдруг, на какой-то миг, ему показалось, что все вокруг замерло. Затем деревья согнулись от ураганного ветра, хлынул проливной дождь, и море, вспенившись, обрушилось на берег. Земля вздрогнула, деревянный причал закачался. С гор донесся глухой рокочущий шум, похожий на отдаленный гром. За первым подземным толчком сразу последовали второй и третий. В течение нескольких секунд вся береговая черта оказалась под водой. Прочные Форт-Джеймс и Форт-Карлисл пропали, будто их никогда и не было, а волны все еще продолжали накатывать на уцелевшую часть города.
Глубокие трещины, расколовшие землю, жадно поглощали здания и охваченных паникой людей. Вот как описывал эту трагедию один из уцелевших жителей Порт-Ройала: «Несколько судов и шлюпок в гавани перевернулось и утонуло. Среди оставшихся фрегат «Сван»... был заброшен на крыши домов... Он не перевернулся и тем самым помог нескольким сотням людей спасти свои жизни». Через несколько минут все было кончено. Море поглотило две трети города и унесло с собой около двух тысяч человек. К заходу солнца более 1800 домов скрылись в водах Карибского моря, а то, что осталось над водой, представляло собой всего лишь кусок суши в десять акров площадью, похожий на песчаную банку.
Прошло почти три века, и вот в 1953 году судно «Си Дайвер» направилось к городу Порт-Ройал. Построенное специально для проведения подводных археологических исследований, оно было сконструировано руководителем экспедиции Эдвином А.Линком, известным изобретателем авиационных и электронных приборов, и полностью отвечало требованиям, предъявляемым к подобным кораблям.
Судно для подводных археологических работ «Си Дайвер» принимает на борт находки, поднятые с морского дна на месте затонувшего Порт-Ройала. удачные дни «улов» экспедиции исчислялся десятками предметов, бесценных для археологов.
Специальная камера, в которой находилось все водолазное оборудование, размещалась в корме судна. На палубе стояли тяжелые стрелы и электрические лебедки для подъема пушек и других больших предметов со дна моря, а на кормовой палубе – катер «Риф Дайвер» с водореактивным двигателем.
Одновременно с постройкой «Си Дайвер», потребовавшей около двух лет напряженного труда, составлялась карта старого Порт-Ройала, что также оказалось огромной проблемой. Единственная карта, которую удалось найти в архиве, была составлена в 1827 году правительственным топографом Филиппом Моррисом. На ней были изображены границы старого города, а также участок суши, оставшийся после землетрясения. Беда заключалась в том, что объекты на карте не совпадали с сохранившимися наземными ориентирами. Позднее в Британском музее была обнаружена еще одна карта, составленная тоже после землетрясения, но более соответствующая сегодняшней топографии. С помощью этих карт и результатов обследований района, полученных от правительства Ямайки, Линк сумел установить расположение улиц и зданий города, находящихся под водой.
Наконец все было готово к экспедиции. Каждый ее участник полностью осознавал важность предстоящих исследований. Затонувший Порт-Ройал давно привлекал внимание археологов. В отличие от городов, расположенных на суше и постоянно меняющих свой облик, он остался точно таким же, каким был более двух с половиной веков назад, в момент землетрясения. И все, найденное среди руин, могло правдиво рассказать о жизни того времени. А рассказать было о чем.
Вероятно, уже около 1300 года клочок суши, позднее получивший название Порт-Ройал-кей («кей» – коралловый риф или песчаная отмель), использовали рыбаки-араваки, коренные жители Ямайки. После захвата острова англичанами в 1655 году здесь вырос город. Сопротивление испанцев, также претендовавших на эти земли, прекратилось, когда в 1658 году предводитель обитавших в зарослях беглых рабов-маронов Хуан де Болас уступил власть полковнику Д`Ойли, первому гражданскому губернатору Ямайки. В том же году коммодор Мингс, стоявший во главе обосновавшихся в Порт-Ройале пиратов, взял штурмом Кампече в Мексике, а также ряд городов в Венесуэле. Свезя награбленное добро в свое ямайское убежище, он создал прецедент, который вдохновил на подобные «подвиги» многих.
Один из приезжих с острова Барбадос писал, что население процветавшего Порт-Ройала в те годы достигало восьми тысяч человек, одну половину которых составляли выходцы из Африки, а вторую – переселенцы из Азии и Европы (преимущественно англичане). В городе насчитывалось около двух тысяч кирпичных, каменных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по четыре этажа и ценой не уступали домам на Мэйфер в Лондоне. Приезжий обратил также внимание на обилие укреплений и церквей, глубоководную гавань со множеством причалов, четыре рынка, синагогу, католическую часовню, молитвенный дом квакеров, королевские пакгаузы, обширные складские помещения, десятки таверн, зверинец, военные плацы и мосты.
Порт-Ройал достиг зенита своей славы, став базой для операций Генри Моргана, известного пирата XVII века. Он разграбил многие испанские города на побережье Карибского моря. Порт-Ройал, имея прекрасную гавань и хорошо укрепленный берег, представлял собой идеальное прибежище для пиратской братии. В условиях конкуренции между Англией и Испанией британские власти сознательно поддерживали этих мародеров, главными целями которых являлись испанские корабли и города. Флибустьерский темперамент определял и образ жизни города. Даже после смерти Генри Моргана, когда пиратам в Порт-Ройале уже не оказывали былого гостеприимства, его жители славились как «самые неверующие и развращенные люди». В городе бурно процветали азартные игры, вдоль улиц тянулись таверны, предлагавшие хмельной ром, обильную пищу и женщин легкого поведения.
Большая часть богатств, добытых пиратами, быстро оседала в руках бессовестных городских торговцев. Сейфы и склады были переполнены добычей – золотыми и серебряными слитками, иконами, ювелирными изделиями с драгоценными камнями, роскошными шелками и парчой, дожидавшимися отправки в Англию и на континент в обмен на деньги и разные товары.
После катастрофы 7 июня 1692 года на дне гавани оказалось 13 акров застройки, еще 13 акров смыло цунами. Было потеряно по меньшей мере 50 судов и множество ценностей, включая груз флотилии, затонувшей в 1691 году у банки Педро в 110 милях к югу от Ямайки и разграбленной мародерами из Порт-Ройала.
Большинство выживших остались в Порт-Ройале, иные перебрались на противоположную сторону гавани и обосновались в Кингстоне, который в то время был всего лишь не приметной деревушкой. Тех, кто предпочел остаться, ждала еще одна катастрофа, случившаяся в 1703 году, – город уничтожил пожар. Несколько ураганов, пронесшихся здесь в последующие годы, скрыли остатки города под слоем песка и ила. Впрочем, не навсегда. В XIX веке ныряльщики королевских военно-морских сил, несколько раз совершавшие погружения в районе затонувшего города, убедились в его существовании. И вот Фортуна дала возможность попытать счастья Эдвину Линку...
Первой задачей экспедиции было проведение тщательного обследования участка дна с помощью гидроакустических станций. За это взялся капитан П.Вимс, всемирно известный навигатор. Устанавливая акустическую аппаратуру под соответствующими углами, он фиксировал любое резкое изменение глубины, и результаты промеров тотчас наносились на карту. Так удалось оконтурить ряд фундаментов сооружений. Из них – для начала – выбрали Королевские товарные склады. Они представляли собой комплекс ангаров, где, согласно описям, «под охраной короны» находились ценные товары. Размеры ангаров гарантировали удачу, даже если карта Вимса оказалась бы недостаточно точной. Мощный грунтосос начал медленно вгрызаться в морское дно... Водолазы работали у открытого конца трубы-насадки грунтососа, спасая все появлявшиеся из грунта предметы.
В течение нескольких дней на дне моря на небольшом расстоянии друг от друга были пробиты несколько отверстий. Ни в одном из них не оказалось ни одного предмета, относящего ко времени землетрясения. Не была найдена и стена здания. Подъемник доставлял только грязь, ил и гравий со случайными осколками фарфора и стекла. Что могло случиться с королевскими товарными складами? Ответ оказался прост – археологи начали поиски как раз в пространстве между домами.
После долгих обсуждений и тщательного изучения карты судно «Си Дайвер» было передвинуто на место вблизи восточной стены Форт-Джеймса. И находки посыпались как из рога изобилия. Первым был поднят медный черпак с длинной ручкой. За ним последовали несколько сломанных оловянных ложек, основательно изъеденное коррозией оловянное блюдо и множество зеленовато-черных бутылок XVII века из-под рома, известных благодаря своей форме как «луковичные». Показались и остатки стены. Не было сомнений, что исследователи наткнулись наконец на следы землетрясения. Работа закипела – несмотря на нулевую видимость и множество опасностей, подстерегавших водолазов в мутной воде. На грязном дне таились морские ежи, ядовитые скаты, мурены и скорпены. Часто у поверхности моря мелькали акулы и барракуды. Невидимые в поднятой грунтососом жиже, они были особенно опасны для ныряльщиков.
В конце лета, когда завершились работы, выяснилось, что, как ни удивительно, ни один водолаз не получил никаких серьезных повреждений, лишь порезы, да еще проблемы с ушными перепонками из-за слишком быстрого всплытия с глубины. Находки же исчислялись сотнями. Среди них: кухонное оборудование – котлы с остатками пищи, деревянные подносы для хлеба, оловянные тарелки и ложки, сковородки, медные подсвечники, курительные трубки и бутылки – сотни бутылок. Потрясенный их количеством, Бернард Льюис, директор Института Ямайки, заявил журналистам: «Я уверен, что здесь бутылок XVII века больше, чем в любом другом месте мира. Создается впечатление, что старый Порт-Ройал больше всего времени тратил на пьянство и курение». Дотошный капитан Вимс определил и владельца таверны. На древней карте в этом месте значилось хозяйство, принадлежавшее Джеймсу Литтлетону. Найденные кусочки штукатурки, черепицы и обломки стен позволили определить конструкцию и внешний облик здания.
Однако самой уникальной находкой оказались прекрасно сохранившиеся латунные часы со следами покрытия из кожи. Клеймо мастера-часовщика помогло установить дату их изготовления. Они были сработаны в 1686 году Полем Блонделем, гугенотом-эмигрантом из Чалонса. Время – 17 минут до полудня, установленное благодаря рентгеновским снимкам следов от стрелок, указывало точное время катастрофы.
Приближался сезон ураганов, и «Си Дайвер» должен был перемещаться на более безопасную стоянку у берегов Флориды. Участники экспедиции с сожалением прощались с тайнами пиратского Вавилона. За десять недель работы над затонувшим городом было сделано очень многое. Самое главное, была составлена наиболее точная из существующих карт Порт-Ройала – карта города до землетрясения. «Тем не менее, мы сознавали, – подвел итог Эдвин Линк, – что обследовали только то, что лежало неглубоко. Понадобится много лет напряженного труда, чтобы провести тщательное обследование. Нам посчастливилось найти и определить отдельные точки, в которых мы и сосредоточили поиски. Но это только начало. Когда-нибудь люди вернутся сюда и будут вознаграждены таким множеством находок, что наши успехи покажутся незначительными».
Линк не ошибся. Спустя шесть лет на «улицы» затонувшего города спустились подводные археологи экспедиции Роберта Маркса, организованной Институтом Ямайки и Комиссией национального фонда. Первым этапом работы экспедиции было уточнение карты Порт-Ройяла. Так же как и для Линка, это оказалось огромной проблемой. Темная вода над затонувшим городом не позволяла использовать аэрофотосъемку и другие средства визуальной разведки. Для поиска металла был применен специальный детектор, а для обнаружения стен зданий – старый, но верный металлический щуп длиной два с половиной метра. Другой проблемой были колоссальные масштабы работ. Так, чтобы составить карту всего лишь одного городского района площадью примерно семьдесят на сто метров, где находились тюрьмы, рыбный и мясной рынки, лавки ремесленников и частные дома, потребовалось несколько месяцев. Но никакие трудности не могли остановить ученых.
Первой большой находкой экспедиции стала обвалившаяся стена, вокруг которой были разбросаны кухонная утварь и оловянная посуда, бутылки из-под рома и свыше пятисот курительных трубок. Это становилось традицией – в начале работ находить таверну. На этот раз она принадлежала некоему Ричарду Коллинзу. Догадку подтвердили инициалы «Р.К.», нанесенные на двух оловянных тарелках и ложках. Очень важным событием было открытие двух не обвалившихся домов. Потребовался целый день для того, чтобы откопать верхние полтора метра здания длиной 10 метров и шириной 5, при толщине стен 60 сантиметров. Эти раскопки чуть не обернулись трагедией. Когда Роберт Маркс зарисовывал сооружение, одна из стен рухнула, придавив его. К счастью, она прижала его лицо к клапану продувки легочного автомата, и водолаз продолжал получать воздух и тогда, когда был без сознания. Сбросить накрывшие его остатки стены Роберту не удалось. Выход был только один – прокопать руками путь вперед. Роберту показалось, что прошли годы, прежде чем кончики его пальцев нащупали край стены. Извиваясь, он продвигался по прорытому тоннелю, пока не освободил руки и голову. Неожиданно легочный автомат застрял между двумя кирпичами. Запас воздуха в акваланге иссякал. С каждой секундой дышать становилось все труднее. Оставался последний шанс – со всей силой Роберт рванулся вперед, легочный автомат оторвался, и обессиленный водолаз вырвался из объятий подводного города... Награда последовала спустя несколько дней. Это были прекрасно сохранившиеся серебряные карманные часы лондонской фирмы «Гиббс» и сундук со старинными испанскими серебряными монетами. Архивные документы рассказали, как сокровища, принадлежавшие испанской короне, оказались в Порт-Ройале. Они были подняты и доставлены в Порт-Ройал, рыбаками с трех испанских галеонов, потерпевших крушение недалеко от острова.
Известие о найденных ценностях, стоимость которых досужие языки преувеличили в несколько сот раз, облетело Ямайку. Потребовалось несколько недель, чтобы полиция успокоила взбудораженных обывателей и охотников за сокровищами. В последующие дни было обнаружено еще несколько тысяч испанских серебряных монет хорошей сохранности, золотые кольца и запонки, детали больших часов и прекрасная статуэтка из китайского фарфора, изображающая женщину с ребенком на коленях. На этот раз полиция понадобилась не только для того, чтобы удержать любопытных, мешающих работать, но и для защиты сотрудников экспедиции. Местная мафия угрожала им смертью, требуя поделиться находками. В дело включились и политики. Оппозиция обвинила партию, стоявшую у власти, в том, что она украла сокровища, а парламент вообще поставил вопрос о прекращении работ. К счастью для подводных археологов, все обошлось. Это и позволило Роберту Марксу сделать еще одно открытие. Он нашел останки корабля водоизмещением 250-300 тонн. Размеры орудия, найденного поблизости, свидетельствовали о том, что это был военный корабль. Части кирпичной стены, найденные под килем и на корабле, говорили о том, что он затонул во время землетрясения. Согласно сведениям, полученным из английского адмиралтейства, единственным военным кораблем, погибшим вместе с Порт-Ройалом, был фрегат «Сван». Он имел длину около 25 метров и водоизмещение 305 тонн. Эти данные полностью соответствовали параметрам обнаруженного экспедицией судна.
Раскопки под руководством Роберта Маркса продолжались до 1968 года, но и они приоткрыли лишь часть тайн затонувшего города. По мнению специалистов, сегодня Порт-Ройал является одним из самых значительных археологических объектов в мире и требует целенаправленных работ с использованием современных методов поиска и подводных раскопок. Это стало возможным с 1981 года благодаря совместной программе правительства Ямайки и Института подводной археологии при Техасском университете.
В 1992 году Порт-Ройал отметил трехсотую годовщину землетрясения, уничтожившего город. К этому времени был, в основном, восстановлен исторический центр Порт-Ройала, проведены новые исследования в его затонувшей части, давшие бесценные сведения о жизни одного из легендарных городов, получившего название «пиратский Вавилон».
Александр Окороков
Исторический розыск: Где она страна Шабат?

Две тысячи, а то и более лет назад, на восточном побережье Бенгальского залива процветал богатый город Инсура, известный, еще и как Дваравади. Древние хроники, написанные на пальмовых листьях, утверждали, что правила там династия из рода самого Будды. Инсуру хранили божества—наты, потому город обладал чудесной способностью становиться невидимым. А когда нападали враги, воспарял на небо и вместо величественных дворцов, суливших обильную добычу, завоеватели находили рисовые поля или заросли бамбука. Агрессорам это, понято, не нравилось. Один из них – коварный король Васудева, напавший на Инсуру вместе с девятью своими братьями, хитростью заманил главного ната, принявшего образ огромной птицы, в ловушку и убил его. Поблизости от того места до сих пор течет речка под названием «Кровь Птицы». Нат погиб, и город Инсура лишился способности исчезать. Чтобы закрепить свою победу, Васудева приказал приковать город к земле железными цепями, дабы никогда в будущем он не становился невидимкой. И с тех пор город стал известен под именем Тандве, в английской транскрипции, чаще встречаемой на наших картах, – Сандовей, что означает «Прикованный железными путами».
«Город-невидимка»
Эта легенда припомнилась мне на борту самолета бирманской авиакомпании, летевшего из Рангуна, столицы Бирмы, на северо-запад, в Араканскую национальную область, пограничную с Бангладеш. Через каких-нибудь 40-45 минут – посадка в Сандовее. Я направлялся именно туда, в город из легенды, бывший столицей Аракана до конца X века. За иллюминатором проплывали покрытые густым лесом отроги Араканских гор. Затем на горизонте заблестела водная гладь Бенгальского залива. Самолет пошел на посадку. Казалось, он садится прямо на воду. Но колеса застучали по земной тверди. Взлетно-посадочная полоса примостилась у самого берега. Города же с высоты я не сумел увидеть. Уж не разорвал ли Сандовей цепи и не исчез ли с лица земли?
Вскоре мои опасения рассеялись. Попетляв между поросших бананником холмов и рощ кокосовой пальмы, дорога привела нас в город, вернее, городок. Увы, теперь Сандовей – всего лишь скромный райцентр. Его былое величие безвозвратно осталось в прошлом вместе с чудесной способностью превращаться в невидимку и воспарять в небеса.

Правда, кое-какие приметы ушедших времен угадывались. Так, в преданиях о Сандовее говорится как о граде трех холмов и трех пагод. Присмотревшись, действительно замечаю три господствующих над городом холма. На их вершинах сверкают золотом три небольших ступы. Эти древние буддийские святыни высокочтимы, и всякий побывавший в Сандовее просто обязан их посетить. Друг от друга пагоды отстоят на несколько километров. Общественного транспорта тут нет. На рыночной площади в тени баньяна, дерева с раскидистой кроной, замечаю велорикш. Впрочем, это не традиционный рикша – человек, влекущий за собой коляску, в котором важно восседает какой-нибудь господин. Такие были, наверное, в древней Инсуре. Мой же возчик управляет обычным велосипедом, к которому пристроена неуклюжая, громоздкая коляска, рассчитанная на двух человек, сидящих спинами друг к другу. Мой возчик, худой араканец средних лет в старой, стиранной-перестиранной юбке-лончжи и линялой майке, усердно крутил педали, и вскоре мы выехали из городка и покатили вдоль желтеющего рисового поля, разбитого на маленькие квадратики. Когда начался подъем на холм, мне пришлось покинуть коляску и идти пешком, иногда помогая рикше тащить его такси через песок. С вершины весь Сандовей как на ладони. Впрочем, взгляду, кроме пагод на холмах да еще высокой мечети, застывшей в самом центре города, зацепиться не за что.
Внимательно осматриваю очень изящную пагоду с позолоченным верхом. Называется она Шве Сандо, Золотая Ступа Священного Волоса Будды. Араканские буддисты верят, что в ней хранится подлинный волос Будды. Пагоды-сестры на соседних холмах также не обделены: в одной из них находится зуб, а в другой – ребро Просветленного. Рядом со ступой, в густой траве замечаю каменные стелы с полустертыми изображениями. Рикша что-то рассказывает, но понять его не так-то просто, хотя араканский и бирманский языки очень похожи – примерно, как украинский и русский. Однако есть существенные отличия и в произношении, и в лексике. В бирманском вообще нет звука «р», а в араканском он употребляется очень часто, а звук «ч» заменяется на мягкое «щ». Немного попривыкнув к особенностям араканской фонетики, улавливаю, что на плитах высечены фигуры натов – охранителей Сандовея. Действительно, приглядевшись, можно обнаружить, что вид у натов воинственный, а в руках они держат короткие мечи.
Побывал я и в двух других пагодах, тем самым до конца исполнив долг паломника. Увы, следов древности обнаружить мне больше не удалось. Кто знает, возможно, они сохранили способность быть невидимыми и открываются не всякому, а только достойному? Спасибо и за то, что увидел натов-охранителей, ревниво стерегущих тайны прошлого.

Шабатская пристань
С холмов я поспешил к заливу, откуда бриз доносит спасительную прохладу в Нгапали. Так называется прибрежная деревня и гостиница с домиками-бунгало у самой воды. Нгапали – райский уголок, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Чистейшая вода. Белейший песок. Буйство тропической растительности. Тишина и умиротворение. Вездесущие туристы только-только начинают добираться сюда, порядком наследив в тайских Патайе и Пхукете. Достаточно надеть простые очки для плавания и понырять вблизи рифов, чтобы увидеть подводное царство: огромные блюда кораллов, стайки рыб немыслимой расцветки – от ярко-красной до пестрой – в горошек и крапинку.
Наверное, у меня, как и у многих других, Аракан ассоциировался бы именно с этим: теплое, ласковое море, фантастические закаты над ним, тропическая экзотика. Но так получилось, что я не ограничился самыми общими представлениями об этой гостеприимной земле, а углубился в ее историю и культуру более основательно.
Произошло это, можно сказать, случайно, когда я перелистывал как-то знаменитое «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Я знал, что до Бирмы он не дошел, хотя со слов других купцов в «Хожении» есть короткое упоминание, связанное с ней – о городе Певгу, или Пегу. Там все соответствует историческим реалиям, но вот другое место из «Хожения» меня поставило в тупик: «А Шабатская пристань на Индийском океане очень большая. Хорасанцам платят там жалованье по тенке на день, и большому, и малому. А женится хорасанец, ему князь шабатский дает тысячу тенек на жертву да жалованья каждый месяц по пятьдесят тенек дает. В Шабате родится шелк, да сандал, да жемчуг – все дешево».
Что это за Шабат такой? Где он находился? Вроде бы ни страны, ни города с таким названием никогда не существовало. Смотрю примечания. Читаю сноску к слову «Шабат»: «Не ясно, о какой стране идет речь». Мне это кажется удивительным. О немногих страницах «Хожения» написаны толстые тома исследований, комментариев и интерпретаций. Неужели до сих пор не выяснено, что же имел в виду Афанасий Никитин, упоминая Шабатскую пристань? Странно...
Заинтригованный, я тщательно выискиваю в тексте всю информацию о загадочной пристани. «От Цейлона до Шабата месяц идти, а от Шабата до Пегу двадцать дней. Шабат же от Бидара в трех месяцах пути; а от Дабхола до Шабата – два месяца морем идти. В Шабате же родится шелк, да инчи – жемчуг скатный, да сандал; слонам цену по росту дают. А что евреи говорят, что жители Шабата их веры, то неправда: они не евреи, не бесермены, не христиане, иная у них вера, индийская, ни с иудеями, ни с бесерменами ни пьют, ни едят, и мяса никакого не едят. Все в Шабате дешево. Родится там шелк да сахар, очень дешев. В лесу у них мамоны ходят да обезьяны, да по дорогам на людей нападают, так что из-за мамонов да обезьян у них ночью по дорогам ездить не смеют.
От Шабата посуху десять месяцев идти, а морем – четыре месяца. У оленей домашних режут пупки – в них мускус родится; а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу, да запах они теряют, потому что мускус тот не свежий бывает».
Когда я перечитал эти выписки, то у меня в голове промелькнула догадка. Кажется, я понял, где нужно искать следы Шабата. Но не будем спешить. Давайте сперва посмотрим, какие гипотезы на этот счет уже выдвинуты исследователями «Хожения».
Шабазпур? Чамба? Или Шамбатион?
Известный филолог середины прошлого века И.Срезневский искал страну Шабат в районе Бенгалии. «Только в виде вопроса, – писал он, – можно вспомнить об имени одного из островов, находящихся у устья Ганга и называвшихся на картах Шабазпур. Там водятся мускусные олени», а о них-то и говорит Афанасий Никитин после рассказа о Шабате. Выдающийся русский индолог второй половины XIX века И. Минаев полагал, что эта страна находилась в Индокитае и известна была у европейских путешественников как Чамба. В частности, в своей работе «Старая Индия. Заметки на «Хожение за три моря Афанасия Никитина» он отмечал: «Естественные произведения, упоминаемые А. Никитиным, то есть слоны и дерево сандал, и, наконец, самое имя страны, очевидно, в рукописях искаженное, наводит на мысль, что здесь в записках русского путешественника передаются слухи и рассказы об одной из стран Крайнего Востока, мало известной старинным путешественникам; Шабат напоминает по звукам Чампу, страну, в то время сопредельную с Негу. Страна эта у европейских путешественников называлась Чопа, Чомпа, Чамба, а у арабских географов Саиф». Комментатору Марко Поло англичанину Т. Юлу это место в записках Никитина было также не ясно. Название Шабат он связывал с известием итальянского путешественника Маиньоли об острове Саба, возможно, идентичном с островом Ява. Загадка Шабата продолжала волновать воображение ученых и в XX веке, в самые смутные времена. Так, в Петрограде в разгар первой мировой войны в 1916 году Обществом русских ориенталистов был издан «Восточный сборник», а в нем помещена статья китаиста А. Любимова «Загадочная страна Шабат в путевых записках А. Никитина (1466—1472)». На сборнике отметка: «Дозволено Военной Цензурой, Петроград». И еще один штамп: «Проверено в 1937 г.» Так что ни в грозные дни войны, ни в жестокий 1937 год, не возбранялось искать потерявшуюся страну. А. Любимов пытался найти Шабат с помощью китайских исторических хроник. Он исходил из того, что «ни древняя Индия, ни мусульманские писатели не оставили о народах и странах Южной Азии столь обширной литературы на столь обширном протяжении времени и пространства, как Китай; поэтому естественнее всего искать ключ к разгадке названия страны именно в китайских письменных памятниках». Делая вывод о том, что Шабат – страна торговая, находилась в Южной Азии, между Китаем и Индией, причем с ней было возможно как сухопутное, так и морское сообщение из Индии, А. Любимов отождествляет загадочное государство с упоминаемой в китайских хрониках империей Сань-фо-цзи.

Сань-фо-цзи – это китайская передача санскритского имени Сабодж. Сверх того, в названии страны Шабат-Сабодж можно легко видеть звуковое сродство с Забеджем арабских писателей. У последних под именем Забедж разумелось большое морское государство Индонезии, имевшее весьма важное значение в торговле мусульманского мира со странами Крайнего Востока. В результате – А. Любимов отождествляет Сань-фо-цзи – Сабодж – Забедж -Шабат с Чамбой средневековых путешественников, той самой, о которой писал и индолог И. Минаев.
Оригинальную гипотезу выдвинул в 1922 году знаток древнееврейского языка – гебраист И. Маркой. Он обратил внимание на сведения о реке Шамбатион, где жили «потомки Моисея». В частности, И. Маркой ссылается на письмо средневекового автора Ильи Песаро, слышавшего о том, что эта река находится в Индии. Шамбатион, она же Самбатион, шесть дней в неделю бурная, а по субботам – тихая; отсюда и ее название – дословно «Субботняя». По мнению гебраиста, это вполне объясняет происхождение названия загадочной страны, о которой пишет Никитин. И. Маркой приходит в результате к выводу: Шабат – что очень сходно со словом «Шаббад» – «Суббота» – в «Хожении» не реальная страна, а отголосок цикла странствующих легенд о реке Шамбатион.
Мраук-У – Амстердам Бенгальского залива
Комментаторы последнего академического издания «Хожения за три моря» (1986 г.) Л. Семенов, А. Желтяков и Я. Лурье склоняются к тому, что страна Шабат должна была находиться на индийском побережье Бенгальского залива, возможно, охватывая территорию различных областей.
Тут мы можем только сказать: горячее! И выдвинуть собственную версию местоположения Шабатского пристанища. Как, наверное, догадывается читатель, назван будет Аракан. Именно так: Аракан. Попытаемся доказать это утверждение, дав вначале короткую справку. Мне рассказал об Аракане У Тхун Шве Кхайн, араканский историк, профессор Рангунского университета. Вот что я услышал из первых, что называется, уст.