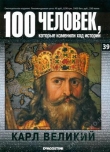Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 2006 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Хождение за три моря

От этой болезни нет лекарств, перед ней бессильны доктора, препараты и заговоры, приступы ее мучительны, последствия – губительны. Ее микробы разлиты в ядреном, сладком, дурманящем сознание воздухе высоких широт. Xлебни разок полной грудью – и вовек не забудешь, навсегда оставишь здесь свое сердце, до скончания времен опутает, поймает в тенета Север твою душу, и, где бы ты ни был, не найти тебе более покоя, будет
изматывать тебя, как лихоманка, эта таинственная северная болезнь, у которой нет названия, от которой нет лекарств… Целью этой экспедиции была не проверка Севморпути, Лены, Вилюя и Алдана на проходимость, а себя – на выживаемость, не погоня за мистерией северных сияний, не поиски секретной базы подлодок Третьего рейха под Тикси, не разгадка черных тайн якутской Долины смерти, которую облетают стороной даже птицы, – все это, если говорить о северной болезни, только симптомы, только повод, чтобы, бросив уют и тепло, сорваться вдаль. В поисках того мира первозданных стихий, где ложь для мужчины – позор, где верность для женщины – норма, где риск – это просто профессия, а дружба – понятие чести, а не выгоды.
Первый этап – Севморпуть
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Дальним Востоком и Европейской частью России, главная судоходная магистраль России в Арктике, проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцевому, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому и Беринговому). Его длина от Карских Ворот до бухты Провидения – около 5 600 км. Предположение о возможности практического использования Северо-Восточного прохода (так до начала ХХ века называли Севморпуть) впервые было высказано в 1525 году русским дипломатом Дмитрием Герасимовым, опиравшимся при этом на успешные плавания поморов в XIII веке.
А по-настоящему интенсивные попытки до конца проторить Путь начались при советской власти. В 20-е годы морские рейсы доходили уже до устья Колымы, а окончательный прорыв произошел в 1932-м, когда пароход «А. Сибиряков» доставил экспедицию О.Ю. Шмидта до Берингова пролива без зимовки. В том же году было создано Главное управление Северного морского пути и эксплуатация водной дороги началась. Прошло еще 10—20 лет, и арктическая «кромка» России изменилась до неузнаваемости. Выросли крупные порты – Игарка, Диксон, Певек. С верфей сошел мощный ледокольный флот. К моменту раскола СССР судоходство на Севморпути обеспечивали десятки мощных кораблей (их них 8 атомоходов). Транспорты, конвоируемые ими, привозили в европейскую часть страны 7 миллионов тонн грузов ежегодно. Теперь в самом высокоширотном порту мира, Певеке, можно за целый сезон не встретить ни судна... А нет морского пути – нет и цивилизованной жизни на Севере. До 90% береговых объектов находятся ныне в аварийном состоянии, что и подвигло премьер-министра Михаила Фрадкова к заявлению: «... развитие арктической морской транспортной системы является важнейшей частью национальной политики России…» Экономисты подсчитали: для окупаемости полярного флота РФ требуется грузооборот в 4—5 млн. т за сезон, не меньше. Ныне он составляет лишь 1,7 млн. Будем надеяться…

Атомный ледокол «Арктика»
Построен в 1972 году (а 17 августа 1977 года первым в активном надводном плавании достиг Северного полюса). Длина – 136 м, максимальная ширина – 30 м, высота борта – 17,2 м, осадка – 11,0 м, мощность двигательной установки – 75 000 л. с., скорость – 21 узел. Команда – 120 человек. Основная задача ледокола, как и следует из его названия, – расчищать путь следующим за ним судам. Предельная толщина преодолеваемой им массы сплошного не заснеженного припайного льда на непрерывном ходу и при полной мощности – около 2,8 м. Атомная паро-производительная установка размещена в специальном отсеке в средней части корпуса. Каюты – на жилой палубе. Конечно, здесь нет пальм, соляриев и бутиков, как на пятизвездочном прогулочном лайнере. Зато есть столовая, музыкальный и шахматный салоны, библиотека, учебный класс, две прачечные, две бани, парикмахерская, фотокаюта, бытовая мастерская, плавательный бассейн, спортзал и даже кинозал.
По понедельникам из порта Мурманска – главных северных ворот России – не выходит в рейс ни один атомоход. И дело не в обычной тяжести первого дня недели, просто именно в понедельник здесь однажды случилась катастрофа. Что тогда произошло – не знаю, никто из скупых на эмоции моряков не стал мне этого объяснять.
Вообще, в этой поездке мне не раз приходилось замечать, сколь важную роль в жизни людей рисковых профессий играют приметы и суеверия. Так, ракетчики на космодроме в Плесецке за час до старта пишут варежкой на заиндевевшем корпусе корабля метровыми буквами имя Таня. Пилоты стратегических бомбардировщиков из дивизии дальней авиации под Благовещенском никогда не бреются и не фотографируются перед полетом. А матросы атомного ледокола «Арктика», на борту которого нам предстояло проделать первую часть пути от Мурманска до Тикси, шарахнулись от моего оператора, впервые вышедшего в море и в эйфории от того произнесшего:
– Эх! Красота-то какая! Еще бы штормец балльчиков в семь испытать!..
Крещение морской водой
…Меня вышвырнуло из койки. Корабельный лазарет, в который нас определили на жилье – не по болезни, а из уважения (там была ванная, отсутствовавшая даже в капитанской каюте), ходил ходуном. Незакрепленный мною по неопытности рюкзак летал из угла в угол, сея за собой повсюду мой нехитрый скарб.
С трудом отыскав свои крутые кроссовки – «специально для экстремалов», как прозорливо значилось в их прейскуранте, минуты две я пытался выпрямиться с четверенек. Когда же мне это удалось, следующий удар уложил меня вновь, и я, понимая, что все кончено и мы идем ко дну, ужом пополз к выходу.
Преодолев бруствер переборки, я оказался на палубе. Огромные серозеленые горбы своевольно гуляли по морю. Палуба периодически ухала куда-то вниз, и тогда волны перехлестывали через невысокие борта судна, пенясь и вскипая бурунами по углам. Еще секунда – и ледяной удар втолкнул меня обратно в каюту. «Вот и все, – подумалось мне. – Как глупо. И стоило так рваться в эту командировку…»
– Ну что, киношник, красиво, да? – вновь высунув голову, услышал я голос вахтенного. – Семь баллов, как и заказывали…
Странное дело: матрос лыбился отнюдь не угрюмо и не озлобленно, а вполне благодушно, и даже с долей сочувствия. Я огляделся. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, никто не орал дурным голосом: «Свистать всех наверх!» или «Руби грот-мачту, сукины дети!» Более того, две стоящие неподалеку дамы из банно-прачечной команды в изящных плащ-палатках поверх романовских полушубков никуда не бежали, не заламывали рук и не причитали, а, напротив, с интересом следили за происходящим (впрочем, до вертолетной площадки, где они находились, волны не доставали).
И тогда слабый лучик надежды коснулся моей души… Неужто пронесет?
Огненная вода (шило или галоша?)
Сохли на веревках джинсы и куртка, свитера и носки… Только вот тельняшку я не снял.
– Шило будешь? – в семнадцатый раз за день спросили меня, отдраив иллюминатор.
– Не буду, – в очередной раз буркнул я.
– А положено! – ухмыльнулись мне из иллюминатора, косясь на мой матросский прикид. – Ты теперича мореман, а не салага…
Что ж, пришлось принять на просоленную душу полстакана разбавленного спирта. И в соответствии с неписаным указом выполнить много раз наблюдаемый мною ритуал.
Выдохнуть. Задержать дыхание. Выпить. Запить. Выдохнуть. Закусить.
И, неторопливо закурив, с видом знатока небрежно бросить:
– Качественное шило! Не галоша! (Услышав в ответ уважительное: «А то! Не с реактора, чай, сливали…»)
«Галоша» (он же «кислый» или «шмурдяк») – это технический спирт. А порядочный мореман пьет (по возможности) исключительно спирт питьевой, из отборных сортов зерна, обладающий, как гласит этикетка, «мягким, изысканным вкусом». Как его проносят на борт, если мимо спецназа, охраняющего атомные объекты, и мышь не проскочит, – уму непостижимо, особенно если принять во внимание количество проносимого. Правда, за долгие месяцы плавания всему, как правило, приходит конец, в том числе и спирту отборных качеств, и тогда в ход идет и технический, тонны которого закачивают в ледоколы для какой-то там (никогда мною не виданной) профилактики реакторов.
Заполярное сибаритство
…Я вышел на палубу. Шторма как не бывало. Тихо плескалось море, плавно пикировали на корму чайки – туда, где стояли контейнеры с мусором (здесь отбросы не выкидывают в море, как курортники за борт бычки, а сжигают). Прямо по курсу, как Сцилла и Харибда, сходились берега Новой Земли и острова Вайгач. Пролив Карские Ворота неширок, а местами и вовсе угрожающе тесен, но волноваться больше не хотелось. По телу разливалось приятное тепло, разогретые мысли текли неторопливо. Да и то, что рядом наконец земля, как-то успокаивало.
– В случае чего, доплыву, – умиротворенно думалось мне. Угрюмое, стальное и непокорное Баренцево море, полное тайн, радиоактивных отходов и затопленных химических боеприпасов, оставалось позади. А впереди приветливо зеленело Карское, и уже кое-где, как островки, как плотики, как каяки эскимосов, поблескивали льды…
Кормят на «Арктике» в соответствии с морскими традициями, то есть от стола просто отваливаешься. Два обеда – это закон. Завтрак, ужин, чай. Пока не закончились – фрукты. Хлеб и чеснок на столах – без счета (чеснок – не от вампиров, от цинги).
В спортзале постоянно играют в волейбол – для футбола места все-таки не хватает. В бассейне – а точнее, в двух – понятно, плавают. Но главная роскошь на корабле – это баня. Здесь можно испытать то самое, знакомое мне с армейской юности (в тунгусской тайге) удовольствие, когда изработанное тело плывет в полуреальности, в пару, а кто-то все поддает и поддает дубовым веничком сначала по пяткам, потом по ногам, все сильней и сильней, пока, не угорев, с криком «мамочка!» ты не соскочишь с полка и не нырнешь в ледяную купель. Потом в одном полотенце выходишь на палубу. От тебя валит пар. Проверено: пятнадцать минут человек не замерзает на самом лютом ветру. Впрочем, это относится к берегам. Здесь – от силы пять…

Баренцево моря
Окраинное море Северного Ледовитого океана (1 405 тыс. км2), омывающее берега России и Норвегии. Море ограничено северным побережьем Европы и островами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Главный порт – Мурманск. Юго-западная часть моря зимой не замерзает из-за влияния Северо-Атлантического течения. В данный момент серьезную проблему представляет радиоактивное загрязнение моря, возникшее в результате деятельности советского/российского ядерного флота. Названо море в честь Виллема Баренца, голландского мореплавателя – первого европейца, пытавшегося в 1596 году найти северный морской путь в Азию.

Адова романтика
И все же временами мне казалось, что легендарный атомный ледокол «Арктика» никакой не мирный пароход, а закамуфлированный крейсер. Посудите сами. Военная дисциплина. Странные, таинственные зачехленные предметы на палубе, к которым запрещено приближаться. Да и капитан, который по морскому уставу имеет право пристрелить любого. Но это лишь в крайних случаях...
– Слава Богу, о таких случаях даже не слышал, – Владимир Куликов, капитан ледокола, оказался на удивление улыбчив и приветлив.
Ласковое, почти теплое солнце освещало его апартаменты (капитану положены кабинет, спальня, гостиная), играя зайчиком на старых фото и на коллекциях трубок. «А, нет, уже не курю». Но запах табака пополам с черносливом успел въесться в плюш гардин, в кожу диванов и кресел, невидимой тенью навис над столом, на котором красовались армянский коньяк и карты. Карты, конечно, не игральные – шкиперские.
Вообще, в Арктике и на «Арктике» мало романтики, если судить о ней по Жюлю Верну. Зато много того, что так редко встретишь нынче на берегу: человек на борту никогда не остается наедине со своим несчастьем: если уж беда приключилась, то здесь и горе, и радость – на всех. И нет того, от чего сходят с ума в городах, – одиночества. Как нет и подонков. Такие здесь не приживаются, ибо замкнутый мир корабля – как лакмусовая бумажка, ничего не утаить под лаковой улыбкой, ничего не скрыть под глянцем политеса.
– О деньгах мы вообще здесь не говорим, – негромко продолжал капитан, явно уставший после портового ада и чистилища шторма. – Рейс – четыре месяца, без заходов в порты, но на деле получается, что ходим по году и более, матросу платят в среднем семьсот, если в долларах, да три доллара в день вычитаем за еду – считайте сами…
Вскоре я и сам пойму, что основная масса моряков на «Арктике» отнюдь не за деньгами выходит в море. Эти люди, проведшие под низкими небесами высоких широт по двадцать, а то и по сорок навигаций, ищут здесь чего-то иного.
Чего? Быть может, того же, что ищу здесь и я, а именно: крайней, беспредельной воли. И это несмотря на жесткие рамки распорядка: четыре часа вахты, четыре – подвахты, четыре – сна. И все по новой. И только мятежный твой дух не втиснут в робу – драишь ли ты концами палубу или белыми бахилами пробуешь на ощупь горячие решетки пола в реакторе – дух остается свободен…
Мишки на севере
Три недели мы тащимся вдоль пустых берегов. Иногда дрейфуем во льдах по трое–четверо суток, и тогда приходят медведи. Первый день они сидят неподалеку. Их подманивают батонами, густо помазанными сгущенкой.
– Иди, Миша, ну, иди, глупый! – заливается боцман Федос, сорок лет назад отслуживший срочную на северах, да так и бросивший здесь якорь.
– От бисова дитина! Дывись, який хитрый! – вторит ему земляк Микола. Мишки крутят носами, но потихоньку смелеют. Вскоре они уже сидят у бортов и ревут: дескать, дай! дай! сгущенки дай! А через день медвежата уже вовсю карабкаются на борт, нарываясь на шлепки мамаши: она по очереди оттаскивает их за шиворот вниз, а они – вырываются и верещат…
Но чаще мы не стоим и не дрейфуем, а тихонько ползем, по-черепашьи продвигаясь вперед. И это при том, что надсадно ревут под полной нагрузкой двигатели – так, что дрожит корпус. Сперва, отъехав назад в пробитой им полынье, ледокол начинает разгон и, разогнавшись, бросается вперед, грудью и брюхом на льды. Вылетая на него своим дном, он проламывает путь длиной метров сто, пока не ослабеет инерция. Потом отступает назад – и вновь, разогнавшись, подается вперед.
А за ним по пятам ползет ядерный лихтер «Советский Союз» – единственный в мире пароход такого класса, построенный с истинно советским размахом (правда, скорее, для проведения десантных операций в полярных морях, чем для доставки грузов!). В результате чего он, правда, не может ошвартоваться ни в одном порту мира, кроме как в наших, построенных с тем же размахом.
Скорость нашего движения – две мили в час, то есть четыре километра. И так – неделями…
Естественный полигон
У моряков северных широт две беды– гипоксия (недостаток кислорода) и гиподинамия (недостаток движения). Когда первый, и легендарный, капитан «Арктики» Юрий Кучиев настоял на том, чтобы ледокол строили без лифтов, и матросам приходилось ходить пешком, то тем самым из двух зол выбрал меньшее – гипоксию. Потому что к ней организм худо-бедно приспосабливается, а то, что притом он быстрее изнашивается, что ж, такая профессия… Если же двигаться мало, а в тесных условиях корабля не до приятных променадов, то к концу рейса мышцы попросту могут атрофироваться.
Поднимаясь из трюма, где пекарня и холодильники, на мостик или камбуз, нужно преодолеть семь этажей – семь потов с тебя и сойдет. Казалось бы, задача не из сложных, а сердце колотится о ребра, дыхания не хватает, пот заливает глаза: при нехватке кислорода любое интенсивное движение сжигает все запасы сил.
Кроме того, в распорядок дня включена обязательная послеобеденная прогулка: либо скорым шагом двадцать раз вдоль бортов, от юта до бака, либо – сорок-пятьдесят кругов по вертолетной площадке. И так – в бурю и в штиль, в дождь и в метель, в пятидесятиградусные морозы, когда фотокамера работает на ветру ровно четыре минуты…
Раньше вертолетные площадки использовались не для прогулок, а по назначению: на каждом ледоколе имелось не меньше двух вертолетов-разведчиков, один из которых постоянно находился в воздухе. Теперь из-за недостаточного финансирования вертолеты исчезли и атомные махины движутся вслепую, безо всякой ледовой разведки, положенной по законам северного судовождения. Старпом, вахтенный и рулевой до белых зайчиков в глазах всматриваются вдаль – и все равно не уберечься порой полярной ночью от предательского тороса. Удар – корпус дрожит и кренится, тарелки в кают-компании летят на пол, забубенный морской мат несется с мостика (хотя в обычных ситуациях моряки вежливы до изысканности и даже обращаются друг к другу не иначе как по имени-отчеству), но по внутреннему корабельному радио все звучит и льется успокаивающая музычка, никто не бьет тревогу – все идет своим чередом…
Так мы добираемся до северной оконечности Новой Земли, что зовется мысом Желания. Здесь странные закаты и особенно светится воздух, в котором будто посеяно что-то чужое, недоброе, отчего на душе становится неуютно и зябко…
– Ага, вот здесь Хрущев самую сильную бомбу и взорвал, – рассказывают мне. – Говорят, от нее какая-то неконтролируемая реакция пошла, должен был вроде амбец нам всем наступить, часа полтора ждали да тряслись, да вишь – пронесло…
Здесь и впрямь запрещено приставать к берегу, ловить рыбу, снимать. Можно только дальше утюжить свинцовые воды, стремясь побыстрее убраться отсюда…
Уже потом я узнаю, что Новая Земля на языке военных зовется «естественным полигоном».

Карское море
Окраинное море Северного Ледовитого океана (883 тыс. км2). Ограничено северным побережьем Евразии и островами: Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля. Главный порт – Диксон. В море впадают полноводные реки – Обь и Енисей, в зависимости от близости к их устьям соленость моря сильно варьируется. Это одно из самых холодных морей России: только близ устьев рек температура воды летом поднимается выше 0°C. Часты туманы и штормы. Большую часть года море покрыто льдами. Название моря («Карское»), по различным гипотезам, происходит либо от ненецкого слова «хара» – «извилистая», либо от слова «хоре» («торосистый лед»), а некоторые видят в нем и отголосок имени древнеславянского солнцебога Хорса.
Атомный кузнечик
– Да, но только на десять минут. Десять минут в сутки – это безопасно.
«Отсечников», то есть ребят, работающих в реакторном отсеке, узнаешь сразу. И не по счетчикам Гейгера в кармане синей робы, а по какой-то общей отстраненности, отрешенности во взгляде, в движениях. Они как будто уже перешли невидимую черту, отделяющую наш суетный, плотный мир от таинственного и тонкого мира радиации – обители теней, отзвуков, отсветов и отражений.
– Десять минут, – повторяет бывший капитан-лейтенант, лет десять отходивший на подлодках и уже пять болтающийся здесь. – Впрочем, влияние малых доз радиации на организм не изучено…
Ну да. Зато изучено влияние больших!
Шлюз. Раздеваешься догола. Белая роба. Счетчик. Полстакана – того, колючего… Господи, зачем мне сюда?! Но отступать уже нельзя. Из бронированного оконца смотрят на тебя отсечники – не дрейфь!
И я, осенив себя широким крестом, ступаю внутрь. Шипение переборки. Все. Ты здесь. Квадрат – десять метров в высоту, десять – в ширину. Решетки, шланги. Жара. И непрерывное комариное шипение, позвякивание далеких колокольцев, посвист ядерного ветерка, пришептывание, бормотание невидимых шаманов, камлающих в трансе, и подвывающих, и притоптывающих.
Тонкий атомный мир сопровождал нас на протяжении всей поездки – с ее начала, на атомном ледоколе, идущем мимо мест испытания ядерного оружия, до якутских урановых рудников и заброшенного аэродрома для бомбардировщиков с атомным оружием на борту. Там, у затерянной в тундре взлетно-посадочной полосы, где порой видят НЛО, а по осени часты северные сияния, я вновь испытал нечто подобное. Зелено-белая полоса соединила берега. И – словно защелкали, заныли, застонали домры, забряцали кимвалы, зарокотали бубны, загомонили шаманы.
Полоса сложилась в разноцветный яркий круг над нашими головами в черном небе, как будто по темной воде разлилась радужная пленка бензина, только ярче, чище, страшнее. Звук усилился, краски вспыхнули, круг опустился ниже. Вмиг отключились все камеры, как видео, так и фото.
А черная дыра в середине круга тянула, манила, звала. Вокруг нее были звезды. Внутри – ничего. Волны шли сквозь нас, играя и смеясь.
Круг вспыхнул и погас. Темнота сгустилась.
Два дня после этого у меня раскалывалась голова. Чуть позже, в Якутии, ученые объяснили мне, что в устье Лены мы наблюдали редчайшее явление – концентрическое северное сияние. И что на Земле его видело никак не больше тысячи человек. И что нам повезло… Но пока живы во мне тот далекий отсвет и дивный непонятный звон, похожий на горловое пение калмыцких шаманов, мне сложно поверить якутским ученым…
Все стрекотал и щелкал, и пел ядерный кузнечик в двух шагах от меня.
– Все. Десять минут, – сказали мне.
Я вышел. Шлюз. Душ. Полстакана.
– Шило будешь? – спросили ребята, – а надо…Ты ж теперь отсечник!
Мертвые с косами
Арктический берег представляет собой сплошную скалистую полосу. Пять тысяч верст – и никого. Только как в старом фильме «Неуловимые мстители»: «мертвые с косами стоят, и тишина…» Кресты брошенных кладбищ, обломки заборов и руины бараков. Кресты – на могилах моряков, зеков и охранников. Заборы и бараки – остатки самих лагерей. И выступающие местами из вечной мерзлоты, подмываемой океаном, гробы…
Порой в редких поселках, вставших на месте лагерей, появляются родственники погибших и забирают останки в родные места. Зачем? Ссыльные, что спят на скалистых берегах, давно примирились и с этими местами, и с судьбой…
– Они, однако, хорошо работали, – уважительно говорят о них местные, – придумали сейнерами корюшку ловить…
…Пошла шуга – какая-то каша из снега, льдинок и воды.
Нас догнал сухогруз, «морковка» по-здешнему (прозванный так из-за ярко-оранжевой полярной окраски бортов), на котором нам предстояло продолжить путь. «Арктика» не смогла бы в дальнейшем войти в бухту Тикси – та слишком мелка. «Морковка» же шла в Тикси за лесом, предназначавшимся для перевозки в Германию, и согласилась принять журналистскую группу на борт.
Нас провожали на баке все, кто был свободен от вахты. Я и не думал, что так сроднюсь с этими людьми… Впрочем, любая встреча в океане – событие, и, может, матросы пришли на бак просто от скуки?
– Прощайте, ребята! – Отсечники сунули нам флягу спирта тройной очистки. – Вам пригодится…
Мы обнялись.
– Живей, мать вашу за ногу! – орал в мегафон старпом с «морковки», а ну, живей!
Нас пересаживали в грузовой клетке. Мы взмыли в низкое, колючее небо. Ветер швырнул нам в лицо обрывки облаков, ошметки волн, огрызки льда. Очередной порыв – и клетка резко накренилась. Коричнево-зеленая бурлящая бездна угрожающе приблизилась, и мы, побросав рюкзаки, схватились за решетки. Через пару минут мы уже были на борту нового судна. Правда, норд-ост сорвал и унес в море мою лихую капитанскую кепочку с якорьком…
– Вот и дань, дешево отделались, – встретил нас на «морковке» старпом, – я, вообще-то, ставил, что вы свалитесь…
– На что спорили? – зло спросил его оператор, который, как боец автомат, так и не выпустил из рук камеру, чуть не угодив вместе с ней под борта. – На шило, – буднично ответил тот.
Я встречу «Арктику» спустя полгода на подходе к Дудинке. Они будут тянуть тот же рейс, так и не сойдя с тех пор ни разу на берег. Я отдам им кассету с фильмом о них, день в день с его выходом в эфир.
Мы пожмем руки через борта – на пятидесятиградусном морозе, на ветру.
У морских радистов принято в конце передачи ставить в знак прощания две группы цифр. «88» – «Я вас целую» – ставится редко. «73» – «До свидания» – чаще.
– Восемьдесят восемь, – крикну я им.
– Семьдесят три, – спокойно ответят мне.
Закон – тайга
До самого Диксона в белом мареве тянулись дикие берега. И лишь выше, перед самым выходом в океан, в сгустившемся сумраке, вдруг вспыхнули огоньки какой-то полузабытой деревушки, потянуло дымком из печных труб. Донесся запах чуть пригоревшего хлеба и кислого тепла из овинов.
«Арктика» встала, как и атомоход «Вайгач», с некоторых пор помогавший проламывать путь для «морковки» (один – впереди, другой – окалывая мгновенно схватывающийся лед по бортам сухогруза, то чуть отставая, то вырываясь вперед, то забегая с другого бока).
Встала и «морковка», чуть вздрогнув контейнерами с грузом. С берега в круг света палубных прожекторов ворвались вездеходы и грузовики, и лихие парни замахали нам оттуда…
Конечно, узнай хозяин сухогруза о том, что моряки на свой страх и риск возят от Дудинки до Диксона местных и груз, капитану грозит увольнение. Но они все равно идут на это – не бросать же людей. Хоть раз в месяц, но возьмут на борт больных или отпускников да контейнер-другой с патронами, спиртом и магазинной едой: консервами, шоколадом и прочим, чего не приготовишь в домашних условиях…
Отвернулись капитаны, делая вид, что пятиминутная остановка – плановая. На сбивающем с ног ветру прямо на лед матросы опустили в грузовых клетках людей и контейнеры, скинули мешки. Затем подняли на борт пару тюков с нельмой да муксуном – единственным, чем могут отблагодарить моряков местные. И так и остались стоять, темными пятнами на высвеченном льду, жители деревни Емельяново, где четыреста дворов и нет ни больницы, ни почты, ни магазина.
Впрочем, я думаю, и таинственный хозяин сухогруза прекрасно знает, что здесь, как и повсюду на Севере, моряки возят местных. Ведь иначе нельзя. Тут живут по забытым на Материке законам добра и чести, тут как бы сошлись в один постулат все религии мира: «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», как перекипели и переплавились тут все национальности, оставив только две: «русские» – это все европейцы, и «якуты» – с ударением на последнем слоге – все аборигены.
Потому что если ты здесь кому-нибудь не поможешь, то кто же тогда поможет тебе?
– Знаешь, как в тундре да в тайге с негодяями поступают? – спросил меня капитан сухогруза, когда мы вновь тронулись в путь и заревели впереди да по бортам атомоходы.
– Знаешь? – повторил он и прихлебнул крепчайшего чая, почти чифиря, без которого не удастся выстоять самую поганую вахту, не зря прозываемую «собакой», – ту, что с двенадцати ночи до четырех.
– А очень просто, – не дожидаясь ответа, закончил он мысль. – Раз объяснят человеку, два. Видят – не понимает, душа в нем подгнила… На третий раз объяснят уже, знаешь ли, жестами.
И он замолчал, всматриваясь через стекло рубки вдаль. Пауза затягивалась.
– Ну, а не поймет и в третий? – не выдержал я.
– Напоят, отвезут в тундру подальше и выпустят, – спокойно ответил капитан. – Если и выйдет оттуда, то другим человеком.
– А если не выйдет? – потрясенный, спросил я.
– Так и греха ни на ком нет – сам же не вышел, – так же невозмутимо ответил мне капитан....
Жизнь на воде
Если верить медицине, то человек в абсолютно экстремальных условиях (это когда среднегодовая температура от нуля до плюс пяти) долго существовать не может.
Поселок Тикси, расположенный к востоку от устья Лены, это спорное утверждение как опровергает – самим фактом своего существования, так и доказывает – тем, что постепенно вымирает.
Его времена давно прошли. Все, что осталось от главных морских ворот Якутии и важнейшего порта на Севморпути, – это щербатые грязные улицы, пятиэтажки, большей частью заброшенные, да ларьки с дешевой водкой, вокруг которых и сосредоточилась вся современная жизнь. Еще кувыркается на волнах катерок морской стражи Арктического погранотряда, что берет на борт четыре человека и развивает скорость весельной лодки (за какими шпионами, браконьерами и контрабандистами ему угнаться?). И как апофеоз запустения – мозолит глаза распиленный фюзеляж самолета, валяющийся на пирсе, – не успели вывезти и сдать в металлолом…
В данный момент жизнь теплится лишь в Тикси-3, поселке-базе дальней авиации. Здесь та же разруха, но кое-какую зарплату выдают, есть клуб и даже идут занятия в музыкальной школе, где офицерские жены учат детишек петь, танцевать, рисовать и даже говорить на иностранных языках.
Лишь изредка напомнит о былом величии поселка авиация: нет-нет да и накроет поселки рев моторов, опрометью ринутся в море чайки – и огромный ТУ-95 чуть ли не сталинской постройки, гремя в своем нутре боеголовками, плюхнется на бетонную полосу аэродрома. Выглянув на миг из разорванных туч, солнце высветит надпись «Слава Октябрю!», выложенную железными бочками на главной сопке – выкладывали с вертолетов, из которых доныне в Тиксинском авиаотряде уцелел лишь один (теперь он служит, чтобы возить на охоту высокопоставленных гостей).
А затем тучи сомкнутся вновь, перестанут мелко дрожать травы, и нудный, навязчивый, беспросветный дождик снова примется моросить и без того набухшую, пропитанную водой до предела землю. Вода здесь повсюду. Порывы ветра срывают шапки соленой горечи с залива и швыряют тебе в лицо.
Вода сочится из самой земли – стоит ступить ногой за серые дорожки мостовой, и так – от края и до края. Только где он, тот край, среди бесчисленных ленских проток шириной в десятки километров, если дельта великой, могучей реки постоянно меняет свою географию, анакондой извиваясь на подступах к студеному океану?
Незолотая рыбка
Алмазы и золото в здешних местах, что булыжники под Москвой. Но до них нужно на чем-то добираться, их нужно чем-то добывать, а добыв, вывозить. Техники нет, европейцы, побросав жилье, уехали на Материк – так здесь называют весь остальной мир. А тунгусам и в прежние времена золото было ни к чему: «Шибко, однако, мягкий материал»…
Местные держатся на рыбе. Холодные воды щедры, и рыбалкой здесь называют совсем не то, что рисуется в мечтах о подмосковном рае: удочек я здесь не видел.
Раз в два года, повинуясь древнему закону продолжения рода, возвращается в родные реки лосось. Он приходит в них, чтобы, отметав икру, умереть и послужить кормом для мальков. Река вскипает, по черным спинам кижучей можно переходить на ту сторону протоки, а рыба все продолжает идти.
Лосось здесь, впрочем, рыбой не считается – ценится только его икра. Рыба – это другие лососевые и лососеобразные: муксун, нельма, таймень. Ну и, конечно, осетр. Мороженую белую рыбу, почти лишенную костей, настрогав длинными ломтями, макают в соль и черный перец, отрезают ножом у губ, и она, растаяв, стекает в горло…