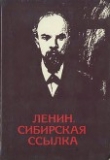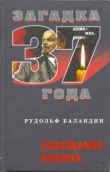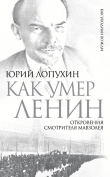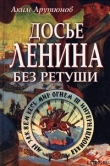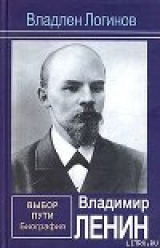
Текст книги "Владимир Ленин. Выбор пути: Биография."
Автор книги: Владлен Логинов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
В литературе, принадлежащей перу ренегатов, эта брошюра по казуистике и в то же время банальности аргументации занимает виднейшее место. Сегодня она читается с особым интересом… В общем, не захват власти, а приобщение к власти, сотрудничество с ней способно принести благо народу – эта, как выражался Салтыков-Щедрин, «премудрость вяленой воблы» и стала главной идеей, сформулированной Тихомировым.
Ответил ему Г. В. Плеханов. В 1889 году он опубликовал статью «Новый защитник самодержавия, или Горе г. Л. Тихомирова». Пример Тихомирова, писал Плеханов, «останется классическим примером человека, который не столько изменил свои убеждения, сколько изменил своим убеждениям». Он старается доказать, что «был революционером лишь по вине других, лишь благодаря тому, что все наши образованные люди отличаются крайне нелепыми привычками мысли, а перестал быть революционером г. Тихомиров благодаря выдающимся особенностям своего «созидательного» ума и замечательной глубине своего патриотизма… В жалобах г. Тихомирова на неприятности, пережитые им от революционеров по поводу его «эволюции», сквозит гордое сознание своего превосходства. Он умнее других… Но г. Тихомиров жестоко ошибается. Своей «эволюцией» он обязан лишь своей неразвитости. Горе от ума не его горе. Его горе есть горе от невежества» 15.
В демократической среде вся эта история наделала много шума. Спорили до хрипоты и до драк. И главным оставался все тот же вопрос – о «захвате власти»…
Уже упоминавшаяся Мария Петровна Голубева была старше Владимира почти на 10 лет и вступила в революционное движение еще в 1881 году. После знакомства они подружились, стали встречаться довольно часто и у Ульяновых, и у нее. И Мария Петровна решила «обратить его в якобинскую веру». Но «Владимир Ильич спокойно и уверенно развивал свою точку зрения, чуть-чуть насмешливо, но нисколько не обидно опровергал меня… Часто и много мы с ним толковали о «захвате власти» – ведь это была излюбленная тема у нас, якобинцев. Насколько я помню, Владимир Ильич не оспаривал ни возможности, ни желательности захвата власти, он только никак не мог понять – на какой такой «народ» мы думаем опираться, и начинал пространно разъяснять, что народ не есть нечто цельное и однородное, что народ состоит из классов с различными интересами и т. п.» 16.
Судя по всему, шутками не ограничилось, ибо в работе, начатой Ульяновым в Самаре как раз в эти годы, он написал, что среди российских революционеров были и те, кто вел борьбу с правительством «во имя социализма, опираясь на теорию, что народ готов для социализма и что простым захватом власти можно будет совершить не политическую только, а и социальную революцию. В последнее время, – заключал Владимир Ильич, – эта теория, видимо, утрачивает уже всякий кредит…» 17.
Кончилось тем, что со временем не Голубева Ульянова, а он ее «обратил в свою веру».
«Старики» ворчали на молодежь и по-своему были правы. Молодежь действительно была уже «не та». Самарец Матвей Семенов, бывший студент Петровской сельхозакадемии, уже имевший за плечами опыт «хождения в народ», арест и ссылку, писал, что в конце 80-х годов народничество уже «не вызывало энтузиазма в своих адептах». О том же писал и Алексей Преображенский: «К этому времени я уже успел в достаточной степени разочароваться в прирожденной преданности крестьянства коммунистическим идеям и, сколько могу судить, относился к крестьянству без иллюзий и предрассудков». И фраза Семенова о «смутном чувстве неудовлетворенности» и о том, что они «в сущности были на распутье», довольно точно характеризовала настроения радикальной молодежи 18.
С ее самарскими лидерами Владимир Ильич познакомился сразу же после приезда из Алакаевки. Первым был Вадим Андреевич Ионов – приятель Марка Елизарова. Он был старше Владимира Ильича, считался народовольцем, но более всего интересовался вопросами развития капитализма в России. Жил он в основном в Сызрани, но часто наезжал в Самару и пользовался среди здешней молодежи большим авторитетом 19.
Сблизился Ульянов и с другим приятелем Елизарова – Алексеем Павловичем Скляренко (Поповым). Был он одногодком Владимира Ильича, но уже успел отбыть годичное заключение в московских Бутырках и питерских Крестах. «Он для нас, юнцов, – писал Дмитрий Ульянов, – был окружен какой-то особой таинственностью», и его кружок охотно посещали гимназисты, семинаристы, ученицы фельдшерской школы. Импонировала даже его внешность: высокий, сильный, в студенческой фуражке на затылке, косоворотке, темных пенсне, криво сидевших на его носу, с неразлучной суковатой палкой в руках – Алексей имел вид типичного «нигилиста» старых времен 20.
Познакомился Владимир Ильич и с сыном генерал-майора Аполлоном Александровичем Шухтом. Бывший воспитанник Царскосельской гимназии, затем Николаевского кавалерийского училища, а позднее – строительного училища, Аполлон оказался косвенно причастен к делу Александра Ульянова, и его выслали в Западную Сибирь на три года, а потом – под надзор – в Самару.
Среди новых знакомых Владимира Ильича был и Вильгельм Адольфович Бухгольц, прусский подданный, отец которого служил в Самаре на железной дороге. В свое время он учился в Самарской гимназии, а затем в Петербургском университете вместе с Марком Елизаровым, но в 1887 году был выслан из столицы за участие в студенческих беспорядках. Сюда же выслали и еще одного знакомого – Викентия Викентьевича Савицкого, исключенного из Казанского университета одновременно с Владимиром Ильичем 21.
Через Скляренко познакомился он с ученицами фельдшерской школы Марией Лебедевой и Аней Лукашевич. И если первая, приехав из сибирской глуши, лишь в Самаре узнала о «политике» и «политиках», то вторая уже имела опыт подпольных кружков в Вильно 22.
Среди молодых людей, привлеченных Скляренко, были и дети весьма состоятельных самарских купцов, такие, как бывший студент Московского университета А. Г. Курлин и студент Петровской академии А. И. Ерамасов. Александр Курлин давал свою квартиру для проведения собраний и вечеринок, но, когда, спустя годы, вступил во владение миллионами, «на революцию», как выражались тогда, не дал ни копейки. Стал известным кутилой и слегка либеральным председателем Самарского биржевого комитета. А вот с Алексеем Ерамасовым связь сохранилась на всю жизнь 23.
Были среди знакомых Владимира Ульянова и те, кто к «марксятам» вообще не имел никакого отношения. Например, художник Ф. Е. Буров, к которому Владимир заходил и в мастерскую, и на выставки 24. Часто – по четвергам или пятницам – бывал он и у уже упоминавшегося старого знакомого Ульяновых, первоклассного шахматиста, присяжного поверенного Андрея Николаевича Хардина, принимал участие в организованных им шахматных турнирах 25. Заглядывал Ульянов и на студенческие вечеринки на квартире зубного врача А. А. Кацнельсон, где в обязательном порядке танцевали «всеобщую, прямую и явную кадриль» 26.
Впрочем, шумных студенческих сборищ (не только с танцами, но и с бесконечным «трепом» на политические темы) он избегал, ибо заканчивались они, как правило, пьянками. А уже в эти годы у него стала проявляться вполне определенная черта, о которой Матвей Семенов написал: «Владимиру Ильичу была чужда еще в молодости всякая богема, интеллигентская распущенность, и в его присутствии мы все, входившие в кружок, как бы подтягивались… Фривольный разговор, грубая шутка в его присутствии были невозможны» 27.
О характере этого кружка Вильгельм Бухгольц писал: «Так как эти собрания не созывались для какой-либо определенной революционной цели, то их, соответственно, нельзя называть собраниями «революционного кружка» 28. Скорее это был типичный для того времени кружок «саморазвития». Подавляющее большинство его участников еще недавно причисляли себя к убежденным народникам, и даже Скляренко считался «отчаянным вевистом», то есть поклонником В. Воронцова. И вот теперь, шаг за шагом, они осваивали новую теорию, которая, как им казалось, укажет «верный путь».
По сравнению с остальными Владимир Ульянов был уже более «зрелым» марксистом. Но, как писал тот же Бухгольц, он «не производил впечатления товарища, желающего играть роль вожака или вообще чем-либо выделяться из рядовых товарищей. Верно и то, что он не пытался себя как марксист противопоставлять другим» 29.
Новые друзья стали более или менее регулярно встречаться, обсуждать интересующие их проблемы, новые книги. Поначалу решили заниматься по уже известной нам «казанской программе». Начиналась она с ознакомления с этикой. И вот весной 1890 года на одной из встреч, которая происходила в лодке на реке Самарке, заслушали доклад Бухгольца «Основы этического учения о благах». Между ним и Владимиром Ильичем произошел спор: существует ли «абсолютное благо» на все случаи жизни и на все времена? – вот вопрос, который поставил Ульянов. И продемонстрированный им диалектический метод анализа, казалось бы, общеизвестных понятий произвел на всех большое впечатление 30.
Чаще всего собирались на квартире Скляренко, которую он снимал вместе с фельдшерицей Марией Лебедевой. Ходили и в Струковский сад, где у «марксят» была своя особая скамейка 31. Впрочем, Скляренко, которого прозвали «доктором пивоведения», любил затащить друзей и в знаменитый павильон Жигулевского пивоваренного завода, живописно расположенный на крутом берегу Волги. «Посетители там были необычайно разнообразные, и было что посмотреть: и купец, и хлебный маклер, и крючник, и масленщик, и матрос с парохода, и мелкий торговец, и какой-нибудь служащий земской управы, и ломовой извозчик, и компания чиновников, и разночинец-интеллигент, и самарский хулиган-«горчишник» – бесконечный калейдоскоп разнообразных по своему положению людей…» 32
А вечером на спусках к реке зажигались костры – это бурлаки, грузчики, мельничные рабочие, прихватив «полдиковинную» (полбутылки водки), ужинали арбузами, воблой или варили уху. «К такой компании рабочих, – вспоминал Матвей Семенов, – можно было подсесть и чужому прохожему человеку и завести разговор» 33.
Однажды Владимир так и поступил… Передавая воспоминания Владимира Ильича, Карл Радек со свойственным ему юмором писал: «Познакомился он с каким-то чернорабочим, которого начал пропагандировать. Чернорабочий выпивал немножко, был сентиментален и с большим удовольствием прислушивался к рассказу Ильича о политике, эксплуатации и угнетении. Владимир Ильич привел его на квартиру, чтобы ему прочесть одну брошюру. Попили чайку, Ильич читал брошюру и за каким-то делом вышел в другую комнату. Когда вернулся, не нашел уже объекта своей пропаганды. Не успел он задуматься над этим неожиданным результатом своего хождения в народ, как заметил, что вместе с униженным и оскорбленным исчезло его пальто» 34.
28 октября 1889 года – в который уже раз! – Владимир пишет министру просвещения И. Д. Делянову. Он опять просит разрешить сдавать экстерном экзамены при любом российском высшем учебном заведении, ибо, «крайне нуждаясь в каком-либо занятии, которое дало бы мне возможность поддерживать своим трудом семью», «я имел полную возможность убедиться в громадной трудности, если не в невозможности найти занятие человеку, не получившему специального образования».
Министр направил запрос в Департамент полиции и от его директора П. Дурново получил ответ: «Замечался в сношениях с лицами политически неблагонадежными…» Сделав на письме Ульянова пометку «Он скверный человек», Делянов отклонил прошение, и в конце декабря 1889 года Самарское полицейское управление вручило отказ Владимиру 35.
Тогда Мария Александровна решается на отчаянный шаг. В мае 1890 года она едет в Петербург, где подает прошение в Департамент полиции и добивается приема у министра просвещения. Что она говорила Делянову? Сохранилось ее письмо, написанное ему 17 мая в Петербурге:
«Мучительно больно смотреть на сына, как бесплодно уходят самые лучшие его годы… Я тем настойчивее прошу Ваше Сиятельство снять с моего сына так долго уже лежащую на нем кару, что кара эта, вообще, не позволяет ему как человеку, принадлежащему к кругу исключительно интеллектуальных работников, найти какое бы то ни было даже частное занятие… Такое бесцельное существование без всякого дела не может не оказывать самого пагубного нравственного влияния на молодого человека, – почти неизбежно должно наталкивать его на мысль даже о самоубийстве… Я, говоря иначе, прошу именно о сохранении мне жизни сына…»
И вот 19 мая Делянов пишет резолюцию: «Можно допустить к экзамену в Университетской комиссии». А в конце июля приходит и разрешение на сдачу экзаменов экстерном при Петербургском университете 36.
Уже в августе 1890 года вместе с сестрой Ольгой Владимир едет в Петербург. Ольга поступает на Высшие Бестужевские женские курсы, а Владимир наводит справки о порядке сдачи экзаменов. Именно тогда Ольга и знакомит его с Василием Водовозовым – сыном известной писательницы Е. Н. Водовозовой. В свое время он был знаком с Александром и Анной Ульяновыми, в 1887 году его выслали в Шенкурск, и теперь он приехал в Питер тоже для сдачи экзаменов экстерном.
«Нужные справки, – пишет Водовозов, – я, конечно, дал и даже провел Вл. Ульянова на экзамен, который мы тогда сдавали… Там была большая толпа – человек около 400, – Ульянов затерялся в ней и просидел несколько часов прислушиваясь и присматриваясь» 37.
Сдача экзаменов экстерном представляла немалые трудности. Помимо того что среди данного контингента было достаточно много «неблагонадежных», профессура опасалась и слишком поверхностных знаний. Михаил Цвибак, изучавший этот вопрос, писал: «К ним и профессора относились с особым недоверием и предубеждением, спрашивая и пытая гораздо серьезнее, чем студентов, кроме того, экстерны не могли знать хорошо местных условий, и им для одинакового со студентами ответа надлежало проделать гораздо большую работу, чем студентам. Экстернам редко-редко удавалось получать при сдаче хорошие отметки» 38.
И вот 4 апреля 1891 года, сдав предварительное письменное сочинение по уголовному праву и уплатив 20 рублей в пользу испытательной комиссии, Владимир Ульянов является на экзамен по истории русского права. Билет: положение холопов обельных по «Русской правде» и холопов всех категорий московского времени. Оценка ответа: «весьма удовлетворительно», то есть высший балл. На следующий день – экзамен по государственному праву: сословные учреждения дворянства и крестьянское самоуправление. И опять высшая оценка. «Экзамены оказываются очень легкими… Обедать он ходит каждый день…» – писала 8 апреля Ольга Ульянова, успокаивая мать.
10 апреля – политическая экономия и статистика. Вопросы: о формах заработной платы и о германском статистике и государствоведе Конринге. Через неделю – экзамен по энциклопедии и истории философии права. Вопрос: сочинения Платона о законах. 24 апреля – история римского права. Вопрос: законы, издаваемые выборными властями. И по каждому из этих предметов вновь высший балл. На этом весенняя сессия заканчивается 39.
Одновременно очередные экзамены по алгебре, геометрии, химии и физике сдает на Высших Бестужевских курсах сестра Ольга. В свободные часы они вместе гуляют по столице. Весна в том году припозднилась, и они ходят на набережную Невы смотреть ледоход, делятся планами на лето. После экзаменов Ольга с подругой тоже собиралась в Алакаевку…
Но в конце апреля она совершено неожиданно заболевает брюшным тифом. Поначалу врачи обещают вполне благополучный исход, но тиф осложняется рожей. Владимир немедленно вызывает из Самары мать… И 8 мая, спустя четыре года после казни брата – день в день – на руках у Марии Александровны и Владимира Ольга умирает.
10 мая, «в ветреный и сырой питерский день», ее хоронили…
«Я осторожно вела под руку мать Оли, – вспоминала Зинаида Невзорова-Кржижановская. – С другой стороны ее поддерживал Владимир Ильич… Невыносимо было хоронить Олю, чудесную 19-летнюю девушку, умницу, только что развертывавшую свои блестящие способности, милого товарища, так нелепо погибшего. Невыносимо было видеть ее мать, молчаливо идущую за ее гробом. Я знала, что один за другим падали удары на ее прекрасную седую голову: смерть мужа, страшная гибель старшего сына Александра и теперь неожиданная смерть дочери… Слишком много для одного человека. А она шла тихая, молчаливая, натянутая, как струна, крепко сжав губы. И мы все молчали» 40.
Пройдет около 9 лет, и в один из драматических моментов своей жизни, когда чуть было не прервались отношения с Плехановым, Ленин напишет: «Мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты… Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека]… До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь… Когда идешь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния…» 41 Такого не напишешь, не пережив всю боль и горечь безвременной утраты близкого человека.
Новая сессия экзаменов началась в сентябре. После письменного сочинения на тему из области права первым устным экзаменом было уголовное право. Владимиру достались вопросы: о защите в уголовном процессе и о краже документов. Следующий экзамен – по догме римского права. Вопросы: о дарении, отношениях, из него вытекающих, и о влиянии времени на происхождение и прекращение прав.
В октябре – третий и четвертый экзамены: по гражданскому и торговому праву вместе с судопроизводством. Вопросы: об исполнении, купле-продаже, поставке, то есть о видах передаточных договоров и о торговых книгах. Пятый и шестой экзамены – по полицейскому и финансовому праву. Вопросы, соответственно, о науке полиции и ее содержании и о государственном бюджете и его составлении и исполнении.
В ноябре – два последних экзамена: по церковному и международному праву. Вопросы: об истории русского церковного законодательства и о праве нейтралитета. За сочинение и все устные экзамены этой сессии Владимир вновь получил высшие оценки и из 134 экзаменовавшихся кончил первым в выпуске.
15 ноября 1891 года юридическая Испытательная комиссия С.-Петербургского университета присудила В. И. Ульянову диплом первой степени, соответствующий прежней степени кандидата прав 42.
ГОЛОД
В 1891 году в России начался голод. И хотя он охватил лишь 17 губерний Поволжья и Черноземного центра с населением около 30 миллионов человек, голод стал проявлением глубокого общенационального кризиса, сравнимого по значению разве что с поражением в Крымской войне 1.
Сбор хлебов оказался в этом году наполовину ниже, чем в предшествующие – тоже весьма скудные – годы. А поскольку недород совпал с полным истощением крестьянского хозяйства, страдавшего от безземелья, кабальной аренды, непосильных налогов и выкупных платежей, голод стал следствием не столько погодных условий, сколько социально-экономических процессов, происходивших в российской деревне после 1861 года.
Продовольственная ситуация, ставшая вполне очевидной уже в начале лета 1891 года, требовала энергичных правительственных мер. Но чуть ли не до осени бюрократия делала все для того, чтобы замолчать и приуменьшить народное бедствие. Предложение министра внутренних дел И. Н. Дурново об ограничении свободной торговли зерном и вывоза его за границу, а также о срочном создании единого правительственного органа по закупке хлеба было Советом министров отвергнуто, дабы не ущемлять интересов экспортеров – господ помещиков 2. А сам Александр III категорически заявил: «У меня нет голодающих, а есть только пострадавшие от неурожая!» Голод как бы перешел на нелегальное положение. И в ходу была крылатая фраза: «Неурожай от Бога, а голод – от Царя!» 3
А между тем с мест поступали самые тревожные вести. Священник Бузулукского уезда Самарской губернии писал в епархиальный комитет, что «во вверенном ему приходе голод уже достиг крайних пределов. В августе население питалось остатками от скудного урожая. В начале сентября распродали за бесценок домашний скот, чтобы прокормиться. С половины сентября – есть буквально нечего. Изнуренные голодом люди с утра до вечера бродят из дома в дом, выпрашивая милостыню, и возвращаются к своим семействам с пустыми сумами: милостыни уже никто не подает». Из Рязанской губернии сообщали о том же: «Едят лебеду вместо хлеба, но и лебеда уже к концу, а впереди почти год, страшный, голодный, холодный. Ни картофеля, ни капусты, ни огурцов; скотину кормить нечем, топить тоже нечем, нет ни мякины, ни соломы, даже побираться идти некуда… Положение безвыходное… «Лучше смерть», – говорят многие…» 4
Лишь когда катастрофа стала фактом, вывоз хлеба за границу был запрещен, а все дело продовольственной помощи голодающим губерниям правительство передало земствам на места, где не было ни достаточных средств, ни зерновых запасов. Пострадавшему населению решили помогать двумя способами: нетрудоспособным по младенчеству или по старости выдавать, по мере возможности, ссуду хлебом, а трудоспособным – от 15 до 55 лет – кормиться за счет заработка на общественных работах, организуемых губернаторами.
Однако в результате бездарной организации дела и прямого казнокрадства общественные работы, на которые из казначейства было отпущено 10 млн рублей, цели не достигали. В той же Самарской губернии голодных и обессиленных крестьян заставляли своим инструментом рыть канавы, засыпать овраги и строить грунтовые дороги. Делалось это без всякого продуманного плана. По утрам часами стояли они у дома губернатора или у квартиры руководителя работ инженера Перцева в ожидании наряда, а вечером – ради получения денег. Заработок же составлял в лучшем случае лишь 10–15 копеек в день – вдвое меньше, чем платили за ту же работу обычным землекопам 5.
В конечном счете из ассигнованных всем голодающим губерниям 10 млн рублей до крестьян в виде заработной платы дошло менее трети отпущенной суммы 6. Остальные деньги осели в карманах чиновников и подрядчиков.
Столь же плачевно завершилась и история с выдачей продовольственных ссуд. По предварительным оценкам, для серьезной помощи голодающим требовалось около 300 млн рублей. Правительство ассигновало 48 млн, но до зимы отпустило лишь 20. Поэтому на закупку хлеба земства получили минимум: нижегородское земство испрашивало ссуду в 8,2 млн, а получило 2,8; саратовское – вместо 9,5 млн – 2,5; самарское просило 9,8 млн, а дали 4,4 и т. д. 7
А дальше – дальше началась обычная российская история. Получив ссуду, расторопные земцы передали закупки продовольствия спекулянтам-хлеботорговцам. В той же Самаре они втридорога переплатили купцу Шихобалову почти 1,5 млн рублей за 12 тысяч пудов порченой муки, оказавшейся непригодной для выпечки хлеба. С оставшимися миллионами – для закупки хлеба в южных губерниях – направили члена губернской управы Дементьева. После двухмесячного пребывания на юге он зерно доставил, но опять-таки, как писал «Волжский вестник», с солидной (до 30%) примесью сорняков, «песку и даже мелких камешков» 8.
Нечто подобное происходило и в других губерниях. Так что помощь оказалась весьма недостаточной. Даже в апреле 1892 года, когда выдача ссуд приобрела наибольший размах, их получили лишь 11,8 млн человек, то есть около трети пострадавшего населения 9. И это притом, что размеры ссуды никак не спасали от голодной смерти. Дело доходило до того, что в той же Самарской губернии на нетрудоспособного едока выдавали от одного пуда до 10 фунтов и даже до 3,5 фунта в месяц или по 14,5 золотника в день 10. И если смертность во всех пострадавших губерниях в 1891–1892 годах увеличилась в среднем на 28%, то в Самарской она возросла на 56% 11. От еще более худшего уберег транспорт муки, прибывший в губернию весной 1892 года из Америки, и финансовая помощь английских квакеров, которых привезли в Самару граф П. А. Гейден и князья Петр и Павел Долгоруковы 12.
И все это нисколько не мешало сердобольным земским чиновникам щедро вознаграждать друг друга за усердие. «Волжский вестник» сообщал: «Слободскому председателю уездного съезда г. Рассохину земское собрание определило выдать 750 руб. на разъезды, на экипаж и шубу, глазовскому – г. Курептеву на те же предметы – 60 руб., вятскому председателю г. Шубину назначено заимообразно 300 руб. Саратовское уездное земское собрание назначило председателю своей управы г. Абакумову 3000 руб. в виде «награды». Нашли люди время для наградных подношений! На 3000 руб. 2,5 тыс. пудов хлеба купить бы можно. Аткарское земство назначило 1200 руб. пенсии бывшему мировому судье, а теперь земскому начальнику г. Гордеру, богатому землевладельцу, получающему, кроме того, по новой должности более 2000 руб. в год. Камышинское земство, самое бедное, постановило выдать 3000 руб. награды председателю своей управы г. Ляух» 13.
Прав был Плеханов, когда писал: «Эти ссуды, урезанные до нескольких золотников на едока; эта мука, негодная в пищу; эти «тридцать процентов сору», перевозимые на земский счет с одного конца России на другой; эти шубы, эти экипажи, эти награды, пенсии и займы, раздаваемые земцами друг другу, – все это есть самое бессердечное, самое бесстыдное издевательство над голодными, соединенное с самым недвусмысленным хищничеством. Недостаточно устранить таких людей от заведования общественными делами, их нужно было бы, по выражению Петра Великого, весьма лишить живота» 14.
Даже если отойти от столь эмоциональных оценок, неспособность бюрократического аппарата эффективно справиться с продовольственной проблемой была достаточно очевидной. Мало того, вся деятельность правительственных и земских продовольственных органов – в силу их коррумпированности – с самого начала довольно-таки дурно пахла. И трудно было сохранить порядочность и, как говорится, не испачкаться, сотрудничая с ними. Поэтому параллельно и как бы в противовес «официальной» помощи с лета 1891 года стала организовываться общественность.
Начало положил Лев Толстой, который – при всем своем неприятии благотворительности – стал создавать в Тульской губернии бесплатные столовые для голодающих. Поначалу правительство решительно выступило против общественности. Его поддержала и наиболее реакционная часть дворянства. Даже знаменитый лирический поэт Афанасий Фет и тот заявил, что крестьяне не нуждаются в благотворительности, ибо «бедствуют единственно только по своей лености и склонности к пьянству». Но когда общественная помощь, несмотря на противодействие, приобрела достаточно широкий размах, Александр III 17 ноября 1891 года издал на имя своего сына и наследника рескрипт. В нем, во-первых, он публично признал сам факт «недорода хлебных произведений», а во-вторых, учредил «Особый комитет» для руководства всем делом общественной благотворительности во главе с будущим государем Николаем II 15, который опирался прежде всего на губернаторов.
О событиях, происходивших в этой связи в Самаре, рассказывалось в воспоминаниях А. А. Белякова, М. П. Голубева, М. И. Семенова, написанных еще в 20-е годы. Однако в последнее время об этих мемуарах как бы забыли. И в новейших писаниях Волкогонова, Латышева и им подобных, а раньше – в зарубежных статьях Валентинова стали широко использоваться воспоминания В. В. Водовозова, опубликованные им в эмиграции в 1925 году.
Василий Васильевич Водовозов, о котором уже упоминалось в связи с поездкой Владимира Ульянова в Питер в августе 1890 года, прибыл в Самару осенью 1891 года. Рассказав в своих мемуарах о том, как был создан самарский комитет для помощи голодающим, он пишет: «Вл. Ульянов… резко и определенно выступил против кормления голодающих. Его позиция, насколько я ее сейчас вспоминаю, – а запомнил я ее хорошо, ибо мне приходилось не мало с ним о ней спорить, – сводилась к следующему: голод есть прямой результат определенного социального строя; пока этот строй существует, такие голодовки неизбежны; уничтожить их можно, лишь уничтожив этот строй. Будучи в этом смысле неизбежным, голод в настоящее время играет и роль прогрессивного фактора. Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создает пролетариат и содействует индустриализации края… Он заставит мужика задуматься над основами капиталистического строя, разобьет веру в царя и царизм и, следовательно, в свое время облегчит победу революции» 16.
Тупое и бесчеловечное доктринерство, приписываемое Владимиру Ульянову, настолько, по известным причинам, устраивало упомянутых выше авторов, что – откинув все иные свидетельства – они приняли именно эту позицию за аксиому, логическим продолжением которой стала позднее, по их мнению, репрессивная политика Советской власти по отношению к крестьянству. И поскольку это лживое утверждение получило достаточное распространение, стоит остановиться на мемуарах Водовозова несколько подробнее.
Итак, Водовозов пишет, что, прибыв осенью 1891 года из Архангельска в Самару, он сразу же сблизился с семьей Ульяновых. И уже в этом утверждении есть элемент неточности. Выше упоминалось, что в свое время в Питере он был знаком с Александром и Анной Ульяновыми. И незадолго до ареста Александра он дал ему для перевода статьи Маркса журнал «Немецко-французский ежегодник». Когда же Александра арестовали и над ним нависла смертельная опасность, у Василия Водовозова вырвалось лишь одно: «Как жаль, что такая ценная книга может теперь пропасть…» Об этой реплике в семье Ульяновых знали, и такое не забывается. Потому-то Мария Ильинична и подчеркивает, что в Самаре Водовозов «приходил больше к старшей сестре» Анне, с которой они «читали вместе по-итальянски» 17.
«У этого Водовозова, – вспоминая самарские годы, писал Дмитрий Ильич Ульянов, – была большая библиотека, так что вся его комната до отказа была заставлена книжными шкафами, все книги были чистенькие, в новых переплетах. Он очень дорожил своей библиотекой и, казалось, что книги любил больше, чем живых людей. По своей начитанности он, вероятно, был первым в городе, но эта начитанность, очевидно, так давила на его мозг, что сам он не представлял из себя ничего оригинального. Он не был ни марксистом, ни народником, а так, какой-то ходячей энциклопедией» 18.
Водовозов был старше Владимира Ильича, раньше него окончил университет, благодаря матери был лично знаком со многими знаменитостями, регулярно получал из-за границы революционную литературу, наконец, был сослан не куда-нибудь, а в далекий Шенкурск. И он вполне мог надеяться на то, что ему, а не таким провинциалам, как Ульянов или Скляренко, будут «смотреть в рот» симпатичные фельдшерицы, желторотые гимназисты и недоучившиеся студенты. Но, увы, этого не произошло.