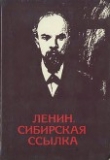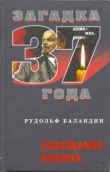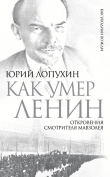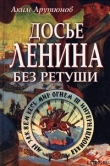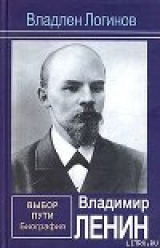
Текст книги "Владимир Ленин. Выбор пути: Биография."
Автор книги: Владлен Логинов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Нынче при упоминании слова «кулак» иногда делают вид, будто придумали его чуть ли не во времена сталинской коллективизации. Между тем в пореформенной России кулаки быстро набирали силу. И богатели они не столько за счет более рачительного и старательного хозяйствования, сколько в результате жесточайшей эксплуатации своих односельчан. В солидном журнале «Вестник Европы» в октябрьском номере за 1890 год было написано: «Во многих местностях образовалось какое-то новое крепостное право. Господами являются уже не помещики, а кабатчики, кулаки и мироеды, грубые полуграмотные хищники, разоряющие народ с беспощадной последовательностью» 19.
Постников также не ограничивается в своей книге констатацией имущественного неравенства среди крестьян. Анализируя взаимоотношения между деревенской беднотой и богатыми хозяевами, он приходит к выводу об «ожесточенной борьбе», являющейся «не борьбой общинных традиций и развивающегося в сельской жизни индивидуализма, а простою борьбою экономических интересов, которая должна окончиться роковым исходом для одной части населения, в силу существующего малоземелья», ибо «все слабое в хозяйственном смысле так или иначе, рано или поздно, должно быть выброшено из крестьянского земледелия» 20.
Н. Валентинов считал, что книга Постникова оказала на Владимира Ульянова огромное влияние. И он прав. Дело в том, что плехановские «Наши разногласия», доказывавшие вступление России на путь капиталистического развития, оперировали данными, завершавшимися 1880 годом. С тех пор прошло более десяти лет. И новые труды столпов народничества, приводя среднеарифметические расчеты дележа общинной земли за эти годы, казалось бы, опровергали доводы марксистов. И вот теперь…
«Я вспрыгнул от радости», – писал Герцен, начав читать Фейербаха. Вероятно, – замечает Валентинов, – нечто подобное было и у Ульянова при чтении книги Постникова. Эврика! Он нашел то, что искал, что ему было нужно, что замечательно дополняло и Маркса, и Плеханова, хотя Постников никакого отношения к марксизму не имел» 21.
Впрочем, как и многие другие серьезные эмпирические работы, книга Постникова страдала тем недостатком, что, поставив наиболее существенные вопросы крестьянской жизни, автор – оставаясь в рамках «чистой» статистики – не давал на эти вопросы сколько-нибудь удовлетворительных ответов. Точно так же как не мог он объяснить и выявленных им процессов, происходивших в российской деревне.
Поэтому, готовя обстоятельный реферат для самарских социал-демократов по книге Постникова, Владимир Ильич переводит ее богатейшие цифровые данные на язык политико-экономического исследования. И тогда количественные различия между тремя крестьянскими группами приобретают качественный характер, свидетельствуя о коммерциализации сельского хозяйства и дальнейшем углублении дифференциации общины по мере развития капиталистических отношений.
В 1892 году, выступая против попыток народников привнести в анализ социально-экономических отношений морально-этические категории «жалко – не жалко», «любит – не любит», Георгий Плеханов писал: «Научное изучение общественных явлений требует много спокойствия и, если угодно, даже холодного бесстрастия. Но зато только оно может создать прочную основу для страстной деятельности самоотверженного политического борца…» Иными словами, не логика исследования следует чувствам, а чувства должны следовать указаниям логики 22.
С тем, что надо ставить перед собой лишь задачи, которые основываются не на «желаемом», а на реальной действительности, Ульянов был абсолютно согласен. «Первая обязанность тех, кто хочет искать «путей к человеческому счастью», – написал он, – не морочить самих себя, иметь смелость признать откровенно то, что есть» 23. И книгу Постникова Владимир ценил прежде всего за то, что она давала картину реальной, а не придуманной жизни российской деревни. Но он никак не мог при этом не испытывать никаких чувств и оставаться холодным прагматиком.
Статистика, конечно, великая наука. Но ведь жизнь куда как сложнее. И тот самый, казалось бы, «не научный» вопрос – «жалко или не жалко» тех, кто, по словам Постникова, «так или иначе, рано или поздно» должен быть «выброшен из крестьянского земледелия», – для человека иной раз куда важнее, чем столбцы и таблицы самых наиточнейших цифр…
Именно эта, казалось бы, совсем «не научная» проблема и столкнула Ульянова не с кем-нибудь, а с самим Павлом Николаевичем Скворцовым, который, как отмечалось выше, в какой-то мере, прямо или косвенно, способствовал приобщению к марксизму самого Владимира.
В Казани в 1887–1889 годах они так и не встретились. В 1889-м Скворцов перебрался в Нижний Новгород, опять работал в земстве статистиком, по-прежнему писал в «Волжский вестник» и столичные журналы. Вокруг него и здесь сложился марксистский кружок, через который прошли Ванеев, Сильвин, Мицкевич, Леонид и Герман Красины, Владимирский, Гольденберг-Мешковский – многие из тех, с кем позднее придется вместе работать Владимиру Ульянову.
Именно в Нижнем, в мансарде дешевой гостиницы, которую называли «У Никанорыча», в августе 1893 года и произошла первая встреча Ульянова и Скворцова. В этой «маленькой комнатке, насквозь прокуренной, – вспоминал Михаил Григорьев, участвовавший в данной встрече, у нас с Владимиром Ильичем продолжались разговоры в течение шести часов» 24.
Много лет спустя, в 1929 году, Павел Николаевич в беседе с исследователем Г. Л. Бешкиным сказал, что спор шел главным образом о «развитии русского капитализма» 25. Ссылаясь на Энгельса, Скворцов утверждал, что разложение общины и «освобождение» крестьян от земли является единственным реально существующим вариантом дальнейшего развития. Этот путь прошли европейские цивилизованные страны, и иного, как бы это ни было прискорбно, не дано.
Заметим, кстати, что и Плеханов был достаточно близок к этой позиции. «Социал-демократы, – писал он в 1892 году, – не должны думать, что им легко будет предупредить предсказываемую Энгельсом экспроприацию крестьянства. Вернее всего, что это им не удастся. Но ответственность падет за это не на них, а последствия этого послужат опять-таки им на пользу» 26.
Важно отметить, что если Плеханов считал все-таки возможным для социал-демократов стремление «предупредить… экспроприацию крестьянства», то Скворцов любую попытку препятствовать данному процессу оценивал как реакционную.
От своего учителя профессора Зибера Павел Николаевич унаследовал и некоторую однобокость восприятия марксистской теории. Народник М. Е. Березин писал, что «Скворцов в разговоре с ним заявил, что его интересует больше теоретическое решение вопроса, а не практика революционного движения, и производил впечатление «человека не от мира сего» 27.
Некоторые отечественные и зарубежные биографы пытались раскрыть «ленинский феномен» с помощью нехитрого приема – определения той «книжки», которая сформировала мировоззрение Владимира Ульянова. И в самом деле, как просто: прочел Чернышевского, затем Нечаева или Ткачева, увлекся и позаимствовал их взгляды на цели и средства борьбы и вообще на смысл жизни.
Нынче таких примеров – людей «одной книги» – не счесть: читал человек всю жизнь скучные брошюрки по «научному коммунизму», а потом прочел вдруг Хайека – и открылся ему новый мир, и стал он сразу ярым либералом. Что ж, вполне возможно, хотя наверняка со временем узнает он и о совсем иных – «второй», «третьей», «четвертой» книжке…
А вот с молодым Ульяновым этот «нехитрый прием» никак не проходит, хотя известен не только весь круг его чтения, но и круг знакомств. Не увлекался он ни Нечаевым, ни Ткачевым. Чернышевским – да. Марксом – да. И, видимо, придется в этой связи согласиться по крайней мере с двумя выводами. Во-первых, с тем, что формирование его мировоззрения шло достаточно долго, а не было одномоментным прозрением. А во-вторых, что оно не могло носить сугубо «книжного» происхождения и характера.
Владимир Ульянов, при всей его молодости, был «от сего мира», и о проблемах российской деревни он знал не только по литературным источникам или статистическим справочникам. С раннего детства, еще в Кокушкине – и в неторопливых рассказах охотника Карпея, и в незамысловатых байках возчиков Романа и дяди Ефима, и в обыденных разговорах крестьянских ребятишек, с которыми играл в «бабки» и ходил в ночное, – приходилось ему слышать жалобы и сетования на безземелье, непосильные налоги и поборы. В Алакаевке все деревенские толки были о том же… Только теперь, помимо сочувствия и сопереживания, они пробуждали у Владимира глубокий интерес к изучению крестьянского хозяйства и быта.
А. И. Елизарова вспоминает: «Много заимствовал Владимир Ильич и из непосредственного общения с крестьянами в Алакаевке, где он провел пять летних сезонов подряд, по 3–4 месяца в год… Знакомясь в разговорах с общим положением крестьян, Ильич старался больше узнать от них, чем говорил сам, – во всяком случае, убеждений своих не высказывал» 28.
Спустя 30 лет, выступая на заседании Петросовета в марте 1919 года, Ленин скажет: «Кто бывал в деревне, тот знает, что лет 30 тому назад немало можно было найти в деревне стариков, которые говорили: «А при крепостном праве было лучше, порядку было больше, была строгость, баб роскошно не одевали»… Искренне добросовестные старики из крестьян и иногда даже просто пожилые люди говорили, что при крепостном праве было лучше» 29. «Лет 30 тому назад…» – это как раз Алакаевка.
Но были и совсем другие разговоры, которые, видимо, довелось ему слышать на деревенских сходах, когда сгоняли крестьян для зачтения какого-либо правительственного сообщения. Во всяком случае, о таких сходах он писал в 1906 году: «Соберутся крестьяне, прослушают молча, разойдутся. А потом сойдутся одни, без начальства. И станут толковать. Станут обсуждать правительственное уверение, что чиновники и правительство не отстаивают выгоды помещиков. Посмеются. Скажут: знает кошка, чье мясо съела!.. Скажут: как это мы, дураки, до сих пор не заметили, что выгоднее нам помещиков и чиновников слушаться, чем самим решать все дела?» 30 И это тоже картинка с алакаевской натуры, где в голодные годы мужиков не раз собирали для зачтения очередных сообщений «о мерах к улучшению крестьянского быта», дабы не зарились они на помещичье добро.
На хуторе Шарнеля познакомился Владимир Ульянов и с крестьянскими «смутьянами», которых власти всячески преследовали как «сектантов» за то, что свой протест они облекали в хитроумные рассуждения о том, как «жить по-божии». Именно здесь Владимир долго беседовал с известным на всю округу Амосом Прокопьевичем, описанным писателем Пругавиным, и не менее известным крестьянином Д. Я. Кисликовым. Амос из села Старый Буян был знаменит тем, что мог наизусть прочесть чуть ли не всю Библию. А Кисликов из села Гвардейцы, помимо того что хорошо знал Библию, еще и сочинял стихи.
Перетянуть их в разговоре от вопросов религиозных к житейским было нелегко, ибо главное, что занимало их, – «как придумать такую простую веру, без всякого обмана, которая бы сразу всех людей сплотила в единую семью?». Но поскольку собеседник слушал терпеливо и ясно было, что опасаться его не следует, то и о «мирском» они высказывали свое мнение. Так что беседы складывались к общему интересу и удовольствию 31.
Спустя 12 лет Ульянову вспомнились эти беседы…
В 1905 году общероссийское крестьянское движение выдвинуло, казалось бы, странный лозунг: «Земля Божья!» Сколько сетований на невежество, на дикие деревенские предрассудки было излито тогда со страниц либеральной прессы! И совершенно напрасно… Ибо реальное содержание данного лозунга было вполне конкретно и понятно любому мужику. Раз земля «Божья», она не может оставаться собственностью помещиков и должна стать общенародным достоянием. «Земля Божья, – говорили крестьяне, – а мы у Господа арендатели».
Именно тогда, весной 1905 года, Владимир Ильич вспомнил свои беседы с Кисликовым и написал Алексею Преображенскому в Самару: «Жив ли тот радикал-крестьянин, которого Вы водили ко мне? Чем он стал теперь?» 32 А Кисликов стал одним из тех революционных смутьянов, которые «словом Божьим» будоражили самарские деревни.
Так что Ульянов не зря любил повторять слова Маркса о том, что у крестьянина есть не только предрассудок, но и рассудок. И давний самарский знакомый Кисликов был одним из тех, кто помог ему понять эту истину.
Любопытный материал для размышлений давали и беседы с сельскими «мироедами». В мае 1890 года, во время одного из лодочных путешествий по Волге, в селе Екатериновка разговорился Владимир с местным торговцем П. Нечаевым, который был твердо убежден, что обнищание основной массы российских крестьян идет не с небес и не от Господа, а от «человеческой глупости и от жизни». А когда спутники Ульянова, народники, стали возражать, указывая на благодетельное влияние общины и артелей, Нечаев лишь раскатисто хохотал: хороши они лишь для сбора недоимок – благо круговая порука – да еще для выпивки, и то если мордобоем не кончится. «А для серьезной работы, для хозяйства – они ни к чему» 33.
Был он знаком и с кулаком Афанасием Балабиным, по прозвищу Каштан, описанным Глебом Успенским в «Трех деревнях». Когда во время голода 1891 года К. М. Серебряков передал шарнелевцам две тысячи рублей для помощи окрестным крестьянам, Каштан пришел к Алексею Преображенскому и пригрозил физической расправой, если «коммунары» вздумают помогать бедноте. «Надо поддерживать не их, – заявил он, – а нас, потому что у них никогда ничего не было и не будет» 34.
О других эпизодах вспоминала А. И. Елизарова: «Больше всякого материала почерпал он из рассказов Марка Тимофеевича Елизарова, происходившего из крестьян Самарской губернии и сохранившего тесную связь со своими односельчанами. Беседовал он и со старшим братом Марка Тимофеевича, Павлом Тимофеевичем. Это был так называемый «крепкий» крестьянин, разбогатевший арендой близлежащих удельных (т. е. принадлежащих царскому дому) земель и пересдачей их крестьянам. Самое популярное лицо в деревне, он бессменно выбирался в земские гласные. Как все люди его типа, он стремился к округлению капиталов, лез в купцы, чего позднее и добился. Помню, что меня удивляло, как подолгу, с каким интересом мог говорить Володя с этим полуграмотным, чуждым каких бы то ни было идеалов кулаком, и лишь позднее поняла я, что он почерпал у него данные о положении крестьян, о расслоении, идущем среди них, о взглядах и стремлениях этой экономической верхушки деревни. Заразительно, как всегда, хохотал он над некоторыми рассказами купца, и тот был чрезвычайно доволен оказываемым ему вниманием и проникнут большим уважением к уму Владимира Ильича. Но он не мог понять, что хохочет Володя часто не над тем, как ловко устраивают свои делишки деревенские купчины, а над народниками, над их наивной верой в крепость крестьянского уклада, в крепость общины».
И весьма примечателен комментарий А. И. Елизаровой к этому рассказу: «В этих разговорах проявлялось характерное для Ильича уменье разговаривать со всякой публикой, вытягивать из каждого нужное ему; уменье не отрываться от почвы, не быть задавленным теорией, а трезво вглядываться в окружающую его жизнь и чутко прислушиваться к ее звукам» 35.
Вот эти-то «звуки жизни», с детства запавшие в душу вместе с запахом свежескошенного сена и парного молока, умноженные на приобретенное научное знание, и не давали возможности Владимиру Ульянову равнодушно отнестись к разорению миллионов российских крестьян. Его мысль искала реальной возможности решения проблемы способами наименее болезненными и наиболее благоприятными для крестьянина-труженика. Потому-то и спорил он тогда – в августе 1893 года – со Скворцовым, полагавшим, что к экспроприации крестьянства надо относиться как к процессу естественно-историческому.
Опыт европейских стран действительно свидетельствовал о том, что жесткая дифференциация сельского населения в определенных исторических условиях неизбежна. Этим опытом, как правило, и оперировали марксисты. Но был ведь и иной опыт. И в поисках, как выразился Плеханов, возможности «предупредить предсказываемую Энгельсом экспроприацию крестьянства» Ульянов обращается к американскому опыту. Ведь именно там свободное фермерство на свободной земле нашло иной вариант решения проблемы развития капитализма в сельском хозяйстве.
И в первых же своих работах, написанных еще в Самаре, Ульянов формулирует идею экспроприации помещичьего землевладения и национализации земли, которые создали бы демократическую почву для расцвета «фермерских отношений» и подъема благосостояния всего населения 36.
Когда он высказал эти идеи Скворцову, Павел Николаевич взорвался и назвал его «ревизионистом», ибо он твердо знал: в последней главе первого тома «Капитала» говорится нечто прямо противоположное тому, что утверждал этот лобастый юноша 37.
Но обвинение в «ревизионизме» привело Ульянова к еще одному весьма существенному выводу, который он также сформулировал в своих работах: теория Маркса «дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России» 38.
«ПАЛАТА № 6»
Когда генерал Волкогонов писал биографию Владимира Ульянова, его более всего возмущало то обстоятельство, что Ленин, по его мнению, «фактически никогда не работал (в обычном понимании этого слова)» 1. И в самом деле – подумаешь, книжки читал, статьи писал – разве это работа?! Для генерала, военного чиновника и ангажированного пропагандиста, это было, по меньшей мере, нонсенсом.
И в этом смысле его позиция полностью совпадала с мнением провинциальных жандармских чинов, также полагавших, что любой образованный человек обязан – в соответствии с табелем о рангах – где-то числиться либо по военной, либо статской части.
Поэтому российская интеллигенция, дабы не попасть в разряд «неблагонадежных», всегда старалась сочетать самую бурную общественную деятельность с казенной службой. После получения университетского диплома эту проблему надо было решать и Владимиру Ульянову.
4 января 1892 года присяжный поверенный Андрей Николаевич Хардин подал в Самарский окружной суд рапорт о том, что «дворянин Владимир Ильич Ульянов… заявил желание поступить ко мне в помощники присяжного поверенного», а посему он – Хардин – и просит зачислить Ульянова таковым. Прошение было удовлетворено 30 января, но из-за отсутствия справки о благонадежности свидетельство о праве быть поверенным по чужим делам задержали до июля. Впрочем, к работе Владимир Ульянов приступил уже в марте 2. По этому случаю, видимо, именно тогда мать и сделала ему подарок.
В свое время, получив «генеральский чин», Илья Николаевич сшил для надлежащих визитов фрак. Подобных визитов оказалось немного, и после его смерти этот почти новенький фрак висел в шкафу. Теперь его извлекли оттуда, примерили – и хотя отец вроде бы фигурой был помельче – фрак Владимиру пришелся впору. И отныне, направляясь в Окружной суд для выступлений, он каждый раз облачался в сию непривычную одежду 3.
Нынешние критики Ленина пишут о том, что за краткое время своей адвокатской практики он провел лишь считанное количество мелких уголовных дел, из которых ни одного так и не выиграл. Между тем анализ юристом Вениамином Шалагиновым сохранившихся в архиве судебных дел, по которым выступал В. Ульянов, говорит о ложности подобного вывода.
Его первой защитой, 5 марта 1892 года, стало дело крестьянина Василия Муленкова, обвинявшегося по ст. 180 Уложения о наказаниях в «богохульстве». По этой статье любые «слова, имеющие вид богохуления или же поношения святых господних или же порицания веры и церкви православной», даже если они учинены были «без умысла оскорбить святыню, а единственно по неразумению, невежеству или пьянству», неизбежно и без всякого изъятия карались тюрьмой. И все-таки В. Ульянову удалось смягчить приговор, сократив срок наказания.
11 марта Ульянов выступил защитником по делу крестьян села Березовый Гай Михаила Опарина и Тимофея Сахарова, забравшихся в сундук к местному богатею Мурзину. Поймали их с поличным. Вина была несомненна. Но и в этом случае адвокату удалось смягчить приговор.
16 апреля слушалось дело крестьян Ильи Уждина, Кузьмы Зайцева и Игната Красильникова, батрачивших в сельце Томашеваколке. Они пытались украсть хлеб из амбара кулака Копьякова и были взяты на месте преступления.
5 июня – дело крестьянина М. С. Бамбурова. 9 июня – крестьян П. Г. Чинова, Ф. И. Куклева и С. Е. Лаврова.
И так дело за делом… Добился оправдания по трем мелким кражам совершенно обнищавшего крестьянина. Добился освобождения из тюрьмы и оправдания 13-летнего батрака Степана Репина. И, проанализировав все сохранившиеся восемнадцать дел, по которым выступал Ульянов, В. Шалагинов делает вывод: он выигрывал почти каждое дело – либо у обвинения против обвинительного акта, либо против требования обвинения о размере наказания 4.
Были и случаи отказа Ульянова от защиты. Так, по воспоминаниям Фаины Ветцель, он отказался защищать интересы крупного хлеботорговца Федора Красикова, нагло обворовывавшего крестьян.
– Лопатой бы денежки загребали! – поучал своего молодого коллегу старый адвокат Ященко.
– Заведомого вора защищать не хочу, – резко ответил ему Ульянов, наотрез отказавшись «брать ворованные деньги за защиту» 5.
Был случай, когда он отказался от защиты уже во время суда. 15 сентября 1892 года слушалось дело самарского мещанина Гусева, обвинявшегося в избиении своей жены кнутом. И когда, после душераздирающих показаний жены, вина Гусева была вполне доказана, Ульянов отказался сделать заявление о смягчении наказания для подсудимого.
А 19 ноября того же года ему удалось добиться отмены суда. Слушалось дело крестьянина деревни Светловки Филиппа Лаптева, обвинявшегося в ослушании и оскорблении своего отца. Наказание могло быть достаточно суровым, но под предлогом вызова дополнительного свидетеля слушанье отложили, а сына и отца Ульянов помирил: сын дал формальную расписку в том, что обязуется во всем подчиняться отцу, и дело на том было прекращено.
Одно из дел, которое вел Ульянов, получило довольно широкий резонанс. В мае 1892 года Владимир с Марком Елизаровым поехал в Сызрань. Оттуда они собирались в деревню Бестужевку к брату Марка Тимофеевича. Для этого надо было перебраться на левый берег Волги. Они наняли лодку и поплыли.
Но в Сызрани пароходную переправу держал известный купец Арефьев, ревниво оберегавший свою «монополию». Завидев лодку, он приказал догнать ее, «взять в багры» и прилюдно, с позором вернуть обратно. Проделывал он такое уже десятки раз, все к этому привыкли, полагая, что найти управу на самодура невозможно. И Арефьев был крайне удивлен, когда узнал, что какой-то Ульянов, без всякой выгоды для себя, подал на него в Самаре в суд за самоуправство по статье, предусматривавшей тюремное заключение без замены штрафом. Впрочем, купец был уверен, что при его связях и деньгах все сойдет ему с рук, как и прежде.
И в самом деле, иск передали в камеру земского начальника за сотню верст от города, а когда в июне Владимир добрался туда – суд отложили. Отложили его и поздней осенью, так что и второй раз Ульянов вернулся ни с чем. Поэтому, когда дело назначили к слушанию в третий раз, даже мать стала уговаривать его не ехать: «Только мучить себя будешь. Кроме того, имей в виду, они там злы на тебя».
Но он поехал, ибо обещал лодочникам засадить самодура. Дело выиграл. И даже спустя два года Марку Елизарову приходилось слышать от сызранцев: «А ведь Арефьев-то просидел тогда месяц в арестном доме. Как ни крутился, а не ушел. Позор для него, весь город знал, а на пристани-то сколько разговору было» 6.
Кстати сказать, и у самого Владимира Ульянова сценки из его адвокатской практики надолго остались в памяти. Зимой 1901 года в «Случайных заметках» он рисует картинку тогдашнего суда:
«Вот волостной старшина – я имею в виду провинциальный суд – конфузящийся своего деревенского костюма, не знающий, куда деть свои смазные сапоги и свои мужицкие руки, пугливо вскидывающий глаза на его превосходительство председателя палаты, сидящего за одним столом с ним. Вот городской голова, толстый купчина, тяжело дышащий в непривычном для него мундире, с цепью на шее, старающийся подражать своему соседу, предводителю дворянства, барину в дворянском мундире, с холеной наружностью, с аристократическими манерами. А рядом – судьи, прошедшие всю длинную школу чиновничьей лямки, настоящие дьяки в приказах поседелые… Не отбила ли бы эта обстановка охоту говорить у самого красноречивого адвоката, не напомнила ли бы она ему старинное изречение: «Не мечите бисера перед…»?» 7
За каждым из этих персонажей стоят вполне реальные прототипы: «Его превосходительство председатель палаты» – это Владимир Анненков, сын декабриста, дослужившийся до действительного статского советника; «предводитель дворянства… с аристократическими манерами» – сиятельный граф Толстой; «городской голова… с цепью на шее» – Петр Алабин; «дьяки в приказах поседелые», самарские судьи – Александр Смирнитский, Вячеслав Вейсман, Михаил Васильев, Иван Усов, Александр Мейер… Ну а «красноречивый адвокат», размышляющий о том, стоит ли «метать бисер…», – это, видимо, не кто иной, как помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов 8.
В апреле 1893 года ему исполнилось уже 23 года. И мысль о том, что время неумолимо идет вперед и используется оно отнюдь не лучшим образом, видимо, не раз приходила в голову Владимиру. Хардин, внимательно следивший за работой своего помощника, считал, что со временем из Ульянова выйдет отличный «цивилист» – адвокат, специализирующийся на гражданском праве. А пока – пусть занимается мелкими уголовными делами, которые дадут ему и судебный опыт, и интереснейшие жизненные наблюдения.
И мелкие дела продолжали идти одно за другим. 26 октября 1892 года Ульянов выступал в суде по делу мещан Д. А. Перушкина, 18 лет, В. И. Алашеева, 21 года, и А. А. Карташева, 22 лет, обвинявшихся в краже стальных рельсов у купца Духинова и чугунного колеса у купчихи Бахаревой. Суд был не долог: виновные, пойманные с поличным, признались в содеянном и после речи Ульянова получили по минимуму.
Конечно, можно было надеяться на то, что через год-другой ему станут поручать более серьезные и более громкие дела. А если бы он собирался стать бытописателем, то даже на мелких делах вполне можно было бы собрать богатейший материал о нравах провинциального городка. Но для человека, который все более определялся как деятель общественно-политический, этого было уже мало. И за еще и еще один «год-другой» от судебной рутины, от «чугунного колеса купчихи Бахаревой» и подобных дел можно было просто свихнуться.
Помните разговор Ольги и Ирины в чеховских «Трех сестрах»?
«– У меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы и молодость. И только растет и крепнет одна мечта…
– Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву…
– Да! Скорее в Москву».
А еще лучше, добавил бы Ульянов, – в Питер…
Но может быть, это лишь сугубо литературные реминисценции? Отнюдь… «Издали из провинции, – писала в своих воспоминаниях В. И. Засулич, – Петербург представлялся лабораторией идей, центром жизни, движения, деятельности, и молодежь, желавшая посвятить себя революции, по выражению Чернышевского, посвятить себя «делу»… рвалась в Петербург…» 9
Основания для самых радужных надежд у Владимира были. Еще в 1891 году, когда он весной и осенью приезжал в столицу для сдачи экзаменов в университете, по рекомендации А. А. Шухта Ульянов познакомился с преподавателем аналитической химии Технологического института Людвигом Юльевичем Явейном и заведующим химической лабораторией Александровского чугунолитейного завода при Николаевской железной дороге Альбертом Эдуардовичем Тилло.
Оба они, еще с начала 80-х годов, лично знали Фридриха Энгельса, Вильгельма Либкнехта. И это уже само по себе, видимо, должно было произвести огромное впечатление на молодого марксиста. Мало того, еще в Казани Владимир мечтал прочесть книгу Энгельса «Анти-Дюринг», в которой, как ему говорили, «поставлены все принципиальные вопросы марксистского мировоззрения». Но ни в Казани, ни в Самаре книги не было. А здесь, в Питере, ее просто взяли с полки домашней библиотеки и вместе с новейшими номерами немецких социал-демократических журналов дали для прочтения и конспектирования… 10
И наконец, может быть, самое главное – именно в это время Петербург все более выдвигался как центр нарождавшегося массового пролетарского движения, которое, по твердому убеждению марксистов, должно было освободить Россию. Именно тогда, в начале 1891 года, во время забастовки судостроителей завода «Новое адмиралтейство» социал-демократическая группа М. И. Бруснева, имевшая достаточно широкие связи со столичными рабочими, установила контакт и со стачечниками. Владимир был в это время в Самаре. Но 12 апреля 1891 года, когда умер писатель-шестидесятник Николай Васильевич Шелгунов, Ульянов находился в Питере.
В свое время статьи Шелгунова по рабочему вопросу имели большой резонанс, и его похороны превратились в политическую демонстрацию. Преобладали студенты, курсистки. Пришли гимназисты и реалисты. Присутствовал сам Михайловский и другие знаменитости. Но самым неожиданным стало появление нескольких десятков рабочих. И среди множества венков был и их металлический венок с темно-зелеными дубовыми листьями и лентой с надписью: «Указателю пути к свободе и братству». После реакции 80-х годов это был чуть ли не первый публичный политический протест.
Несмотря на то что похороны были санкционированы, полиция препятствовала движению, оттесняла демонстрантов с центральных улиц, отбирала венки. В толпе шныряли шпики. Но свой венок рабочие не отдали, и перед самым Волковым кладбищем его понесли гимназисты, среди которых был худенький и очкастый Юлий Цедербаум. «Я жадно всматривался, – вспоминал он, – в лица рабочих, стараясь изучить неведомые мне типы представителей подлинного народа. Они все казались мне значительными, особенно пожилой и молодой «вожаки». Вслушивался в их разговоры и, к удивлению и разочарованию, слышал обыденные суждения об обыденных вещах. И только когда на пути происходили новые небольшие столкновения с полицией, отдававшей нелепые или противоречивые приказания, я в выражении лица некоторых из рабочей молодежи схватывал восхищавшую меня готовность пустить в ход кулаки и с не меньшим удовольствием слушал острую, хотя и цензурную, ругань» 11.