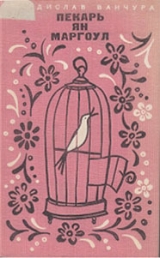
Текст книги "Пекарь Ян Маргоул"
Автор книги: Владислав Ванчура
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
К тому же нельзя было больше запрягать собак в тележку. Ян поставил ее на полозья, но Доп и Боско проваливались в сугробы – рыхлый снег подавался под их тонкими лапами. Пришлось самому Яну таскать поклажу – он выезжал ночью и ночью возвращался; достигал отдаленных деревень и выкликал свой товар – как разносчик, торгующий огурцами или известкой. он мерз и оттого опять стал пить. Так прошло десять дней. Тогда Йозефина подсчитала выручку и заявила:
– Ян, ты работаешь в убыток. Печешь хлеб два раза в педелю, его мало, а все равно не расходится. Нам даже не хватало бы на дрова, коли б мы их покупали.
Ян молчал. Лицо его гасло и вновь разгоралось. Наконец он заговорил:
– Господи, если уж мое ремесло плохое, так какое же хорошее? Встану завтра в четыре и схожу в Бенешов; почему бы горожанам не отведать деревенского хлебушка?
«Мой хлеб, мой хлеб!» – твердил Ян, и ветер из счастливых краев падувал его шутовской плащ. Ян представил себя в Бенешове продающим хлеб. Он остановится на рынке, потом на улицах, потом – против своего дома, на южной стороне площади…
«Вот он я – пекарь, вернувшийся в родной город! Забудьте свою неприязнь, покупайте хлеб, лучше которого нет нигде, пойдите мне навстречу, спешите – ради Йозефины, ради нашего сына, встречайте пас триумфом! Я хочу вернуться, я никогда не питал гнева ни против вас, ни против этого паршивого местечка, которое все равно – моя родина. Я вовсе не хотел сказать тогда, что управляющий Чижек – вор, и я знаю, что в каждом из вас есть хоть капля доброты. Ах, моя прежняя печь лучше теперешней, верните ее мне, ведь она не перестала быть моей. Я выходил на крыльцо, ослепленный ее жаром, и все же узнавал вас, вас всех, проходивших через площадь пли по тротуарам, я видел, потому что знаю вас, и до сих пор представляю себе, как вы шлепаете в туфлях вокруг стола, и слышу, как вы говорите: „Ступай на улицу, Ян Маргоул продает хлеб, ступай, купи буханку и булочек с маком…“»
Ян встал затемно и, впрягшись, потащился в город. За спиной, как проклятье, скользили сани. Добравшись, он не стал разыскивать друзей, как обычно. День выдался морозный, и Бенешов лязгал зубами.
Каким ненужным, каким глупым было это путешествие! Кому в городе мог Ян продать свой хлеб? Может, сбыл бы буханку-другую в трактирах, может, какая-нибудь бедная женщина взяла бы еще каравай, но для этого нужно бы ходить от дома к дому. А Ян вместо этого прошел по четырем улицам, постоял на площади. У него окоченели руки, он ни о чем не думал, и все же отмечал качанье некоего маятника, от которого зависит решение. Ян опьянел от холода и маяты, и внешний мир доходил лишь до порога его сознания. Помедлив у замерзшего фонтана, он двинулся в обратный путь – и за спиной у него опять визжали полозья.
Он вернулся, еще более жалкий, чем когда-либо прежде. Морозные дни громоздились один на другой, и вместе с ними росла нужда. У Маргоулов кончилась картошка, кончилась мука. Они ели старый хлеб да хлебную похлебку.
Декабрь, январь, февраль – три месяца тянулись, как ночь, лишенная утра. То был провал во времени, и на дне провала спали эти голодные люди. Исподтишка, без пугающих признаков, без грома и небесных знамений, без уханья совы, все ниже и ниже наваливалось бедствие. Йозефина работала, работал Ян, да много ли проку от браконьерства? В герцогских угодьях не было ни пальм, ни хлебных деревьев. Иной раз попадется заяц, заверещит в силках – ну, Ян заберет его. Иной раз продадут надельготским крестьянам последний стул – тем и кормились. Стояли голодная зима и ночь, небо сыпало снег, сыпало снег само время, и обессилевшие бродяги замерзали среди равнин.
Зимняя ночь – и напрасен зов.
– Да если б был июньский полдень, – сказала Йозефина, – и вся площадь глазела б на наш голод, и тогда зря только звали бы мы на помощь, разве что вместе с нами завопили бы все бедняки.
– Да, – ответил Ян. – Но бедняки так же немы, как ты и я, как Рудда. Впрочем, даже если дать по дукату каждому бедняку – разве это поможет? Были у меня деньги Дейла и деньги Рудды – где они? Власть над деньгами – вот в чем богатство, а сами деньги – только знак этой власти.
Между тем близился срок платы за аренду, и Маргоул отправился в замок. Он шагал по той же дороге, что полгода назад, по теперь опасения занимали в душе его место надежды. В пути он несколько раз останавливался, а когда в конце концов вошел в ворота замка – ноги его были такие же тяжелые, как сердце.
Герцогскому управляющему было известно, как живется арендатору в разрушенной мельнице; он знал о всех починках и о том, что выручка скудна, но не сомневался, что арендная плата будет внесена вовремя.
Когда Маргоул вошел, управляющий разговаривал со служащими; увидев Яна, он отослал его к казначею – платить. Маргоул медлил.
– Я не принес денег, – вымолвил он наконец. – У меня нет.
Управляющий поднял глаза, и взгляд его настиг Маргоула, как проклятье – грешника.
– Эт-то что еще?
– Нет у меня денег, – повторил Ян недрогнувшим голосом.
Усердие высекло из взгляда панского слуги новые искры; и Маргоул в третий раз повторил, что у него нет денег.
Я починил вам мельницу, и если б у меня хватило средств на приводные ремни и некоторые детали, которые нельзя исправить, можно было бы пустить воду.
Все это меня не интересует, я не нанимал вас для такой работы.
Когда я просил у вас надельготскую мельницу в аренду, вы были снисходительней, сударь, – промолвил Ян.
Да, но вы этой снисходительностью злоупотребили, – возразил тот. – Прошло шесть месяцев – платите!
– А если не могу, что вы сделаете? – спросил Ян. Управляющий заколебался – секунда повисла над его губами, как молот над поковкой. Потом он сказал:
– Будь мельница моя, я бы, может, не решился выселять вас среди зимы; но я только управляю владениями герцога. Итак, платите, что следует, а не заплатите – вас выдворят силой, по суду.
Оставалось только ударить Яна по лицу и выставить его за дверь, но управляющий не был настолько последователен; он уткнул нос в бумаги и сделал вид, будто собирается писать.
– Это все, – сказал он. Маргоул ответил:
– Мне некуда идти, и я буду ждать – пускай будет все так, как вы сказали.
Он побрел домой, оставляя в глубоком снегу жалкую цепочку следов. Надо было идти; он шагал, устремив все внимание на отпечатки своих чиненых башмаков.
Лес был белый, и поле белое. Вороны слетались к амбарам, низкое солнце стыло над горизонтом.
Наконец он пришел домой и стал рассказывать. Йозефина ужаснулась.
– Просить было напрасно, – сказал Ян. – Управляющий – слишком усердный исполнитель, и герцогская казна того требует.
– Значит, нас выселят по суду!
Да, – ответил Ян. – Придется уезжать из Надельгот, как уехали из Бенешова.
Теперь гораздо хуже, Ян. Неужели ты не мог попросить, чтоб он дал нам отсрочку?
Дело не в словах; я мог говорить что угодно, а нужны были только деньги.
Тогда почему ты его не ударил?! – воскликнула Йозефина.
Но Ян считал, что отчаиваться рано, они еще не на улице, а впереди ночь и день, прежде чем что-нибудь изменится. Последний час не настал.
Лик чудовища после того, как оно село во главе стола и ест и спит с нами, не так уж страшен. Дом Яна стал прибежищем горя-злосчастья; оно клало костлявые руки ему на грудь и ело из одной миски с Яном Йозефом. Бескровное, одетое в будничность, глазеет оно из темного угла, по при виде его никто не замирает от ужаса. Оно – тут. Скулит, сипит, хрипит – бедняки хорошо знают его голос. Опять явится судебный исполнитель, и Маргоулы потащатся дальше со всеми своими пожитками. И горе-злосчастье, каркая, поплетется за их тележкой. Таков дом, таковы дороги бедняка. Йозефине хотелось бы плакать день и ночь – по много дела на кухне, и жена должна ежедневно творить чудо приготовления обеда.
– Ешьте, – говорит она, когда похлебка на столе. Соленая, горячая похлебка во сто раз полезнее слез. День, настигаемый ночыо, сменялся новым днем, а от управляющего не приходило вестей. Так миновал месяц.
Тогда в Надельготы прикатил на паре Немец, боусовский мельник; осмотрев мельницу, он сказал Яну;
Я ее арендую, только я не такой дурак, чтоб соглашаться на плату, которую назначили вам. Мельница малость приведена в порядок, и, хоть немногого стоит, я все-таки хочу попробовать. Что касается вас, может, договоримся, сам я не собираюсь переезжать в эту глушь. Здесь будет жить мельник Дурдил и, если хотите, вы.
С большой охотой, – отозвался Ян.
Боусовский мельник был скряга и шкурник, из тех, что в кармане кожаных штанов носят бумажник, туго набитый сотнягами, и до смерти не любят выпускать гроши из рук. Космы его волос спадали на воротник, грязная пасть издавала трубные звуки. он чуть не лопался от самоуверенности, трубя свою волю во все стороны.
Оставайтесь тут, – приказал он Яну и один облазил всю мельницу. – Вы будете жить в комнате, каморку займет мельник.
Ладно, – ответил Ян, – но скажите мне, на каких условиях и что я должен буду делать для вас?
Печь хлеб; я буду давать муку, и вы через день будете выпекать по сорок буханок определенного веса; насчет дров я решу позднее.
Выходило, что Маргоул делался подручным мельника, не получая никакого вознаграждения, если не считать жилья да права выпекать из Немцовой муки немного хлеба для себя. Но Ян не мог отвергнуть предложение.
Сад и те несколько деревьев за мельничной запрудой – мои, но, если хотите, могу сдать их вам в аренду за отдельную плату.
Эти дички? – удивился Ян. – На что они мне?
Коли будете думать только о своей выгоде, мы с вами каши не сварим, – заявил бородач.
Ян ответил:
– Поверьте, сударь, я ничего не требую и ни о чем не хлопочу, кроме одного: чтоб зарабатывать хоть пятьдесят гульденов. Я слишком долго работал на этой мельнице даром, да и покалечился малость. Думаю, вряд ли вы арендовали бы надельготскую мельницу год назад, когда перекрытие держалось вон на тех трухлявых балках, крыша протекала, а на чердаке пол прогнил!
– В чем дело, – сказал мельник, – вас никто не заставляет, можете уходить, если угодно. Но фруктовый сад, заборы, ограда и весь двор не должны оставаться в таком жалком виде, как сейчас. Подумайте и решите, что лучше – жить тут или убираться? Так что, Маргоул, берите-ка вы весною кельму да пилу и принимайтесь за работу; когда-нибудь я вас отблагодарю, и за деревья тоже.
С этими словами Немец положил свою большую руку Яну на плечо; Ян молчал. Невольно в нем распрямлялось какое-то сопротивление, поднимались к горлу слова, грозившие разрушить только что достигнутый уговор, – но тут вошла Йозефина, и Ян ничего не сказал. Так состоялась гнусная сделка между Яном и мельником Немцем. Бородач отряхнулся, пережевывая удачное дельце, и влез в бричку, объяснив предварительно и Йозефине, что от нее требуется.
– Пошел! – крикнул он, и кони побежали. Ян, глядя ему вслед, промолвил:
– Смотри, как этот волк в мельничьей шкуре, которому место в самом пекле, исчезает из глаз, будто возносится к снежному небу!
С того дня кончился для Яна скорбный и жалостный период аренды, который только и дал ему, что звание несостоятельного должника. Семь тощих месяцев были как семь коров фараоновых. Что будет дальше? Скаредность боусовского мельника не мешала Яну ждать будущего с волнением новой надежды.
Вскоре на мельницу прибыл мельник Дурдил; не обратив никакого внимания на Надельготы, на Яна, он принялся перетаскивать к себе в каморку свой скарб: солдатскую койку, узел с постелью, сундук и еще какое-то барахло, о котором заботился больше всего. Ян заговорил с ним, но из этого человека нельзя было слова вытянуть, он молча волок ящик, в котором пестрела смесь всякого хлама, и только кивал, слушая речи Маргоула. Мельнику было лет сорок, и вид он имел изможденный – на лице его лежал отсвет недуга, обычного для работников этой профессии.
Наконец, после того как Ян внес последний баул, мельник, усевшись на койку посреди каморки, заговорил.
Я не буду мешать вам, Маргоул, – сказал он, – мне бы только было где поставить вещи. Болен я.
Ах, – возразил Ян, – нет такой болезни, которая со временем по прошла бы. Зачем такие мысли? Мир и Надельготы слишком хороши, чтоб трусить, живя в них.
Э, – ответил мельник, – мы, в которых вцепилась смерть, у кого она сожрала без остатка легкие, потеряли мужество. Видал я, как надежда приподымала бедняг даже на смертном одре, но сам-то я – умный больной.
Что же вы так? Не успели приехать, не успели зайти на мельницу, которая вас ждет, не успели подышать ветром нашего края, как уже проклинаете его? Неужели край наш – могила, а сами вы разве не живой человек посреди своих, таких разных, вещей? Ваша покорность судьбе – всего лишь бесовское наваждение, и стоит вам твердо взглянуть ему в лицо, оно исчезнет. Эх, был бы я молодой да было б у меня вдоволь денег, чтоб пустить в ход эту развалину, – ее голос убедительнее всяких слов.
Я жил не так уж далеко, – сказал чахоточный, – чтоб не знать о Надельготах почти столько же, сколько вы, мастер; я и вас знаю по рассказам.
Да, – кивнул Ян, – вот уже несколько месяцев держатся морозы, и нам нелегко живется, но до того я продавал достаточно хлеба, и мы не нуждались.
Знаю, – сказал мельник. – А теперь Немец будет продавать ваш хлеб в тех же местах.
Ян встал и, словно его заставляли, спросил резко, требуя ответа: – Где?
На Мрачской дороге.
Так я и думал, – сказал Ян. – Значит, он хочет отнять у меня последний заработок. Он будет продавать хлеб моего печения моим же клиентам, да еще, чего доброго, заставит меня же развозить этот хлеб, как я развозил свои собственный!
Недаром говорят, что у боусовского мельника два горба, – заметил Дурдил.
Встреча с бородатым Немцем кое-чему научила Маргоула; он понял хищность, скупость и жестокость этого пройдохи, в котором ничего не было, кроме прожорливого брюха да луженой глотки.
– Немец, живодер и сквалыга, только один здесь такой; больше никто не запирает закрома, когда бедняк приходит за платой. Боусовский мельник – отщепенец, тем более пускай он меня не очень-то погоняет, не то как бы терпенье мое не обернулось гневом. Я беден, по теперь уже знаю себе цену, и коли он попробует не платить мне – получит той же монетой. Видывал я злых и скупых, которые прямо зелеными делались от своих пороков и мало на людей походили, но ведь этот волк за мельника себя выдает.
Яну казалось, что хищные люди – не люди вовсе, а между тем таких уродливых исключений – что деревьев в дремучем лесу. Пока у Яна была своя пекарня, ему не приходилось сталкиваться с кровопийцами; ведь он работал не за плату.
Ян, – сказала Йозефина, – тебя словно подменили, ты даже долгов никогда не спрашивал, а теперь вдруг требуешь больше, чем обещано.
Никто не был мне должен больше, чем мельник, и никогда я так много не терял, – возразил Маргоул.
Пять лет прожил Ян в Надельготах немцовским пекарем, пять лет тянулся этот спор, и пять лет росло чувство обиды.
За дверью, к которой был приставлен шкаф, ночи напролет стонал больной Дурдил. О, ложе чахоточного, лужа страшного пота, лишь слегка прикрытая яма, ежеминутно грозящая разверзнуть могильную пасть! Но Дурдил всякий раз вставал от своих кошмаров и принимался за свой немощный труд. Приходил Ян и работал с ним вместе. Носил мешки, ссыпал зерно, пускал и останавливал мельницу.
– Ян, – говорил Дурдил, – кабы не ты, хозяин давно прогнал бы меня, ведь ты делаешь больше половины моей работы.
Ян смеялся. Стучала мельница, пылала печь, над надельготским лесом взмывали дни – как огонь, и туча, и мороз. Ян был счастлив при свете этих дней. Не громоздились перед ним вершины, не открывалась бездна у его ног – он оставался на месте, почти исцеленный от своего безумства. Садились за стол вчетвером: Йозефина, мельник Дурдил, Ян и Ян Йозеф. Ели похлебку и все, что можно состряпать из муки; больной тоже ел, потому что вокруг миски поднималась спешка. Так наслаждались они едой, насыщаясь, как люди, познавшие голод.
Яну Йозефу исполнилось уже одиннадцать лет; он стал одним из тех подростков, которые, подобно ангелам, мечут стрелы из колчанов счастья во все, что ни увидят.
Растрепанная хрестоматия с невероятно грязными тетрадками висели, стянутые ремней, на гвозде, из нее торчало перо с разошедшимися остриями, будто вечность, шагающая в Рим. Ян Йозеф был прежде всего пастушонком, кучером, подручным мельника, у пего не оставалось ни минуты на то, чтоб, играя ручкой, выводить каракули для учителя. Он вставал в пять и, торопливо одевшись, выгонял козу, чтобы пасти ее до семи. Часто гонял он свою выменистую дерезу далеко от хорошего пастбища, чуть не к надельготской околице, чтоб повидаться с другими пастушатами. Он был забияка и врывался в стайку мальчишек, готовый стыкнуться, сцепиться, схватиться, гоняться и принимать удары. Пока пастухи проделывали все это, брошенные козы бродили по бесплодному пустырю, негодующе топая копытцами. Тогда какая-то умная голова придумала для них отменное угощение тут же, на месте. Взяв веревку, мальчишка пригнул молодую ольху так, чтоб коза могла объедать верхушку. И началось истребление ольшаника, пока лесники размахивали дубинками у себя по домам, а учитель чинил перо. Но в конце концов возмездие, хоть и хромая, запаздывая, все же пришло. Вот – спущен разбуженный лук, чудовищной стрелой взметнуло вверх козу! Стекайте, воды ручья Париса, трепещите, пастухи! Удавленница, не доставая какой-нибудь пяди до земли, уже погибает в петле. Уже чуть слышно блеет бедная козочка, ее стянувшийся от ужаса пузырь пустил струю, и судорожно дергаются ноги, как бы карабкаясь отвесно в небо.
Ян Йозеф увидел ее, закричал, показывая пальцем вверх, туда, где она висела.
Козу спасли, но – как будто это событие было недостаточно грозным – продолжали сгибать ольхи и привязывать к ним коз.
Для мальчишек нет ничего неприкосновенного, они губят деревца с жестокостью, достойной Кровавой Руки. Они воруют яйца из гнезд, свертывают головы птенцам, мучают мух и общинных коз, нисколько не устрашенные единицей за поведение, что сверкает в годичном табеле, подобно блещущему копью после доброй схватки. Ян Йозеф был одним из таких сорванцов. Черт давно унес ангелочка, который когда-то вычерпывал море у огромного корыта с тестом. Теперь он шлепает по грязи многих ручьев, то строит мельницу в канаве, то гоняется за белкой, наврав мальчишкам, что она ручная; а то кощунствует, безбожник, отправляя большую и малую нужду В открытых со всех сторон местах. Ян-старший ужо бог знает сколько раз вытягивал его ремнем, а парень по-прежнему является домой черный, как трубочист, весь мокрый и растерзанный. В семь часов утра, проглотив завтрак, он мчится в школу, прижимая к геройской груди ужасную хрестоматию и еще более ужасную тетрадь. Само собой, он часто опаздывает, и тогда его, как соню, ставят в угол. Он отбывает наказание так, чтоб те, кто его видят, сипели от сдавленного смеха. Старенький учитель, с трясущимся беззубым подбородком, любит всех этих истребителей зябликов, но в случае необходимости отлично может всыпать двадцать пять горячих по натянутым штанишкам. От такого крутого правосудия содрогаются надельготские холмы и леса. Но вот является арифметика с перстом у шишковатого лба и вскакивает на плечи отроков, и погоняет их, вбивая в шалые головы то одну, то другую из своих тайн. Детишки на первых скамьях пускают лужицы со страха при виде цифр с тремя пузатыми нулями, но Ян Йозеф умеет их назвать; он складывает, вычитает, делит и множит все знаки, какие только есть в арифметике. И пока малыши, подперев мордашки, ротозейничают, вместо того чтоб списывать в тетрадки «и» и «е», со страшной силой впечатанные в доску, – отделение Яна Йозефа постигает арифметические истины: 9х9 = 81.
О учитель, самый старый друг этих шестидесяти пяти ребят, если б ты мог увидеть свой класс через тридцать лет! Девочки с тугими косичками на затылке превратились в женщин, почти без исключения бедных, а мудрость твоя сопровождает их. Тобой обученные, читают они письма сыновей, и в думах своих, тяжких, как раздумья ломовой лошади о свободе, повторяют то, что ты рассказывал о далекой звезде, восходящей в тот счастливый миг, когда им дано наконец обнять свое дитя. А эти головорезы, эти губители красношеек и синиц стали мужиками, смирными и печальными, как все рабочие люди.
Но вот зазвучала скрипка учителя, и класс грянул: «Над запрудой, под запрудой гуси на лугу…» Поется это, без сомненья, о надельготской мельнице, потому что ее все знают, а другие далеко и совсем не так красивы.
В полдень мальчики в девочки выбегают из школы, но Яну Йозефу и еще нескольким дальним ученикам не обернуться за часовой перерыв. Они остаются в классе, где сейчас же начинается торговля ломтями хлеба с салом.
В три часа все расходятся по домам, и крик их пронзает лес и небо.
У Яна Йозефа никогда не водилось и крейцера, хотя Дурдил каждое воскресенье дарил ему пятачок. Мальчик употреблял эти деньги, как если бы был Маргоулом-отцом. Мальчишка, способный подраться из-за ломтя, не всегда ему принадлежащего, с готовой душой, мужественно и без сожалений расставался со своими несколькими грошами, сам не зная, куда их дел: раздал, одолжил, потратил без толку.
Ян Маргоул жил на надельготской мельнице ужо седьмой год; мечты его утратили былое неистовство – и все же он почти не поумнел; разве только понял, что Немец требует от него даровой работы и отнимает у него хлеб. Эта мысль бередила гнев. Если бы Ян платил Немцу той же монетой, мельнику пришлось бы убраться из Надельгот с отощавшей мошной. Но Ян работал хорошо и даже вдвойне хорошо, выполняя многие тяжелые труды за Дурдила.
От каждой выпечки Яну оставалось пять караваев, они были его собственностью, он мог продать их. Из этого числа Ян Йозеф уносил две штуки, отправляясь в школу, и получал за них деньги по субботам. Два каравая продавал Маргоул, а пятый ели сами. Два или три раза в год Яну удавалось сэкономить немного муки, тогда он выпекал для себя десять караваев и развозил их на собаках, в вернувшись, вынимал из тележки платок для Йозефины, какую-нибудь чепуху для Яна Йозефа и бутылку паленки. Ее распивали в Дурдиловой каморке, испытывая радость, которая, что ни говори, находится на дне бутылки.
Однако Йозефину не радовали случайные приработки, они не давали былой уверенности. Она не верила больше ни Яну, ни судьбе.








