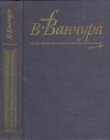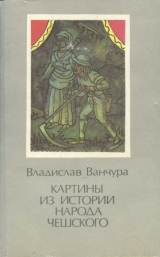
Текст книги "Картины из истории народа чешского. Том 2"
Автор книги: Владислав Ванчура
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Владислав Ванчура
Картины из истории народа чешского. Кн.2-3.
Правдивое повествование о жизни, делах ратных и духа возвышении
VLADISLAV VAN?URA
OBRAZY Z D?JIN N?RODA ?ESK?HO 2–3 1940

2 ТРИ КОРОЛЯ ИЗ РОДА ПРШЕМЫСЛОВИЧЕЙ
3 ПОСЛЕДНИЕ ПРШЕМЫСЛОВИЧИ
Перевод с чешского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1991

СМЕНА ВРЕМЕН



После бурных времен к началу средневековья среди народов ожило преклонение перед латинской цивилизацией, и эти народы вступили в новые сообщества. Просвещение, переживавшее крушение государственной власти, исполнилось христианского духа, и Церковь, сокрушительница римских императоров и противница светской власти, сама сделалась олицетворением империи. В способе мышления, в ремеслах и во всех видах работ возобладали в те поры возродившиеся обычаи Вечного Города, и строители, и писари, и работники возвращались к привычным способам труда. Но как это обыкновенно бывает, когда сходные явления совершаются в различные эпохи, соответственно времени и согласно новому назначению изменился и сам смысл прежних форм труда, и взаимосвязь, и общность веры христианской и веры языческой сделалась нечеткой и невнятной. Общая их сущность продолжала жить в подсознании, в забытом опыте, в беспечности и в каком-то ощущении счастья.
Это можно утверждать о южных областях Европы, на Западе – о Франции, а позднее – о некоторых землях, которые вошли в Немецкую империю.
Так вот, в этих пределах век старый постепенно сменился веком новейшим, зато на север от границ римских влияний, где распростерлись земли государства Чешского, подавляющее большинство земель Немецких, а также польские и скандинавские владения, долго владычествовали туземные, домашние нравы. И два эти различные округа отличались друг от друга как далекие несовместимые миры. Первый мир был миром взаимосвязанных латинских влияний, а другой, как напоминают нам книги, был подобен целине, изборожденной глубокой вспашкой. Был варварским и святым в одно и то же время. В нем бурлили силы жизни, но когда эти силы и эта жизнь столкнулись в широком потоке, из столкновения возник новый дух и новое мироощущение. Так во главе исторических свершений вставали земли, до сих пор мало известные, и события, в них происходившие, воспринимаются в то время как новые устремления, правда которых очень трудна для понимания. Так и возник мир северный, то есть вышеупомянутая целина, как пастбище Агнца. Ему было предоставлено главнейшее место. Его есть дух, выбор и решимость, но способ действий и внешний романский облик принадлежат областям старого влияния.
Но когда великолепная пора близилась к завершению и работа, которой соответствует определение «духовная», пресеклась, а дух и страстное увлечение, проявлявшиеся во все новых и новых формах, стали ограничиваться и, как стреноженная и страшная сила, были заключены в жесткую схему, то казалось, что в Чехии поток славных свершений тоже прекратился. Тогда в Чехии правили князья, лишенные благородства; император приказывал им, распоряжался и помыкал ими, а нищета и нехватки повергали народ в уныние. И возвысился чешский народ над своим образом. Он был подобен ставшему на якорь кораблю, который души не чает в водах, но это был более образ, чем тело, скорее невнятная мысль, нежели поступок и жизнь. В эту эпоху формы романской жизни стали обыденными явленими. Вещи своеобразные стали рядовыми, а дела, прежде долгожданные, жили лишь в тенях повторений.
И сталось так, что именно в эти времена обморока жажда вольной жизни проникала в глубины народного естества. Сталось так, что в Чехии родилось новое ощущение мира, новые желания и воля. Сталось так, что чешский народ, расслоившись, изготовился к вольному действованию. И снова принялся за дело.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИИ ИЗ ВРЕМЕН. КОГДА В ЧЕХИИ СТАВИЛИСЬ ГОРОДА
МНИМЫЙ МОНАХ



В начале владычества князя Пршемысла Отакара бродил по Чешской земле один бургундец. Держался он монахом, прикидывался святым, однако никакой святости в нем не было и помину. Голова у него не была выбрита, напротив, от чела до шеи ее покрывали густые щетинистые волосы. Был он грязен и бос и кутался в рясу или сутану, которую от рясы невозможно было отличить. Препоясывал себе бедра бечевой, а на плечах у него болтался остроконечный капюшон. Был он тощее чертей, голову имел махонькую, нос горбатый, а уста – улыбчивые. Отец его проживал в городе под названием Бюн. Был он купцом, торговал вином в мехах и скупал сукно. Ездил во Фландрию, и каждую из его тяжелогруженых повозок – по пути туда и обратно – должны были тянуть три пары лошаков. Ежели торгаш этот был столь богат, то стоит ли удивляться, что возмечтал он сделать своего отпрыска дворянином. Он жаждал этого всем сердцем. Едва паренек подрос, подыскал он для него в одном итальянском городе благородное общество и не переставал радоваться, что во всех играх и увеселениях его Бернарду нет равных.
Но однажды милый купчик возжелал сыграть роль дворянина чуточку всерьез и отправился с миланскими войсками добывать Павию. Случилось это году в 1180, то бишь в те поры, когда италийские города вели меж собой беспрестанные войны. Случилось это в те поры когда виноградники, сады и бархатные луга превращались в пустыню, когда даже на человеческую мысль, что в полуденных краях имеет или темные тона, или же яркую искрящуюся раскраску, легла страшная тень. В общем, случилось это в те времена, когда веселье и смерть в мире правили поочередно.
Бернард – тоже весьма легко увлекающийся – загорелся идеей войны, будто пук соломы. Хвастался, звенел новехоньким мечом, так что страшно становилось, кидался в драку и наверняка мечтал либо победить, либо пасть на поле брани. К несчастью, какой-то убогий лучник, оказавшийся в роковой момент на павийских валах, выпустил из своего арбалета стрелу, и стрела эта по странному попущению насквозь пронзила Бернардово лицо, вышибла два коренных зуба и застряла в своде мягкого неба.
Ах, невозможно передать, как сконфузила Бернарда эта оказия! Он вскинул меч, отшвырнул щит и издал жуткий, но, увы, не воинственный крик, короче говоря – навлек на себя, кроме муки, еще и несмываемый позор. С тех пор Бернард сторонился благородных дворян. У него было повреждено горло, он сипел, и приятели указывали на него пальцем. Что было делать? Он удалился от людей. Поселился в каком-то монастыре, но отлучение от прекраснейшего из миров пришлось ему не по душе. Он любил жизнь, был восприимчив духом и не блестящ умом, немного простак и в чем-то буквоед, что невнятно бормочет себе под нос какие-то сентенции. Язык за зубами он держать не умел, жилось ему тоскливо – и в силу всех этих резонов ударился он в бега.
Может, это грех?
Нет. Чувствовал Бернард, что монахи, умерщвляющие плоть, не имеют под своей рясой всей полноты счастья. Мечтал он о земном рае. Сочинял для себя истории, и в этих историях сливались воедино желаемая и подлинная жизнь. Иисус Христос объединялся в них с людьми экзальтированной мысли, а лик пресвятой Девы Марии излучал свет, равно озарявший молодых девушек, пеночек и цветы.
Охваченный страшным томлением заглянуть в бездну любви, побуждаемый к тому же и сновиденьями, брел Бернард по дороге на север, и вёсны, с коими ничто не может сравниться, и тени дубрав, и лютые морозы, и летнее вёдро так его причаровали, что он навсегда остался в этих краях. Был он очень счастлив, хоть и беден, но ни в чем не нуждался. Он был счастливее, чем король, и грешил лишь изредка – разумеется, если не считать грехом пустословие, ибо уст он не закрывал с утра до ночи.
Научился он немецкому и чешскому языкам, дух свой тешил старофранцузским, на распутьях, которые влекут к себе выходцев с того света, молился по-латыни, а если доводилось пить вино у какого-нибудь вельможного господина, то вспоминал и родной итальянский. Впоследствии все языки у него перемешались. Мысли утратили стройность. И стал он совершенным простаком. Чесоточный зуд изъел его кожу, и на его убогих подошвах засыхала кровь.
Когда вышеупомянутый Бернард впервые очутился у странноприимного храма Девы Марии возле Тына и приблизился к древнему подворью, случилось так, что из-за поворота выскочила дюжина, а то и полторы вооруженных молодцов, которые устремились к ограде, отделявшей город от еврейского поселения. В этот день князя посетила мысль, что нечестивцы скверно платят налоги, и он вознамерился проучить их за эту небрежность. Бернард не жаждал встреч с наемниками. Он хотел было спрятаться, но куда? Поблизости оказался домишко некоего кузнеца Петра; мнимый монах направился было к нему, но едва изготовился к первому прыжку, как на него налетел барашек и с маху больно ударил по ногам. Барашек укрывался в кустах, а громкие шаги и грохот щитов нагнали на него страху. И бросился он к монаху, будто к пастуху, и жалобно заблеял.
Королевские сорванцы не славились ангельским характером. Петр, кузнец, заслышав их чуть ли не под окнами своего дома, поспешил поплотнее притворить двери (дабы кто из вояк не сбился с пути и не наведался к нему в кладовую). Петр спешил. Он уже набросил было крюк на шаткие створки двери, но тут нежданно-негаданно увидел Бернарда с белоснежным барашком. И сделалось ему их жалко. Втянул он обоих внутрь и отвел монаха в кузню. Жена Петрова, по имени Нетка, дала монаху простокваши и две большие ржаные лепешки. Бернард осенил их крестным знамением. И разговорился. Рассказал как умел об увиденных красотах света, а Петр и Нетка радовались, будто горлинки.
Ах, как славно бывает в простых домах, где не гнездится голод и где муж с женой верно любят друг друга!
Когда настало время прощаться, вывел кузнец монаха во дворик. И там они увидели барашка, застрявшего меж корзиной с сеном и забором.
– Это, – сказал Петр, – твой барашек.
Схватил животину и сунул монаху в руки с такой решительностью и такой простотой, что Бернард не сумел произнести ни слова возражения. А впрочем, с чего бы ему возражать? Ежели ты худ и смирен сердцем, то нечего бояться принимать подарки! Разве Петр ошибся, разве не был он убежден, что барашек принадлежит монаху?
«Он встретил нас у ворот вместе и (как нетрудно догадаться) вполне мог такое предположить. Нет, право слово, – размышлял Бернард, пытаясь разогнать сомнения, – я просто глупец, и где мне судить, грех ли это, если кузнец подарил чужого барашка? Вот доберусь на ночлег до монастыря, там и спрошу умудренных старцев, однако, по моему разумению, премудрый Господь смотрит на пропитание бедняков сквозь пальцы и посылает мне на дорогу жаркое».
Случай с кузнецом и монахом произошел как раз там, где позднее поднялись строения Старого Места. Это славная часть земли, но тогда она была неприглядна, и о ней наслышаны были одни лишь лавочники да купцы.
Так что место, где разыгралась эта сцена, – безвидное, история – ничтожная, фигуры – незначительные. И в силу этих причин мы прервем повествование и переключим свое внимание на князя и короля.
А кузнец пусть хорошенько печется о своей жене, а Бернард пускай себе перебирается через чешскую границу!

КОРОНА


Пршемысл, который известен и под другим именем – Отакар, был благословен во всех своих начинаниях, и его имя рано стало знаменитым во многих странах. Был он велик и прославился не через войны, а скорее благодаря своей ловкости и особому стечению обстоятельств. Полагают, что историю его правления можно уподобить бегу челна, гонимого попутным ветром. Кроме того, существует предание, что его мудрость во многом обязана лукавству и что цвет его – это сияние золота и блеск удачи. Сказывают, будто бы он страстно мечтал разбогатеть и, сам стремясь к богатству, проторил более широкий путь к нему купцам, лавочникам, торгашам, горнодобытчикам, колонистам, переселенцам и вообще всей этой удивительной шатии-братии, которая вскоре наводнила Чешскую землю и весь европейский восток. Что до возраста, то Пршемысл I уже в начале своего княжения был немолод. Зато – как отмечают в хрониках – хорош собой и приятен в обращении. Его руки и ноги, равно как и речь, привлекали одним уже изяществом и негой. У него был живой взгляд и такие стремительные движения, что, когда он расхаживал взад-вперед, то над его шпорами волнистыми складками развевалась накидка, а от поднявшегося ветра колыхались сборчатые рукава. И казалось, что шагает не повелитель, а постоянно куда-то спешащий обыкновенный человек. Он был словно вихрь. Быстро принимал решения. Без труда перевоплощался, и об одном и том же его уста одинаково легко утверждали и да, и нет. Постоянство не было его добродетелью. И мысль его была переменчивой. Он забывал о прежних союзах, возобновлял их, снова разрушал и, по всей видимости, был в состоянии с распростертыми объятиями приветствовать супругу, которую недавно прогнал, и порой мог быть другом правителю, против которого только что ходил походом. Пршемысловы деяния разделяла его забывчивость. Они не сопоставлялись между собой, не складывались в единое целое, а как бы противостояли друг дружке.
На второе лето Пршемыслова княжения, в марте года тысяча сто девяносто восьмого, в Немецкой империи был провозглашен королем герцог Филипп Швабский. Однако некоторые имперские князья отложились от него. Дело дошло до раскола, так что и Филипп, и его противоборец Оттон Брауншвейгский волей-неволей вынуждены были искать помощи князей, чьи земли входили в состав империи. Чешский властитель, сначала державший сторону Филиппа, впоследствии часто вел переговоры со швабскими послами, и в ходе этих переговоров, а также размышляя наедине с собою, все думал, как бы укрепить и собственное могущество, и власть короля Филиппа.
Накануне коронации Филиппа Пршемысл обещал с пышной свитой прибыть в Майнгейм. Дело было обговорено и слажено, но князь и не думал трогаться в путь. Все мешкал да откладывал, думая о том, как отблагодарит его Филипп, прикидывая, во что обойдется эта помощь, и сердце его полнилось заветной мечтой о королевской короне. Это неодолимое стремление занимало все его мысли. Созвал он своих вельмож и швабских послов с единственной целью – неявным образом дать им понять, о чем он помышляет и чего просит.
Когда созванные вступили в покои с почерневшим потолком, князь пригласил их сесть на скамьи, что тянулись вдоль всей стены, а сам принялся расхаживать перед ними. Прошел мимо послов, пронесся мимо своей дружины и с некоторой веселостью попытался даже отгадать, кто из его бесценных единомышленников – самый хитрющий и кто мог бы произнести слово о королевской короне.
Знатные господа тем временем тихонько обменивались соображениями. Одни усмехались, другие – хмурились, а вышеградский пробст, отвернув немножко подол облачения, с интересом разглядывал тафту, которой оно было подбито. Меж тем дух его витал где-то очень далеко. Умиротворенный то ли шелестом голосов, то ли блеском материи, он старался ухватить какую-то неуловимую, неопределенную мысль, что постоянно ускользала куда-то, расплывалась, а затем снова словно бы сосредоточивалась в одной точке. Казалось, он погружен в дрему. Пршемысл приметил отрешенную задумчивость пробста и, положив ему на плечо руку, проговорил:
– Друг мой, не так трудно догадаться, что хранящий молчание мудрее того, кто торгует своими мыслями на рынке. Так вымолви хоть словечко и ответь мне на такой вопрос: отчего это люди предпочитают получить отпущение грехов от аббата, а не от какого-нибудь капеллана? Отчего с большей готовностью исповедуются у епископа, хотя исповедником можно выбрать как епископа, так и иных священнослужителей?
– Князь, – ответствовал пробст, отпустив край одеяния, – Бог, который наделил тебя великой властью, точно так же поступает и с властью духовною. Меньше дает диаконам и больше – каноникам, а более всего – епископам и архиепископам. И значит, епископское слово – это будто правда, высеченная из гранита, а слово низших священнослужителей – это истина, написанная на песке.
– Ах, – воскликнул правитель, – всякий священнослужитель – наместник Божий, и любой властитель – орудие в его руках! Однако ты славно сказал о различиях и ступенях.
Тут Пршемысл повернулся к послам и дал им понять, как он толкует эту мысль. Окончив, он снова обратился к пробсту с такими словами:
– Иди, позови писарей и составь с ними письмо Филиппу Швабскому. Составь ловко и в искусно подобранных словах изложи суть той речи, которую ты сейчас слышал. Я желаю, чтобы Филипп впоследствии получил титул императора. Я желаю этого всей душой и, поскольку воля короля значит больше, чем княжеская, я хочу, чтобы Филипп и мою Чехию сделал королевством.
Вымолвив это, Пршемысл стал разговаривать со всеми сразу. С каким-то чужеродцем толковал о ткачестве, с послами – об обязательствах, с вельможами – о войнах. Держался с большой открытостью и чуть ли не пересчитал свои мечи, все чешские копья и щиты. Был в возбуждении, блистал остроумием, и пиршества, которые он повелел устроить, длились пять дней.
Весь дворец благоухал кореньями и дымом. Туго приходилось тем, кто был приставлен к блюдам и очагам. В тесных коридорах слуги сталкивались друг с дружкой, слышались крики, и звон бокалов, и шипение запекаемого мяса, и взвизг суки, которая пробралась к самой печке и нарвалась на щедрые пинки поваренка. Полыхал огонь, раскачивались в коптильнях окорока, и повсюду – от погребков до самой крыши – раздавался оживленный говор.
Меж тем как вельможи предавались веселому застолью, князь не присел ни на минутку. Он расхаживал по подворью, разговаривал со священниками и в довершение всего – повелел позвать какого-то странника-армянина, разбившего свой стан за городскими валами, и позволил ему, то бишь потребовал, чтоб тот в своих посудинах размешал перед ним разные глинки и изготовил из них краски. Один из Филипповых посланников отправился на поиски князя и настиг его как раз в ту минуту, когда он склонился над чаном армянина. Пальцы Пршемысла отнюдь не были чистыми, и казалось, князь касался материи, которая только недавно была белоснежной, а сделалась красной.
– Бога ради, – воскликнул посланец, – пусть все будет так, как вам угодно, я уверен, что мудрее вас нет князя, но все же – отчего вы занимаетесь столь ничтожными вещами? Этот армяшка – нищий! От него несет козлом, и – я бы даже выразился так – он провонял пеклом.
– В нем чувствуется какое-то хитрованство, – возразил Пршемысл, – однако хитроумие не всегда гибельно для души. Я вижу, что он – истинный мужчина, что он красит не червецом, а глинками, и его багрянец славно ложится на шерстяную нитку, вижу, что облачение такой окраски будет отлично выделяться перед Божьим престолом, и по этой причине я отсыплю этому простолюдину горсть динариков. По-вашему, он кумирник? Мой ты Боже, да мы обратим его в христианина!
Промолвив так, кликнул князь слуг и повелел им не спускать глаз с простолюдина и оказывать ему всяческую поддержку. Потом дал понять, что просит армянина перейти из своего легкого жилища в надежный дом, и определил ему место обитания, выделив земельный надел неподалеку от купеческой слободы в подградье.
– Бог, – сказал он швабскому посланнику, – радуется, и ангелы ликуют, когда кому-либо удается обратить заблудшую душу в веру истинную.
Меж тем вельможи и посланники, не тратя попусту времени, вели разговоры, не отрываясь от яств. Один вплетал в свою речь отрывки из Священных Посланий, другой изощрялся в латинских и греческих притчах, а третий вздумал рассказать об Александре Великом, который покорил все народы и земли. Увлекшись беседой, они не заметили, что князь воротился в залу. Не понизили голос и не выказали ему должного почтения. Посланник, именовавшийся Германном (это именно он застал князя за разговором с армянином), хотел было намекнуть расходившимся гостям об их оплошности, но, оглядев покои, обнаружил, что массивный княжеский трон снова опустел.
Ввечеру развеселившееся общество вышло посмотреть на схватку волка со сворой гончих. И тут Германну почудилось, будто князь замешался в толпе небрежно одетых людей. Спускались сумерки. Какие-то слуги подняли сыпавшие искры факелы, и в их свете Германн различил, что фигура, чем-то напоминавшая ему князя, считает на пальцах и указывает на слободы, прилепившиеся у стен Града. Он не повернул лица, даже когда застонал настигнутый сворой гончих зверь.
Когда швабские послы возвращались домой, путь их лежал по землям, опустошенным голодом. Дома были в запустении, села – полуразрушены, а в ригах не было ни зернышка.
– Два лета, – заметил Германн, везший послание Пршемысла, – два года пройдет, пока эта пустыня сравнится с землею, откуда мы возвращаемся. Там всего полно. У Праги мы встречали купцов с полными коробами, и пастухов со стадами подсвинков, и монахов, багровых от обжорства, а теперь, сами отощав от голода, наблюдаем вокруг безутешную картину.
Эти слова припомнились Германну снова, когда предстал он пред своим повелителем. И принялся он восхвалять Пршемысла, рассказывая, сколь богата Чехия товарами, уверял, что пражским рынкам суждено еще большее изобилие и рост.
– Это видно по тому, – продолжал посланник, – что князь печется о безопасности купцов больше, чем о спасении души, он забывает о своем знатном происхождении, запросто общается с торгашами, не боится замарать пальцев, будто он сам красильщик или сукновал, больше ищет выгоды и прибылей, чем славы, но, возможно, именно по этой причине земле его не изменяет удача. Это правитель лукавый и льстивый, ибо искусно сводит речь к непредсказуемому концу и вкладывает в уста людям то, что приносит ему выгоду.
Филипп слушал речи Германна с неудовольствием. Он был раздражен и остановил посланника жестом десницы, которая до сих пор покоилась на тыльной стороне руки левой. Потом переменил позу, говоря:
– В чем смысл слов твоих, Германн? Ни один истинный властитель не уподобится лавочнику! Следи за собой и наперед думай, что говоришь, ибо пустословие и твоему королю может нанести урон.
Германн хотел было добавить что-нибудь утешительное, но Филипп, устало приложив ладонь к челу, поднялся, давая понять, что беседа закончена. Он был разочарован. Он верил, что власть лежит в руце Божией и что низость ума и жажда наживы недостойны властителя. Верил он, что титул «король» или «князь» – это некое испытание славой, верил, что тот, кто подвергается этому испытанию, не может быть низок духом, ведь он избран владычествовать, водить в бой войска и защищать достоинство государства.
Наверное, эта незыблемая вера и заставила Филиппа сохранить приязнь к чешскому правителю и после своей коронации пожаловать Чехии наследственное право королевства. Однако вполне вероятно, что Филиппа толкал на дружбу с Пршемыслом сам ход совершавшихся событий. Вполне возможно, что их течение и коловращение, причиной чему являются повседневные поступки и направление мысли, потом – сила, а там – и усталь, и голод, и огромные деньги, которые приходится отдавать за краюху черного хлеба, – вполне возможно, что все эти постыдные, низкие дела оказывали на Филиппа более сильное воздействие, чем убеждения, о которых речь шла немного выше.
Как бы там ни было, но в точно назначенный день в городе Майнгейме можно было видеть, как два властителя шествуют по нефу храма. Филипп шагал прямо. Лицо его было неподвижно, он медленно поднимал тяжелые веки, взглядывая на факелы, и едва ли увидел детишек, поющих на высоких лестницах, поставленных вдоль стен храма. Детишки были подобны ангелочкам. Их украшали золотистые волосы, крылья из голубоватой материи, а также зеленые веточки и цветы. Что до пения, то Бог наделил их искусством и одарил столь прекрасными голосами, что пение их напоминало соловьиное; а что касается их пропитания, то об этом редко кто вспоминал, и певчие в костеле сызмальства вели нищенское существование.
Однако мыслям об этом Филипп не предавался. Он двигался вперед и остановился лишь неподалеку от дарохранительницы, опустившись на низенькую приступочку, накрытую листвой. Над королем распахнулись воздуха из златотканых риз, а вокруг – держа на подушечках символы суверенности – выстроились вельможи и князья Немецкой империи.
Когда все заняли подобающие места, какой-то диакон дал знак певчим умолкнуть, и тогда в дело вступили инструменты, то бишь трубы прямые и трубы гнутые.
Под эти звуки в храм вошли три пражских каноника, каждый из которых нес в знак скорбной памяти о Царе Небесном и в знак покорности ему королей светских какой-нибудь предмет, напоминавший страсти Господни. Один – гвозди, второй – кнут, а третий – терновую ветвь. За этой троицей шествовали епископы и аббаты, следом выступали вельможи, и только потом – в отдалении, на расстоянии, равнявшемся десятикратно вытянутой руке, – шел Пршемысл. Его пурпурный плащ был украшен немногими драгоценными каменьями, а на руках его, сложенных крест-накрест, сверкал лишь один перстень. Цепь, висевшая у него на шее, была, вероятно, одной из самых легких. И создавалось впечатление, что князь пришел без долгих приуготовлений и словно бы даже с некоторым пренебрежением относился и к собственному сану, и к королю Филиппу. На лице его не обнаруживалось ни радости, ни смирения, ни спеси, и он, оставаясь самим собой, двигался шагом быстрым, но притом и размеренным, с непринужденностью, которая по обычаям тех времен не слишком приличествовала знатным людям и могла возбудить у архиепископа прилив неудовольствия.
Так ли это было? Бог весть, но с уверенностью можно сказать одно – какой-то вельможа коснулся локтя епископа Регенсбургского, кивком головы показывая, как Пршемысл оберегает свои церковные одеяния, избегая тех мест, куда упали огненные капли факелов. В это мгновение взгляды чешского властителя, архиепископа и этого вельможи встретились. Пршемысл, усмехаясь, легонько приподнял брови, а священники нахмурились.
И тут один из диаконов, прочитав их взгляды, то есть – легкую улыбку Пршемысла и угрюмую насупленность двух священнослужителей, решил про себя, что никогда не стать им друзьями. Однако, когда торжественные службы подошли к концу, когда князья и знатные гости уселись за столы, дабы откушать и обговорить дела княжения и заботы святой веры, случилось так, что именно архиепископа слова Пршемысла привели в восторг. И, право, могло ли быть иначе, если король изъяснялся столь просто, с таким проворством подхватывал идеи, готовые сорваться с языка архиепископа, что церковный князь услышал только то, что и хотел услышать. И почудилось всем благородным гостям, будто в присутствии короля Пршемысла дела трудные превращаются в дела пустячные и словно бы чрез его усердие достигнут оказался и успех, и некое удивительное взаимное расположение.
Король и его свита отбыли домой; они давным-давно уже покинули пределы Немецкой империи, а в ушах Филиппа все еще звучала сладкая напевность Пршемысловых слов, и он испытывал нечто подобное счастью, вспоминая вольность и естественность его движений. Короче, Филиппа чешский правитель очаровал, и король привязывался к нему тем сильнее, чем больше счастья доставляла ему уверенность, что с Пршемыслом он держал себя как человек, обладающий большей властью. Раздавать средь подданных короны – естественное право короля, но при его осуществлении невольно рождается уверенность, что тот, кто этим правом владеет, тот воистину – король королей.