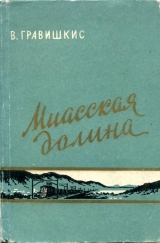
Текст книги "Миасская долина"
Автор книги: Владислав Гравишкис
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
ПОСЛЕ СОБРАНИЯ
К собранию готовились давно. Три дня молодой мастер плавильного пролета Сомов – его в цехе звали просто Юрой – толковал с рабочими и от каждого заручился согласием выступить и поддержать его. Перед обеденным перерывом Юра позвонил секретарю партийного бюро Котову, рассказал о подготовке, и тот обещал прийти на собрание.
И вот он пришел, но не один, как ожидал Юра, а в сопровождении пяти человек. В шляпах, в разноцветных макинтошах, они выглядели так нарядно и непривычно в суровой и мрачноватой обстановке литейного цеха, что почти все рабочие отрывались от дела и долго смотрели им вслед.
– Принимай, Юрка! Гости пожаловали! – сказал Котов. Отвернувшись от тех, кого он привел, Котов подмигнул Юре и усмехнулся, но все равно мастер заметил на его лице растерянность, точно и Котов не знал, что придется идти в плавильный пролет в таком сопровождении.
Мужчины окружили Юрия и храбро пожимали его грязную руку, которую он едва успел обтереть схваченной с формовочного станка замасленной ветошью. Прибывшие бормотали свои фамилии, Юра бормотал в ответ: «Очень приятно!» и исподлобья разглядывал одного за другим.
Он знал только щуплого, похожего на мальчишку паренька с палкой – сотрудника заводской многотиражки. Об остальных можно было догадываться, кто они такие. Один, несомненно, был фотографом – аппарат с большим диском лампы-вспышки болтался у него на груди. Другой поставил у ног увесистый чемодан – вероятно, магнитофон. Два других, глубоко засунув руки в карманы макинтошей, ходили и взирали на вагранки с таким сосредоточенным видом, точно хотели навеки запомнить все то, что приходится им сейчас видеть.
– Сделаем так, Юра, – пригнувшись к уху мастера, сказал Котов. – Соберешь ребят, и я им – сообщение. Потом берешь слово ты и читаешь обязательство. Этим товарищам поможешь, если что понадобится.
– Кто такие? – спросил Юра.
– Областная и городская пресса, радио, фото. Партком прислал. Так что проследи, чтобы поменьше чумазых было. Пусть умоются, что ли… Не забудь оповестить еще раз!
Юра ушел в пролет к рабочим, а когда вернулся минут за десять до обеденного перерыва, его осадили фотограф и радиорепортер. Фотограф, кипя нетерпением, требовал предоставить в его распоряжение мостовой кран для какой-то «верхней точки», радиорепортер уныло жаловался, что не может найти ни одной осветительной розетки.
– Мостовой кран дать не могу, им не командую. Осветительная розетка есть в конторке мастера, пройдите туда!
Областной и городской очеркисты обступили шихтовщика колошниковой площадки Казымова. Они о чем-то его расспрашивали, а так как в цехе было шумно, то выслушивали его ответы, приставив уши к самому казымовскому рту. Скосив глаза, писали в блокнотах, пристроив их тут же на широкой груди шихтаря.
Юрий от души посмеялся – интервью нелегко давалось мешковатому Казымову. Красный, с остекленевшими глазами, он широко открывал рот, выдавливая из себя ответы.
Многотиражник бедным родственником стоял в сторонке и с любопытством наблюдал за старшими по чину товарищами. Котов прислонился к колонне и перебирал пачку бумаг.
Собрались плавильщики в темной, без единого окна, конторке сменного мастера – склепанной из стальных листов будке у подножия трех вагранок. Набилась полна коробочка. Сидели плотно, плечом к плечу. Лица у всех были чумазые, белозубые.
Очеркисты и многотиражник уселись в дальнем углу и тотчас распахнули блокноты. Радиорепортер копался в магнитофоне. Фоторепортер, наступая на ноги и непрерывно извиняясь, ходил среди рабочих и нацеливал объектив то на одну, то на другую группу. Вспышки его лампы на мгновения заливали полутемную комнату ослепительным синеватым светом.
– Прекратим на минуточку, товарищ фотограф! – сказал Котов. – Потом поснимаете, на рабочих местах.
– Мне нужно собрание, а не рабочие места… Вот эту курносую попробую и все! – жизнерадостно воскликнул фотограф и наставил объектив на крановщицу колошниковой площадки Катю Солодовникову.
Та потянулась было поправлять косынку, но… молнией мелькнула вспышка, и все было кончено.
– Бес какой-то, а не фотограф! – недовольно сказала Катя.
– Шпокойно! Шнимаю! Шпортил! – засмеялся сидевший рядом Саша Кулдыбаев, цеховой остряк.
Взмокший, с каплями пота, падающими с кончика носа, фотограф долго пробирался к выходу. Иногда застревал в тесных рядах, и тогда плавильщики продвигали его вперед доброжелательными, но тем не менее чувствительными толчками.
– Так вот, товарищи, – сказал Котов, когда фотограф, наконец, выбрался. – Посовещались мы в треугольнике и решили оказать плавильной бригаде большую честь. Показатели у вас приличные, коллектив дружный, даем вам инициативу – начинайте!
– Что начинать-то? – нетерпеливо спросила Катя, раздраженная тем, что не удалось поправить косынку и снимок, вероятно, получится никудышный.
– Не торопись, Катюша, обо всем узнаем по порядку, – спокойно сказал Котов. – Всем вам уже известно, что советский народ взялся сейчас за выполнение семилетнего плана. Сегодня я хочу вам рассказать о семилетке нашего родного завода – чего мы должны достигнуть в ближайшие семь лет…
Юра внимательно следил за лицами плавильщиков – слушали с интересом. Правда, Саша Кулдыбаев, корчивший из себя все познавшего человека и любую речь считавший «пропагандой», пытался вступить в игривую беседу с Катей, но… ощутительный толчок в ребра мог бы повергнуть его навзничь, если бы была хоть малейшая возможность протянуть ноги. Саша шипел и извивался в разные стороны. Юра услышал, как соседка с другой стороны нежно прошептала парню на ухо:
– Сашенька, медиков не позвать?
– Ладно тебе! – проворчал Саша.
– Разговорчики, Кулдыбаев! – строго сказал Юра, и Саша притих.
Сосредоточенное молчание длилось до тех пор, пока Котов не заговорил о соревновании за звание бригады коммунистического труда.
– Теперь поня-атно! – протяжно выкрикнул он, уже успев забыть о толчке. – Давно пора – не хуже людей! – Он встал и оглянулся на все четыре стороны: – Только вот вопросец у меня один: когда нам вагранки подходящий металл давать будут? Все знают – сметана течет, а не металл. Яйца не сваришь…
– А мы тут при чем? – звончайшим голосом резанула по ушам Катя, сразу сообразив, в чей огород брошен камешек. – Почему холодный металл? Шихты не допросишься, на голодном пайке сидим. На шихтовом дворе…
Шихтари, понятно, тоже молчать не стали. И пошло! Повскакав с мест, шихтари, вагранщики, заливщики, не слушая друг друга, сыпали упреками и обвинениями.
Радиорепортер сморщился, как от зубной боли, и выключил магнитофон, очеркисты перестали писать в блокнотах, так как ровным счетом ничего не могли понять – в ход пошли специальные термины.
Котов пошарил под столом, отыскал какую-то увесистую бракованную отливку, оглянулся по сторонам – обо что бы постучать? – и загрохотал отливкой прямо по стальной стене будки. Конторка наполнилась таким звоном, как будто все сидели внутри большого колокола.
– Успокоились? – спросил Котов голосом, показавшимся очень противоестественным после такого шума. – Товарищ Кулдыбаев, по своему обыкновению, не в те двери полез…
– Да я же одобряю всей душой. Чего вы меня? – Саша сделал круглые глаза.
– Одобряешь, а кричишь зачем? Твой вопрос мы вполне можем в рабочем порядке решить. Нам важное дело надо обсудить… Так вот, товарищи: есть предложение вашей бригаде начать соревнование за звание бригады коммунистического труда. Прошу высказываться. Только покороче, – Котов озабоченно взглянул на часы, – время-то идет, скоро обеду конец…
– Дайте мне слово! – сказал Юра. – Предлагаю принять такое обязательство….
Прения вошли в нормальное русло, и радиорепортер с лучшей из своих улыбок подсовывал микрофон то одному, то другому оратору. Уже перед самым гудком, оставляя темные пятна на белоснежном ватмане, плавильщики один за другим подписали обязательство. Пропела сирена, и конторка быстро опустела…
Юра пошел провожать гостей. По разговорам он понял, что несмотря на перепалку, – а может быть, даже благодаря ей, – у журналистов от собрания осталось хорошее впечатление.
Областной очеркист, осанистый дядя лет сорока, с мягким и добрым лицом, говорил городскому очеркисту, поджарому грузину:
– Ты понял, Ирка, как они горячо принимают к сердцу производственные дела?
– Да, понял. Давай кинжал в руки – совсем грузин будет.
– Это еще что! – позволил себе вступить в разговор Юра. – В конце месяца приходите смотреть – вот когда страсти горят! – Журналисты молчали, и Юра, которому от молчания всегда становилось не по себе, продолжал неуверенно: – Ничего не попишешь, у работы такой характер – огневая, литейщики…
– Дело тут не в профессии. Дело тут совершенно в другом… – оказал областной очеркист. Видимо, у него была какая-то мысль, рожденная во время стычки на собрании, какое-то особое мнение обо всем этом, но он не хотел его до поры до времени выкладывать. Чтобы скрыть это, он размашисто хлопнул городского очеркиста по плечу: – Хорошо черкнем, Ирка, верно? У меня что-то руки чешутся…
– Ираклий никогда плохо не писал – заруби себе на носу! Подумаешь, областная газета! – вдруг ни с того ни с сего рассердился грузин.
Радиорепортер, которому Юрий помог донести до машины магнитофон, вытирая потный лоб, сказал:
– Спасибо за услугу! Больше всего я боялся, что не хватит пленки.
– Хватило? – осведомился Юрий.
– Тютелька в тютельку. Хорошо, что я не растерялся и выключил магнитофон, когда начался галдеж. Минут пять записи спас. Находчивость у нас первое дело. Секунды решают… – И, уже не обращая внимания на Юрия, отрешенно забормотал: – Кашель у Котова я вырежу, пустяки, а вот с мэмэканием придется повозиться…
Юрию хотелось опросить, каким образом будет вырезаться кашель у Котова, но не решился – слишком сосредоточенный вид был у радиорепортера, словно для него больше ничего на белом свете не существовало, кроме лежавшей в коробке пленки с записями.
«Секунды решают! – размышлял Юрий, возвращаясь в цех. – Тоже работенка – будь здоров. Все надо предусмотреть, все предвидеть, рассчитать…»
Мог ли Юра думать, что через несколько минут и ему придется проявить всю свою находчивость, считать секунды и все предвидеть? На колошниковой площадке Сомова ждала неприятность, и виновницей ее была та самая Катя Солодовникова, которая жарче всех ратовала за бригаду коммунистического труда и первой подписала коммунистическое обязательство.
Катя поднялась на площадку в особенном, приподнятом, если можно так выразиться, драчливом настроении. С нею всегда бывало такое после бурных рабочих собраний – хотелось всему миру доказать, что она, Катя, превосходная крановщица и уж по ее вине заливщики не будут получать «сметану».
Усевшись в жесткое кресло завалочного крана, Катя щелкнула контроллером и лихо покатила в другой конец колошникового зала, где стояли бадьи с чушками чугуна, чугунного лома, кокса и известняка. Подцепив бадью с шихтой на крюк подъемника, Катя привезла ее к загрузочному окну вагранки. Прищуря глаз, нацелилась и вдвинула бадью в дымное, просвеченное искрами, нутро. Затем тронула контроллер. Трос на барабане лебедки стал разматываться, и конусообразное дно бадьи отошло вниз. В открывшийся промежуток с грохотом повалилась шихта.
Бадья устроена не просто. Дно у нее похоже на стальной гриб, перевернутый вверх длинной ножкой. Конец ножки изогнут в петлю, на нее и нацепляется крюк крановой лебедки. Нужно было вывалить груз – крановщица включала мотор лебедки, трос разматывался, крюк приспускался вниз и гриб-конус открывал выход шихте. Кончалась выгрузка – крановщица подтягивала трос, и конус плотно прилегал к нижней кромке бадьи.
Разгрузив бадью, Катя хотела подтянуть конус на место. Но ошиблась, и лебедка, вместо того чтобы сматывать трос, распустила его еще больше. А потом в одно неуловимое мгновение случилось непоправимое: конус уперся в стенку вагранки, и крюк выскользнул из петли. Он свободно, маятником, закачался из стороны в сторону, а конус, поматывая длинной ножкой, тяжелый, литой, исчез в темноте.
В первое мгновение Кате стало только досадно: вот так ерундистика! Придется повозиться, пока снова подцепишь… Она приспустила трос до уровня шихты, где лежал конус, и стала поднимать и опускать крюк, стараясь посадить на место. Крюк скользил вокруг да около и никак не хотел ложиться в петлю.
Шихтарь Казымов заметил поединок Кати с непокорным крюком. Волоча за собой звонко щелкающую лопату, он, косолапя, подошел к завалочному окну. Молча стал помогать Кате, направляя трос лопатой, но все равно ничего не получалось.
– Катерина, слушь-ка! Не взять. Позовем-ка мастера!
Катя замотала головой: не хватало еще этой стыдобушки!
Но Юрий уже сам поднялся на колошниковую площадку. Катины манипуляции у завалочного окна сразу привлекали внимание. Он ринулся к вагранке. В дымном мраке, точно якорь корабля, лежал конус с задранной вверх ножкой.
– Давно упустила? – спросил Юрий.
Катя молчала. Все произошло так внезапно и быстро, что она не могла даже сообразить, когда случилась беда – минуту или час тому назад.
– Должно, минут пять прошло, – ответил за нее Казымов.
– Юра, но как же так? – заговорила, наконец, Катя. – Неужели там останется? Пятьсот монет сто́ит…
– Нет, брат, тут не монетами пахнет, – сказал Юрий, хотя Катя никак не могла быть ему братом. – Тут, брат, козла в вагранку посадить можно. Вот что!
В тех книгах, которые он изучал год тому назад в техникуме, ничего не говорилось о подобных случаях. Видимо, конус не полагалось ронять в вагранку. Не полагалось, а он все-таки лежал там, и ему, мастеру, надо было что-то предпринять. Он еще не знал, что предпримет, но волнение уже охватило все его тело, охватило с головы до пят. Там, внизу, лежат не конус, нет! Там лежали Опасность, Смелость, Риск, тесно слитые в один чугунный конус. Юре казалось, что это с ними он бессознательно ждал встречи все последние годы и вот – встретился!
– Останови воздух! – приказал он Казымову, и тот побежал к воздуходувке.
Через минуту могучий ток воздуха, нагнетаемого насосами в вагранку, прекратился. Стало тихо. Юрий еще раз заглянул в колодец. Конус лежал недалеко, самое большее – в двух метрах от окна. Огня внизу не было видно, только клочковатый серый дым клубился около стенок.
Вернулся запыхавшийся Казымов, посмотрел на Юрия, на окно и почесал затылок:
– Слушь-ка, Юр! Рискуешь!
– Бери лопату! Уплотним шихту! – вместо ответа приказал Юрий.
Втроем они набросали мелкой шихты к стенкам колодца, чтобы ослабить ток газов. Потом Юрий подошел к бачку с газированной водой и намочил носовой платок.
– Риск, брат, благородное дело! Так-то вот! – назидательно сказал он Казымову и полез на борт завалочного окна.
Казалось, не было ничего трудного в том, что он собирался сделать: спуститься на два-полтора метра по тросу в вагранку, накинуть крюк на петлю и тут же подняться обратно. Всего-то и времени требовалось секунд двадцать-тридцать. Опасны были газы, но Юрий надеялся сдержать дыхание.
Отец у Юрия был старателем, подростком он сам работал на добыче золота и часто приходилось опускаться и подниматься по канату. Засунув в рот мокрый платок, зажмурив глаза, он скользнул вниз. Ощупью нашел петлю, и крюк сразу лег на место. Юрий помахал рукой и почувствовал, как натянулся трос. Упираясь ногами в крюк, Юрий стал подниматься обратно.
Руки скользили и не поднимали тела: не то от жары, не то от волнения вспотели ладони. Секунды шли, дыхание рвалось наружу, начали слезиться глаза. Юрий поднял голову и сквозь слезы увидел над собой круглое лицо Казымова. Тот сосредоточенно наблюдал за попытками мастера выбраться из вагранки, но, тугодум, не догадывался сказать Кате, чтобы включила лебедку и подняла Юрия вместе с конусом.
Изо всех сил стискивая зубами мокрый платок, Юрий резко помахал рукой и тотчас почувствовал во рту сладковатый запах газа. Все сильнее стала кружиться голова. Глаза затянуло слезами. Просвет завалочного окна прыгнул в сторону и исчез…
Катя неотрывно следила за шевелящимся тросом, за склонившимся к окну Казымовым. Вот он поднял руку, пошевелил короткими пальцами:
– Малость подтяни!
Катя дала один оборот барабану лебедки. По тому, как туго натянулся трос, поняла, что крюк зацеплен. Теперь надо было ждать появления мастера.
Наконец, Казымов повернул голову и с какой-то ненавистной медлительностью проговорил:
– Катерина, слушь-ка: тяни, да помалу – он на конусе…
Всем существом Катя поняла – нельзя сейчас ни медлить, ни торопиться. Промедлишь – мастер задохнется, ускоришь обороты барабана – ударишь человека о дно бадьи.
В окне показался Юрий. Он сидел, обхватив конус руками и ногами, – неподвижный, обмякший, с опущенной головой. Катя с содроганием подумала – мертвый! Выпрыгнула из кабины и бросилась помогать Казымову.
– Живой?
– Мне почем знать-то? Придержи голову!
Они положили мастера на кучу сухой глины, припасенной печниками для ремонта соседней вагранки. Катя принесла кружку газировки, облила лицо Юрия пенящейся водой, вытерла носовым платком, выдернув его из стиснутых зубов.
Нет, не мертв! Дрогнули веки, чуть приподнялись, и Катя увидела тусклые, сонные глаза. Потом в глазах пробилось сознание: Юрий улыбнулся слабой, какой-то детской улыбкой и растерянно сказал:
– Как же я не сообразил… что вспотеют… ладони?
Приятнее слов Катя не слышала никогда в жизни! Она всхлипнула, тут же сдержала желание зареветь, прижав руки плотно к груди:
– Чуть с ума не сошла! Как только вы посмели, Юра?
– Включай воздух… Чугун стынет… Не понимаете… что ли?
– Включать так включать, – сказал Казымов и теперь уже не спеша, в развалку пошел к воздуходувке.
Катя переминалась рядом, не решаясь оставить мастера одного:
– Вам нехорошо, Юрий Николаич? Медиков позвать?
Слова девушки ударили Юрия, как хлыстом; глядя на нее злыми глазами, он пытался встать на ноги:
– Не выдумывай и не смей! Хорошенько запомни – никому ни слова! Казымова предупреди. Нам минус будет – технику безопасности нарушили. Понятно? – И, уже совсем войдя в свои обязанности, вдруг закричал: – А почему, собственно говоря, ты не загружаешь? На Пушкина надеешься?
Катя побежала к завалочному окну. В вагранке могуче загудел воздух.
И тотчас завалочное окно словно закрылось ярко-голубым шелковым занавесом. В нем мелькали гроздья огненных искр, причудливо извивались золотистые струйки пламени. Занавес колыхался и неудержимым бесконечным полотном несся вверх и вверх. Это огонь наконец-то прорвался сквозь толщу металла и кокса, зажег газы, и теперь они, голубые, сверкающие, уносились к дымоходу…
А журналисты, усаживаясь за письменные столы, чтобы писать очерки, так и не узнали о том, что случилось в плавильной бригаде после их ухода, хотя и были ко всему этому отчасти причастны…
ДЕНЬ ЖИЗНИ ПЕРВЫЙ…
На повороте мотоцикл перевернулся. Три колеса поднялись к небу. Механик РТС Тютрин курил и наблюдал за пробной поездкой с пригорка. Он вложил все свои чувства в крепкое словцо и побежал к месту аварии. Окурок прилип к верхней губе, жег ее немилосердно. Тютрин на ходу оторвал его пальцами и выбросил в кювет.
Мотор мотоцикла рычал во всю мочь. Заднее колесо бешено крутилось. Виновница аварии Клава Волнова суетилась вокруг машины и никак не могла добраться до ручки акселератора, чтобы успокоить завывающее металлическое чудовище. Тютрин оттолкнул Клаву, повернул ручку подачи газа, и мотор затих. Стало слышно, как в дальнем березовом колке каркает ворона.
– Чтоб я тебе еще дал машину! – сказал Тютрин, уперев руки в боки и пронизывая Клаву пылающим взглядом. – И близко не подходи! Почему перешла на третью скорость?
– Я на нейтральную хотела. А включилась третья…
– Подумать только – она делает поворот на третьей скорости! Дура ты, дура!
Клава слизнула кровь с ранки на руке и обиженно засопела.
Тютрин не обратил никакого внимания на обиду девушки и, поставив мотоцикл на все три колеса, сел за руль. Когда Клава вознамерилась забраться в люльку, он придержал ее за плечо:
– И близко не подходи! – повторил он. – Гуляй пешочком и все думай. Вперед наука!
Он умчался, а Клава семь километров до села шла пешком. Да, первый урок вождения машины, которую она так долго выпрашивала у Тютрина, закончился неудачей. Ныли ссадины на скуле и колене, кровь сочилась из ранки на локте и никак не хотела свертываться, но решение стать автотехником оставалось неизменным.
По дороге Клава завернула на усадьбу РТС и для профилактики отмыла бензином автол с рук. Щипало так, что слезы неудержимым ручьем потекли из глаз.
За обедом Афанасий Ильич, отец, долго водил носом из стороны в сторону и наконец спросил:
– Ты опять отмывала руки бензином?
– Да, папа, – сказала Клава.
– Как только ты выносишь этот запах! – покачал седой головой Афанасий Ильич. – Терпеть не могу. И какой у тебя ужасный вид!
– Хороший запах. Индустрия, – возразила Клава, осторожно пощупала скулу и принялась соображать, какой вариант защиты принять, если папа пожелает узнать, почему у нее такой вид. – Одну минутку, папа! Если тебе не нравится запах, я пойду умываться…
Она стремительно удалилась, временно оставив Афанасия Ильича одного за столом, рассчитывая, что он позабудет о расспросах.
Хорошенько отмывшись и несколько ослабив «индустриальные» запахи, Клава продолжала обед и заодно переговоры, которые вела с отцом начиная с весны, когда прозвенел последний звонок, возвестивший окончание седьмого класса.
– Папа, а я все-таки думаю подавать в автомеханический…
– Я уже тебе говорил: для женщины, в силу биологических особенностей, наиболее подходящей профессией является медицина… – привычным менторским тоном заговорил Афанасий Ильич.
– Бррр! Мертвяки!
– …или педагогическая работа. Самой природой женщина создана…
– Ну, папочка! Ну, папочка! – мурлыкала Клава и терлась носом о свежевыбритое морщинистое лицо отца. Запахи одеколона и бензина смешались.
Афанасий Ильич замолчал и вздохнул: уж очень ему не хотелось, чтобы единственная дочь пошла по другой жизненной стезе, нежели та, по которой прошел он сам.
– Знаешь, Клава, вероятно, сказывается мужское воспитание. Если бы была жива мама…
– Мама меня бы поддержала. Безусловно! Ты знаешь, какая она была? Мать-командирша – ты же сам называл. Смелая, решительная, твердая…
Афанасий Ильич вздохнул еще раз: да, пожалуй, жена была бы на стороне дочери. Чем-чем, а смелостью и решительностью она отличалась. Было даже обидно, когда братья-педагоги на семейных вечеринках начинали подшучивать: вот бы Любе – штаны, а ему, Афанасию Ильичу, – юбчонку. Больше бы соответствовало характерам.
Очнувшись от воспоминаний, Афанасий Ильич наконец сказал:
– Хорошо. Поступай как знаешь.
Клава чмокнула отца в обе щеки.
– Но имей в виду – выбор твой. Если твоя жизнь окажется неудачной, пеняй на себя. Я тебя предупреждал…
– Предупреждал, папочка, предупреждал, – рассеянно сказала Клава.
С этого дня девушка начала готовиться к отъезду.
В осенний набор она не попала: расхворался отец, и она не решилась оставить его одного. На ее счастье, в тот год техникумы проводили зимний набор, и Клава поехала в ноябре.
Зима была ранняя, навалило много снегу, зачастили морозы. Ровно в полдень к дому Волновых подкатила машина из РТС. Клаву, дочь уважаемого на селе учителя, посадили в кабину. В кузове уже сидели на сундучках пятеро девчат – ехали на курсы комбайнеров.
Прильнул к стеклу Афанасий Ильич. Каракулевая шапка сбилась набекрень. Пряди седых волос порхали по лбу. В глазах – мучительная тоска. Папа, папочка! Нет, я лучше не буду смотреть на тебя! Я не хочу, чтобы Сережка видел, как я реву!
Сережа – безусый шофер, озорной и юркий, – устраивал Клаву поудобней. В порыве усердия засунул ей за спину свою донельзя замызганную телогрейку.
– Растрясет тебя дорогой – отвечай потом перед отцом! – ворчал он еще ломким голосом. – Ох, строгий он был ко мне, когда я учился. – Помолчал и добавил: – Учил, учил, а я все-таки обхитрил его – так дураком и остался.
Клава глотает колючий комок, застрявший в горле, и вытирает слезу.
– Что ты говоришь, Сережка? Какой же ты дурак?
– Ох, дурак, Клавка! Ни в сказке сказать, ни пером описать! Посторонитесь, Афанасий Ильич, – поехали! – крикнул он и залязгал рычагами. Под ногами у Клавы звонко затрещала шестерня.
Клава заглянула в окно между прутьями заградительной решетки и увидела отца. Он стоял по колено в снегу и махал шапкой. Лица уже не было видно, только силуэт.
Клава присмирела. Стало тоскливо. Трудно будет папке одному: старенький, слабенький… И папку жалко, и города страшно. Как-то он встретит? Какая она будет – самостоятельная жизнь? Без папки, одна…
Клава притиснулась в угол кабины и затихла на многие километры.
Сережа вел машину стремительно, с налету проскакивал забитые снегом овражки. Подбуксовывали редко. Если случалось такое – девчата переваливались через борт, хватались за машину и выталкивали ее из сугроба. Сережа выставлял ногу из кабины, высовывался сам, рулил одной рукой и лихо покрикивал:
– Девчонки, жми! Привыкай на себе машину таскать – комбайнерками будете!
Клаве он не разрешал выходить из кабины. Девчата не обижались на такую привилегию: дочь учителя, из себя цыпленок, что с нее взять?
Пошла горная местность. До города оставалось километров двадцать. По обе стороны дороги поднялись дремучие уральские леса. Снег стал глубже.
Сережа остановил машину, снял вторые скаты с задних колес и бодро сказал:
– Теперь поедем хоть куда! Колеса снег до земли прорежут, сцепление – первый сорт…
И правда – ехали хорошо. На целине вихрем проскочили мимо какой-то груженой машины, засевшей в снегу. Шофер спал, положив голову на баранку. По брезенту, которым был укрыт груз, одна за другой пробегали волны – ветер ненароком залетел под брезент и теперь выбирался наружу…
Через два километра нагнали пешехода. В мохнатом полушубке, в подтянутых до самых бедер белых бурках, пошатываясь, он брел по дороге. Услышав за спиной рокот мотора, пешеход остановился, поднял руку, да так и простоял, не шелохнувшись, пока грузовик не уперся ему в грудь радиатором.
Сергей сквозь зубы выругался и приоткрыл дверь кабины:
– В чем дело? Подвезти, что ли? Садись к девчатам, доедешь.
– Братишка, спаси! – не слушая, по-бабьи заголосил пешеход. Несмотря на мороз, крупные капли пота висели у него на лбу и пухлых, розовых щеках. – Тюрьма мне, братишка, тюрьма! Спаси, не бросай!
– Что у тебя там? Говори толком!
– Машина моя в пути застряла! Будь другом, вытащи! Ничего не пожалею!
Он пригнул к себе Сергея и зашептал ему на ухо, опасливо косясь в глубину кабины, на Клаву. Сергей заухмылялся, потом помрачнел и оттолкнул пешехода:
– Знаю я эти шутки! Пошел к черту. Не поеду.
Человек всполошился. Насильно, через ноги Сергея, втиснулся в кабину, уткнулся Клаве в колено подбородком:
– Барышня, милая барышня! Не дайте погибнуть человеку! Товар везу в сельпо. Шоферишка караулит, пьянешенек. Уснет – пропало дело! Тюрьма…
Кабина заполнилась водочным перегаром. Клава брезгливо отодвинулась, но пешеход терся носом о колено, ныл и хныкал:
– Барышня, дорогая барышня! Пособите выбраться, пожалейте! Пропала моя головушка!
Кажется, он даже плакал. Клава обратилась к Сергею:
– Послушай, Сережка! Может быть, и в самом деле вытащим машину? Ведь государственное добро. Как ты думаешь?
Сергей вздохнул, – точно гора с плеч свалилась, – и тотчас согласился:
– Мне что! Выдернуть недолго; чего там… Ворочаться не хотелось, а выдернуть – пустяки. Трос есть на машине?
– Есть, браток, есть! Это верно – минутное дело для вас. По гроб жизни не забуду!
Завмаг мгновенно успокоился, побежал к кузову. Девчата со смехом затащили его к себе, оборвав все пуговицы – тяжеловат был завмаг…
Машину выдернули быстро, без большого труда. Она ушла вперед и скоро куда-то свернула…
Вот тут все и началось.
Клаву встревожил водочный запах в кабине. Он не только не уменьшался, а, наоборот, усиливался. Наконец, на одном нырке Сергей привалился к Клаве, и она почувствовала, что в бок ей упирается горлышко бутылки. Видимо, «братишка» завмаг поблагодарил Сергея.
– Сережка, да ты пьяный?
Сергей благодушно ухмыльнулся:
– Есть такое дело! Я же тебе говорил, что дураком остался, – теперь смотри на факте. Водку увидел – не устоял… Да ты, Клавка, не волнуйся. До города недалеко, мигом домчу.
Девчата постучали в кабину:
– Куда мы едем? Дороги не видно. Круглая гора справа осталась.
Сергей остановил машину, вышел, осмотрелся. Грузовик стоял посреди замкнутой в лес пашни. Над деревьями в потемневшем небе белела гладкая вершина горы.
– В самом деле – чудеса! – удивился Сергей. – Круглая – вот она, справа, а положено ей слева быть. Неужто я руки перепутал?
Его окружили девчата и сразу разобрали, в чем дело:
– Налил шары-то и завез нас шут знает куда!
– Ничего, девки! До дороги я вас дотащу, а там и город близко. Со мной не пропадете!
Он сел в машину и повел ее напрямик по пашне. Пьянел он все больше, слюнявые губы отвисли, глаза стали бессмысленными…
Наконец Круглая гора оказалась справа, машина вышла на дорогу. Напряжение оказалось для мотора роковым, он стал громко постукивать и скоро заглох.
– Коренной подшипник – тю-тю! – сказал Сергей, вылез, сел на подножку и вытащил бутылку с водкой.
Началась паника. Девчата плакали, ругались, а больше всего разводили руками. Никто не знал, что сейчас нужно делать. Тогда Клава решилась – хорошо, она будет отвечать за все! Пусть она самая младшая, пусть, но она сумеет выйти из положения.
Она пинком выбила бутылку из рук Сергея и встала на подножку:
– Девчонки! – что было голосу крикнула она. – Тихо! Без паники! Мы с вами одни. Самим и надо выбираться.
Первой утихла и прислушалась Груня Ковшова – дебелая девушка с соломенными ресницами. Она согласно закивала:
– Верно, Кланя! Мужчинка-то наш вон какой – лыка не вяжет…
– Об этом я и говорю. Если врозь спасаться будем – погибнем. До города – черт его знает, сколько километров…
– Две… двенадцать… – икнув, пробормотал уткнувший голову между колен Сергей.
– Молчи там! Ничего ты не знаешь – двенадцать или двадцать. А мы все равно пойдем пешком. Выгружайтесь, девчонки! – приказала она и вытащила свой рюкзак из кабины.
Но девчата заупрямились: почему-то все надеялись, что машина каким-нибудь чудом оживет и повезет их дальше.
– Девочки, не надо глупить! – увещевала их Клава. – Машина дальше не пойдет, она не может. Это просто смешно. Выгружайтесь – и все! Я за вас отвечаю! Не то… Не то Афанасию Ильичу скажу! – выпалила она.
Смешная угроза пожаловаться отцу-учителю на непокорных бывших учениц почему-то повлияла, и девчата стали снимать с кузова свои нелегкие сундучки. Один был подбит полозьями, его пристроили вместо санок, сложив наверх все остальные. Клава спустила воду из радиатора.







