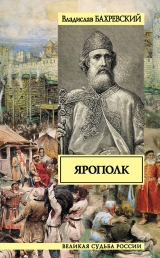
Текст книги "Ярополк"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Братья
В Будутино, в родовом имении Ольги, княжил сын рабыни Малуши Владимир Святославич. Княжил так, будто в Киеве сидел. А было тому правителю почти уже пять лет.
Каждый день Владимира сажали на высокий позлащенный дубовый стул, и Малушины тиуны докладывали ему о делах, а княжич, взглядывая на дядьку своего, на уя Добрыню, принимал решения. Добрыня улыбнется, Владимир – просияет. Добрыня нахмурится, Владимир скажет: «Нет! Не так!» – и решит дело иначе. А если опять промахнется, то думать будет долго, что-то обязательно придумает, но воли своей уже не объявит: «По мне надо вот как сделать, да вы сами думайте».
Малуша боялась, как бы об этих играх в Киеве не узнали, но Добрыня стоял на своем:
– Пусть знают. Пусть Ярополка да Олега тоже приучают к делам.
Иной раз уй [42]42
…уй(вуй) – дядя по матери.
[Закрыть]предлагал племяннику вопросы зело мудреные.
– Вот собрали смерды урожай и стали думать, как быть с твоей княжеской долей, – говорил Добрыня, поглаживая усы. – Если ты возьмешь свою долю сполна, хлеба смердам на весь год не хватит. Уже в сечень [43]43
Сечень– январь.
[Закрыть]станут голодать, пойдут побираться, а то и к твоему двору прибегут, сначала просить, а потом с дубьем да с огнем. Заберешь ли ты у смердов свой хлеб или пожалеешь бедных?
Владимир знал: спешить с ответом не следует. Чего бы лучше, если все будут сыты, довольны. Но вопрос уя с подвохом.
Владимир молчал, не зная, как угодить Добрыне. Тот помог племяннику:
– О чем ты думаешь, княжич?
Владимир поскреб ноготками золоченые подлокотники.
– Думаю, хорошо, когда все сыты.
– Верно, хорошо, – согласился Добрыня. – Сегодняхорошо, когда хлеб не кончился.
– Сегодня? – переспросил Владимир.
Блеснула мысль: сегодня хорошо, а завтра? Завтра – это весна. Если смерды съедят весь хлеб, нечем будет засеять поля – беда выйдет пострашнее.
– Князю надо взять свою долю сполна, – сказал Владимир. – Чтоб запас был. На семена… А то еще осада может случиться…
– Ладно, – согласился Добрыня. – О семенах, о весне ты не забыл. О черном дне тоже помнишь… Ну, скажем, черный день – вот он! Дождей весной не случилось, хлеб солнце сожгло. Один колос вырос, а десять нет. И пойдут по твоей земле, княже, нищие, голодные. А у тебя житницы полным-полны. Откроешь ли ты их для своего народа? Перемрут – не скоро новых работников народят. Великий князь потому и велик, что людей у него много. Народу. Так откроешь житницы-то свои?
Владимир снова почуял ловушку, сунул палец в рот, покусывал.
– Не открою!
– Так ведь помирать будут.
– Я дам хлеба, но помалу… Пусть кору едят, лебеду…
– Почему же ты народ досыта не накормишь?
– Два года плохих – жди третьего, самого худого. Сам так говорил.
– Говорил, а ты запомнил. Добре! Ну, вот грянул третий год кручины. Люди голубей съели, собак, кошек тоже съели, крысами не побрезговали… И пожалуют в твой город купцы, привезут хлеб, станут торговать уж так дорого, что люди самих себя будут продавать, лишь бы от смерти спастись… А у тебя хлеба много…
– Я открою житницы! – крикнул Владимир.
– А по сколько за хлеб возьмешь?
– Ни по скольку! Даром! Чтоб не умер народ, чтоб не убыл.
– Молодец! Заодно и купцов, захотевших на беде нажиться, на ум наставишь. Прогорят как миленькие.
…О приходе великой княгини Добрыня узнал всего за день. Золоченый стул спрятали.
Встречали Ольгу за околицей. Поднесли хлеб да соль, путь к родному дому устлали новехонькими дорожками.
Здесь, на околице Будутино, Ярополк и Владимир, братья по отцу, увидели друг друга в первый раз.
Владимир – в красных сапожках, в колом стоящей золотой парчовой ферязи, в собольей шапке с золотым пером, с перстнями на каждом пальце – выглядел василевсиком, явившимся в русскую глушь из парфироносного Царьграда. А вот прибывший из стольного Киева Ярополк, наследник княжеского венца, даже принаряженный ради торжества, выглядел деревня деревней. В серой однорядке, с красным кантом по вороту, по рукавам, в суконной шапке, тоже серой, под стать однорядке, в темных чунях… Из всей одежды – ферязь была цветной, нежно-розовой, с розовыми прозрачными пуговицами.
– Багрянородный, да и только, – засмеялась Ольга, разглядывая Владимира.
Поискала глазами Малушу.
Широкий Добрыня заслонял собою половину родни, но Малуша, скромница, умница, стояла не впереди народа, а с народом, среди деревенских баб. Никаких соболей для такой стати не надобно: белоснежная однорядка с серебряным шитьем и нежно-розовое платье с розовой драгоценной запоной. Покосилась Ольга на Ярополка: любимый внук одет как любимая рабыня. И тут увидела: на груди у Малуши – крест, подарок василевса Константина.
Потеплело сердце: не таит христианка своей веры, а ведь живет среди язычников.
Ольга подошла к Владимиру, нагнулась, поцеловала в румяную щеку.
– Глаза-то у тебя древлянские!
Владимир смотрел на бабушку в упор, сунул палец в рот. Бабушка улыбнулась, засмеялась, и внук просиял – карими, с солнцем на донышке.
Ольга быстро глянула на Малушу, а у той по лицу слеза катится.
«Ишь, чего вздумала! В себе надо слезы держать. Народ смотрит!» – взглядом, как в былые времена, покорила ключницу.
Народ и впрямь глазел и ждал.
Ольга взяла Ярополка за руку, взяла крошечную, в перстнях, ручку Владимира – соединила братьев.
Тут уж не только Малуша – вся весь не сдержала радостных слез: великая княгиня жалует рабыниного внука, признает за родню.
Добрыня поклонился Ольге истово и простодушно, а княгиня Добрыню похвалила:
– Вижу, не худо живет народ. Спасибо за радение.
– Малуша о достоянии твоем хлопочет, – сказал Добрыня правду. – Я – внука твоего ращу. Вот коли он явит тебе свою сметливость да коли похвалишь его за всякое знание, то моя награда.
– День нынче добрый, но уж очень жарко! – сказала Ольга, покосившись на порфиру меньшого своего внука.
И пошла к людям, целовать да здороваться с дальней родней, с соседями, с сельчанами. Ольгина простота утешила народ.
Малуша государыне в ноги повалилась. Ольга подняла дивную свою ключницу. Поцеловала.
– Не твой был грех. Божья воля свершилась. Мой гнев – греховный. В том и каюсь перед тобою.
Хотелось Ольге поплакать с Малушей наедине. Но народ, обрадованный родственной лаской великой односельчанки, позвал драгоценную гостью почтить пир на весь мир.
Погода не хмурилась. Люди вынесли столы на широкую улицу. Поставили снедь, хмельной мед, шипучую брагу, будутинский, настоянный на хмелю да на семидесяти травах квас. Помянули пращуров, спели «Славу» великой княгине, и христианка Ольга никому ни в чем не перечила.
Братья сидели на том пиру рядом.
– Ты, говорят, на лодках плаваешь? – спросил Ярополк.
– Не на лодке, а на струге, – ответил Владимир. – Мы с Добрыней по всей нашей речке проплыли.
– А я по Днепру ходил на стругах. С отцом, с войском.
– У меня тоже есть войско.
– Велико ли?!
– Десять десятков! А воевать пойдут, побьют тысячу.
– Добрые у тебя воины, – согласился Ярополк добродушно. – У нашего отца тридцать тысяч. Он на хазар в поход пойдет. У хазар мой друг в плену – Баян. Певец. Он о моих походах будет петь.
– Ты его сначала из плена вызволи! – сказал Владимир.
Ярополк покраснел: перед дитятей расхвастался. Сидеть рядом с братцем стало в тягость, но тут, отдав черед пиру, Добрыня испросил у Ольги позволения и повел Ярополка с Владимиром на реку, на струге кататься. Ярополка сопровождал начальник Ольгиной дружины воевода Претич.
Струг у Владимира был – диво дивное! Так игрушки мастерят. Шесть весел в ряд – всего двенадцать. Крутогрудый, узкий, всего в сажень. Высокий. Гребцы под палубой сидят. Щегол для паруса посреди кораблика. Парус алый, шелковый. На носу – лев. От кормы до носа – летящие журавли.
Взошли княжичи с Добрыней и с Претичем на корабль, ударили гребцы веслами, а товарищ кормщика парус развернул.
Полетел струг не хуже журавля. Тут и вспомнились Ярополку бабушкины слова:
– Хорошенько, внучок, гляди на землю моей веси – то земля, данная нам от Бога. На людей смотри со вниманием – ты зернышко доброго племени. Они – твои, а ты – их. Большего счастья у князей не бывает, если народ чтит сидящего на золотом месте своим. Во все глаза гляди на людей, тебе они такая же родня, как и Владимиру.
Отрок не очень-то знал, как во все-то глаза глядят. Пощурился, потаращился и забыл бабушкин совет. Владимир будто подслушал мысли старшего брата:
– Здесь все слушаются моего слова!
– Это земля бабушкина, – возразил Ярополк. – Я здешним людям тоже родной.
Владимир глянул исподлобья, отвернулся.
– Твоя матушка из древлянской земли, а мой друг Баян тоже из древлян, – сказал Ярополк, желая угодить брату.
– Нас к древлянам боятся отпустить, – сказал Владимир. – В Киеве сидят одни варяги.
– Варяги – бьются как львы. У меня есть друг. Его Варяжко зовут. Он хороший.
– Моему ую Добрыне нет равных ни на копьях биться, ни на мечах, ни на топорах. Он – богатырь.
Ярополк опять нашел мирные слова:
– Вот ему и надо идти на Хазарию, чтоб никогда уж больше не жгли веси, не уводили наших людей в полон.
– А ты в бабки умеешь играть? – спросил Владимир.
– Умею.
– А у меня бабки в серебро оправлены, а биты тоже в серебре. Как крыло лебединое.
– У меня есть чучело лебедя. С теленка!
– Таких лебедей не бывает.
– Бывает. Я тебе покажу.
– А у меня – чирий! – Владимир победоносно закатал штанину.
Чирий сидел под коленкой.
За детьми, стоявшими под парусом, наблюдали с кормы Добрыня и Претич.
– Посмотри, какие строгие лица у княжичей, – сказал Добрыня. – Совсем малые ребята, а говорят, видно, о княжеских делах.
– Князьями они будут, детьми бы им побыть подольше – вздохнул Претич и перекрестился.
– Ты христианин? – удивился Добрыня.
– Я служу великой княгине Елене.
– Что за Елена такая?
– Се Ольгино крестное имя.
– Святослав-то небось смеется над вами?
– Святослав смеется, – согласился Претич и показал на берег: – Не нам ли это машут?
– Должно быть, нам.
Добрыня приказал пристать к берегу.
– Не ведаете ли, где великая княгиня Ольга? – спросил гонец.
– Ведаем, – ответил Претич. – Что в Киеве стряслось?
– В Киеве все спокойно. Великий князь Святослав зовет свою матушку великую княгиню Ольгу воротиться в стольный град и править городами да весями по-прежнему.
– Уж не знаю, рада ли тебе будет великая княгиня, – сказал Претич. – Езжай в Будутино.
– Поворачивать? – спросил Добрыня воеводу.
– Поворачивай. Ольга на сборы зело быстрая.
Владимир вдруг шепнул Ярополку:
– Как вы с бабкой уйдете, я снова буду на золотом стуле сидеть.
– Тебе бы только нос кверху драть. Ты думай, как избавить Русь от хазар.
– Много ты чего придумаешь! – огрызнулся Владимир.
– Придумаю. Не твой, мой друг в неволе.
Смертельное состязание
Город Итиль готовился к великому событию: к очередному выходу кагана.
Выходы совершались четыре раза в году. Ради торжества и дабы не оскорбить взоров священного повелителя, глинобитные ограды домов подновляли, белили, убирали с обочин облезлые юрты, дорогу поливали водой.
Раннее тепло, невероятное по времени цветение изумило народ Хазарии. Многие откочевали в степь, но каган ждал прихода месяца нисана, когда ему разрешено оставить стольный город.
Шествие открывал слон – гордость кагана. Слона привели из Индии. Это был редкий, белый слон. Его налобник, сплошь усыпанный мелкими драгоценными каменьями, пламенел яро-зелено, яро-огненно, как небесная звезда. В золоченом павильончике сидели самые могучие витязи Хазарии. Их было семеро.
За слоном шествовала тысяча верблюдов. На верблюдах почетные заложники дружественных стран. Заложников, впрочем, было не много, и на верблюдах ехали телохранители и слуги кагана.
За колонной верблюдов бежали скороходы с бурдюками. Эти еще раз поливали землю.
За скороходами выступали факелоносцы. Их было девяносто девять. Они несли очистительный огонь. Потом вели белого коня кагана, в белой сбруе, под белой попоной, в жемчуге и в алмазах. Алмазами были убраны даже копыта священного скакуна.
Наконец дюжина лошадей везла золотую колесницу, устланную самыми прекрасными коврами. В колеснице, под небесно-голубым балдахином, пребывало Счастье великой Хазарии – каган Иосиф.
За колесницей кагана двигалась малая колесница, запряженная тремя лошадьми, а в ней псалмопевец.
И только через милю шло войско: десять тысяч конницы.
Все оставшиеся в Итиле люди вышли из домов, чтобы приветствовать кагана, но перед золотой колесницей падали ниц и могли подняться с земли, когда колесница скрывалась из виду.
Кантор ради шествия научил Баяна двум псалмам Асафы: «Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его…» и «Глас мой к Богу, и я буду взывать…».
Баян пел один псалом, потом играл на псалтири и через некоторое время пел другой.
Когда шествие поравнялось с дворцом первой царствующей жены кагана, Баян вдруг услышал крик радости, голос, который он узнал бы из тысячи голосов:
– Ба-а-а-ян!
– Ма-ма! – крикнул он, озирая коленопреклоненную толпу.
Власта вскочила на ноги, но ее, спасая, перехватили, силой прижали к земле.
– «Ты – Бог, творящий чудеса!» – пел Баян ликующим голосом, и псалтирь радовалась чуду каждой струной, каждым звуком.
Шествие было долгим, в тот день слуги кагана не обедали, зато вечером – пир. Баяну пришлось много петь, на еду он только поглядывал. А потом и забыл про голод: пел песни Власты, матушки своей ненаглядной.
Пир затянулся за полночь. Пошли пляски. Съел Баян холодную перепелку, бедную птаху, попавшуюся в чьи-то хитрые силки, прикорнул в уголке, заснул.
Его разбудил седоусый витязь Догода.
– Приморился?
Баян смотрел невидящими глазами. Ему приснилось, будто идет он с матушкой через кипрей, и объяло его розовым пламенем с головы до ног.
«Се тебе от пращуров», – сказала Власта.
– Баянушка! – погладил отрока по тонкой шее добрый Догода. – Ты и не поел как следует. Поешь да спать ступай. Уж очень ты хорошо пел сегодня.
– Я матушку видел, – сказал Баян.
– Это добрый сон.
– Я наяву матушку видел. Когда мимо царицыного дворца проходили, она позвала меня. Догода! Скажи, как мне с матушкой повидаться?
– Найдем твою матушку.
– Ее зовут Власта.
– Найдем… Тут другая печаль. Как тебя из дворца вывести… Что-нибудь да придумаем.
Пока телохранители кагана искали Власту, чья она рабыня, судьба сама обо всем позаботилась.
Дивного псалмопевца пожелала послушать владычица женского дворца царица Торахан. Она была из рода Ашинов.
У кагана было двадцать пять жен, от каждого подвластного народа по одной. Наложниц не считали. Из добычи кагану выделяли его часть, и если среди рабынь оказывалась красавица, ее помещали в гарем священного правителя.
Торахан была моложе кагана всего на два года, но сохранила красоту и поражала стройностью даже совсем юных жен Иосифа. Не имея возможности править царством, она властвовала над евнухами, над женами кагана и над самим Иосифом.
Торахан прислала Баяну платье, в котором желала его слушать. Голубую салту – очень короткую, выше пояса, куртку; просторные шелковые шаровары, тоже голубые, вишневый широкий кушак, вишневые чеботы, вишневую шапку и нежно-зеленую, как весенняя дымка, шелковую рубашку. Одежду доставил евнух, у которого был наказ обучить псалмопевца древней тюркской песне.
Огромного роста, величавый на вид, евнух заговорил высоким детским голосом. Баян не сумел скрыть изумления, и евнух сказал ему:
– Меня лишили мужского достоинства в детстве, чтобы сохранить мой голос. Твой голос тоже необходимо сохранить.
Баян не очень-то понял евнуха. А тот был в восторге: слова песни и мелодию отрок запомнил с одного прослушивания, пел по-соловьи.
В царицын дворец, а это был целый город за высокими стенами, юного псалмопевца повезли после полуденного отдыха.
Торахан, пообедав жеребенком, перегрузила желудок. Ей приснилась гора, которая сошла с места, перекочевала в Белую Вежу, на ханское стойбище, и всех задавила.
Проснувшись, царица велела подать «Гадательную книгу». Первый раз выпало доброе пророчество:
Второй раз – худое:
Два быка в одном ярме:
Им и двинуться нельзя
И не сдвинуться нельзя…
Торахан погадала в третий раз. И сказала ей книга:
В трясину угодив, верблюд старался есть
Траву вокруг себя, потом пришла лиса —
И стала есть верблюда самого…
И это – очень плохо, говорят.
Царица огорчилась, приказала привести шаманку Серехан. Шаманка перечитала пророчества в «Гадательной книге», дважды выслушала рассказ о приснившейся горе, задумалась, попросила позволения приготовиться к волхвованию.
В это время привезли Баяна.
Настроение у Торахан было самое дурное. Усмехнулась зловеще:
– Подайте мне эту птичку!
И принялась скрести ногтями по кожаной рукояти древнего китайского зеркала.
Баян не ведал о царицыных печалях, он привык к тому, что все его любят.
Палата, где Торахан забавлялась и принимала гостей, подавляла убранством. Прежде всего – стеной огня. Возле этой стены лежал череп величиной с юрту. Это был древний допотопный зверь, а может, и рыба. По сторонам черепа стояли бивни, чудовищно могучие, от пола до потолка. Над черепом и по всей стене горело множество светильников.
– Мои звезды, – говорила Торахан. – Моя ночь.
Противоположная полуденная стена представляла собою «ливень света». Сказочной красоты драпировки, унизанные мелкими драгоценными камешками, блистали, меняя цвет.
На беломраморном возвышении в семь ступеней изумляло легкостью, совершенством форм белоснежное, с тонкой золотой каймою, ложе.
Восточная беломраморная стена была сплошь из окон. Западную занимала сиренево-золотистая фреска шествия царицы Торахан на белом слоне в сопровождении покорных Хазарии князей, ханов, ильков.
Пол царственного зала был набран из камня, белого, прозрачного.
Во время пиров пол застилали коврами, но пиры были редкостью. Торахан умела считать и беречь казну.
Баян, войдя в зал, пораженный белизной, блеском, сиянием, устремил глаза к потолку. Здесь один потолок был черный, из мореного резного дуба. Но что там – чешуйчатые рыбы или змеи, понять сразу не удавалось.
– Подойди! – услышал Баян резкий голос.
В голосе неприязнь и раздражение.
Держа обеими руками псалтирь и как бы заслоняясь ею, Баян подошел к возвышению.
– Говорят, ты всех поражаешь своим пением, как царь Давид?
Баян только крепче прижал к груди псалтирь.
– Отвечай! – гневно закричала Торахан.
– Я… не знаю.
– Ты до того размягчил сердце кагана, что он души в тебе не чает…
Баян поклонился:
– У повелителя повелителей, у царя царей доброе сердце.
– Ах, доброе! У меня тоже доброе, но попробуй угоди! – Торахан засмеялась. – Пой так, чтоб я заплакала. Не заплачу – берегись!
– Что изволит слушать повелительница повелителей и царица царей?
– Играй и пой что тебе угодно, да помни: твое спасение, твоя жизнь зависят от единой моей слезинки. Хотя бы от единой!
Баян не испугался, но такая пустота засияла в его сердце, что он опустил руки. Царица ждала, высокомерно приподняв черные тонкие брови. Пауза получилась долгая: челядь возмущенно зашушукалась.
Баян тронул струны. Объявил:
– «Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова».
Заиграл, наполняя зал звуками, запел тихо, равнодушный к тому, что его ждет.
– «Господи, Боже мой! На Тебя уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня; да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего…»
И тут загорелось сердце у Баяна, понял – о себе молит Бога. Полетел голос птицей, а стены каменные, больно бьют по крыльям, огнем жгут:
– «Господи, Боже мой! Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, – я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, – то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах…»
Торахан слушала, как хищная птица, подняв и повернув голову. Профиль у нее был красоты дивной, грозной.
Голос отрока, не знающий предела, чистый, светлый, поразил царицу, но она ненавидела иудеев, ненавидела их веру. Прослушав несколько псалмов, ударила в бубен.
– Довольно! Мои глаза остались сухими… – Снова ударила в бубен. – Эй! Слуги! На конюшню его. Дайте сто плетей! Возможно, меня тронут предсмертные клики…
Баян выронил псалтирь. Тотчас поднял ее, но один из евнухов вырвал инструмент, другой схватил отрока за шею, толкнул. И тут произошло нежданное. Евнухи-певцы дружно повалились перед царицей на колени, умоляя пощадить дивного певца.
– Отдай его нам! – кричали они тонкими голосами. – Он – наш! Такой голос надо сберечь. Сей голос – совершенство!
Торахан сделала знак, от Баяна отошли.
– Приведите его мать!
Дверь тотчас отворилась, и в зал вошла… Власта. Она вскрикнула, но евнухи обступили ее.
Царица объявила приговор:
– Даю тебе, псалмопевец, три попытки. Пой что тебе угодно, но знай: это твое прощание с матерью. Это, может быть, три последние в твоей жизни… песни.
Баян ударил по струнам, чтоб больше ничего не слышать… Три последние песни… Прощание с матерью… С жизнью…
Колыхнулись перед глазами заросли розово-пламенного кипрея. Запел:
Куличок-ходочок ходил за море,
А за морем жизнь диво дивное…
Власта разгребла прочь от себя жирных евнухов, слушала сына и смотрела, смотрела…
Коротка была песенка. Ах коротка! И тогда сломал Баян строй звуков. Забурлили струны, забубнили, ударили по ушам взвизгами, но запел он нежное, тихое, что в голову пришло:
Ох, одуванчик, одуванчик!
Зачем ты спешил пробиться к солнцу,
Когда на земле лежал снег?
Зачем пустил резные свои листики,
Когда омывали землю холодные ручьи?
Зачем, одуванчик, душа моя!
Расцвел золотой головой
Раньше всех на лугу?
Пришло время цветения,
А ты растерял свою красоту по пушинке.
Я последняя пушинка, и несет меня,
И бьет меня, и крутит меня!
Да вот уж некуда больше лететь…
Не поднимая глаз, Баян трогал струны. Звуки умирали на полувздохе, на полувзлете… Вдруг вспомнил песню, которую разучивал с евнухом…
Последняя так последняя!
Будто сокол взмыл – так взыграла псалтирь.
Будто земля задрожала под копытами мчащегося табуна. Запел Баян:
С вами, жены, – горе мне! – разлучился я.
С вами, дети, сыновья, разлучился я.
Сто родичей моих бились против ста
Диких яростных быков – горе! – умер я.
Скот четвероногий был – не считал его,
Восьминогий скот имел – не считал его.
Горя в жизни я не знал, а оно пришло —
Нет ни солнца для меня, ни луны.
Умер я – о, горе мне! – вашей жертвой стал.
От родни, колчана, стрел и от табунов
Отделился – от всего эля моего.
Отделившись от всего, я о всем скорблю.
– Она плачет! Она плачет! – закричала Власта. И псалтирь снова выпала из рук Баяна.







