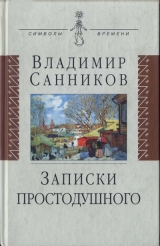
Текст книги "Записки простодушного"
Автор книги: Владимир Санников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мой папа, Зиновий Акимович Санников, был любящим, очень заботливым отцом, но я его почти не помню: умер он, когда мне было всего восемь лет, к тому же был человеком достаточно замкнутым, молчаливым, всегда, даже в семье, державшимся в тени. Помню отдельные сценки, помню, например, как по немощеной улице, стоя, как влитой, на тряской телеге и размахивая «для убедительности» вожжами, лихо, вскачь он подъезжает к дому.
В городе папа был человек заметный. Как же – водовоз, развозит воду по учреждениям – яслям, детским садам, школам, даже и в заводоуправление. Дразнили песней из кинофильма «Волга-Волга»: «Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не сюды». Везде почёт: «Зиновий Акимович, рюмочку выпейте, вон какой мороз на улице!» Продрогший Зиновий Акимович обычно удовлетворял просьбу. Видимо, из-за этого в семье начались ссоры. Помню, как мама решила уйти, собрала вещи, сняла с пола половики – своё сверхскромное приданое – и, с плачем одев нас (мы тоже, конечно, заревели), присела перед уходом на кровать. И тут приехал на обед на своей клячонке папа (подозреваю, что мама не случайно выбрала для ухода именно это время). Папа, в заледеневшем фартуке (как в панцире), не раздеваясь и не вступая в дискуссии, бросил в шкаф собранные мамой вещи, потом, твердо ступая в заледеневших валенках, небрежно постелил-побросал на пол собранные мамой половики и велел нам раздеваться. Этим дело и кончилось.
Рассказывать о горячо мною любимой маме мне трудно да, пожалуй, и излишне. Это лучше меня сделали Некрасов и Федор Абрамов.
Мама относилась к тому типу русских женщин, о которых Некрасов писал:
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна…
Я видывал, как она косит:
Что взмах – то готова копна!
В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!
(Давид Самойлов тонко комментирует последние строки, справедливо подмечает:
Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд.
Но кони всё скачут и скачут,
А избы – горят и горят…)
Ну, а детали маминой психологии и поведения – в повести «Пелагея» Федора Абрамова. Читал я эту замечательную повесть и удивлялся – ну, это же о моей матери! Та же жизнестойкость, те же добросовестность и трудолюбие, те же зачастую обороты речи, диалектные («северные») словечки, интонации. Да и «шелуха» та же: жадность к вещам, тряпкам. Но – не было у мамы Пелагеиной жесткости и холодного расчета в отношении к людям. Прожив тяжелейшую жизнь, мама была расположена к людям, обладала редким человеческим обаянием, моментально находила общий язык с любым человеком. И никогда не могла бы мама, как Пелагея, жалить беззащитную, безответную, добрую девушку, бить ее и ее отца в самое больное место, намекая, что она – некрасивая, «сухая жердина», издевательски именовать «наша красавица»! Неверная нота у Абрамова? Не думаю – ведь изображал он всё-таки Пелагею, а не Ефросинью, мою маму.
Ограничусь несколькими бытовыми зарисовками.
Кипучая мамина энергия набрасывалась на всё – как бы освоить, использовать? Не все ее эксперименты оказывались удачными. Увидела в магазине механическую машинку для стрижки: «Дай-ка куплю, робетишек в парихмахтерскую не водить, в очередях не стоять, деньги за стрижку не платить». В первое же воскресенье вывела нас во двор, стричь. На стуле – белая простыня, мы толкаемся, каждый старается пролезть без очереди: «Меня первого! Нет, меня!» Всё как в настоящей парикмахерской. А в результате – еще одна утраченная иллюзия: машинка нещадно теребит волосы. Мама упорно держится за свою идею, да и денег истраченных жалко: «Больно уж вы нежные, сыночки! Ну, потеребит маленько, зато такие будете гладенькие, красивенькие!» Перестали действовать ласковые слова – тумаки посыпались. Шум, гвалт на всю улицу. Но решающий удар маминой красивой идее нанес младший мой брат, Гера, с малых лет отличавшийся решительностью и независимостью суждений. В самом начале стрижки он вьюном выскользнул из цепких маминых рук, раз-раз – взобрался на крышу сарая и сидел там, подвывая и потирая голову, по середине которой безобразно белела широкая выстриженная полоса.
В наш век люди быстрее думают, чем сто лет назад, но страшно медленно двигаются – по сравнению с моими родителями и дедами. Вспомните старые фильмы со смешными, ускоренными движениями персонажей. Вот так двигалась мама. А как иначе успеть всё сделать в военные и послевоенные годы с четырьмя малыми детьми?
Некоторые эпизоды, вызванные такой вот спешкой, могли бы украсить любую комедию. Приведу только один. У мамы генеральная стирка. Везде чугуны с нагретой водой, кадушки какие-то. Мама встает зачем-то на табуретку, слезает – и попадает ногой в чугун. Пошатнувшись, ставит другую ногу – в другой чугун! Потеряв равновесие, падает назад и садится в большую кадку с отмокающим бельем. Как сейчас вижу: обе мамины ноги – в чугунах, сама мокрая сидит в кадке и хохочет.
И только раз за весь день мама отдыхала. Как бы ни была занята, после обеда ложилась зимой на теплую печь, а летом – на прохладный крашеный пол (жар вытягивает) и мгновенно отключалась. Это уж традиция (по-моему, очень разумная). Помню, как в деревне, в поле, в жару, мы, уставшие, полдничаем с дедом и бабкой. Сверхскромно – хлеб с лучком, с крупной солью, квасок в березовом туесе (удивительно, какой это удобный сосуд – туес: жидкость даже в жару остается прохладной, и обычная вода получает мягкий, ненавязчивый привкус березы). И дед с бабкой обязательно ложатся отдохнуть – под телегой (пока была лошадь) или под кустом (когда лошади уже не было). Вы скажете: «Под кустом-то приятнее!» Так-то так, но под телегой комаров и мошки меньше, не нравится ей смоляной тележный запах.
Ну, а в Воткинске этот переход мамы от сверхактивности к мертвому покою был так резок, что я иногда пугался. Наслышавшись рассказов о людях, умерших во сне, я боялся, что мама умерла, тихо-тихо подкрадывался к ней и с облегчением убеждался, что она дышит. Но вот мама уже вскакивает и опять стирает, шьет, варит, ухаживает за скотиной (и за нами) – до позднего вечера. Да и по ночам я, просыпаясь, часто слышал постукиванье маминой ножной швейной машины.
Работая, мама всё время негромко напевала. Репертуар не слишком богатый, и я до сих пор помню от начала до конца многие из этих песен. Приводить их, понятное дело, не буду. Скажу только, что были они в основном чувствительные. Две особенно мне запомнились.
Как на главном Варшавском вокзале
Станционный звонок прозвенел.
А на лавке, под серой шинелью,
Пригорюнясь, сидел офицер.
Перед ним, опустясь на колени,
Стоит Нюра, бледна и грустна…
Она умоляет его остаться: «Не губи, неразумный, меня». Он: «А я доложен слушать начальство, и затем оставляю тебя». Естественно, она бросается под тронувшийся поезд.
И другая песня.
Ой, там, в остроге, ой, там, в остроге,
Там, в остроге со-лучи-лася беда.
Ой, там убили, ой, там убили.
Там убили молодого казака.
Особенно, до слез, трогало меня то, что жена казака и его дети ничего еще не знают, и три сокола «сели-пали» на ее дворе:
Ой, крылышками, ой, крылышками.
Крылышками двор широкий подмели.
Ой, голосками, ой, голосками.
Голосками кличут юную вдову:
Ой, встань, проснися, ой, встань, проснися,
Встань, проснися, молодая вдовушка.
Ой, не твово ли, ой, не твово ли.
Не твово ли мужа мертвого везут?
Ой, не твои ли, ой, не твои ли,
Не твои ли дети стали си-ро-ты?
Эти и другие русские песни неспешны, с многими повторами. Возможно, по контрасту мне запомнилась одна тюремная песня, очень динамичная:
Звонит звонок после поверки,
Ченцов решился убежать.
Не стал он долго собираться,
Быстрее печку стал ломать.
Перекрестился, стал спускаться.
Его заметил часовой…
и т. д.
Основное место в мамином репертуаре занимали, как и на праздниках, частушки. Но частушки уже другие, нет в них той разухабистости, много и грустных:
Ох, какая же тоска,
Тоска невыносимая:
Отовсюд идут и едут —
Нет моего милого.
Частушки шли тематическими циклами, одна тянула за собой другую.
Хорошо на Каме жить,
Ходят пароходики.
Незаметно пролетают
Молодые годики.
Хорошо на Каме жить,
Хорошо и весело.
Только маленька ошибочка —
Покушать нечего.
Вот мама как-то незаметно попадает на «метеорологическую» тематику:
Ох, какая пурга-вьюга,
Ох, какая тёмна ночь.
Одна мать искала сына,
А друга искала дочь.
Пурга-вьюга, пурга-вьюга,
Пурга-вьюга и метель,
Развевает пурга-вьюга
На милёночке шинель.
Слово шинель,выводит маму на цикл частушек о лейтенантах, и мама поёт их одну за другой:
Полюбила лейтенанта
И ремень через плечо.
Получает тыщу двести
И целует горячо.
Нам сказали на базаре —
Лейтенантов продают!
Мы с подругой побежали,
Их по ордеру дают!
Эх, топну ногой
И притопну другой!
Неужели я не буду
Лейтенантовой женой!
Впрочем, не во всех частушках лейтенант выступает этаким пределом мечтаний любой девушки. Вот, например, частушка, где тот же самый лейтенант подвергается (недостаточно, на мой взгляд, обоснованному) поношению:
БРАТЬЯ И СЕСТРА
Лейтенант, лейтенант,
Лаковы сапожки.
Не тебя ли, лейтенант,
Обосрали кошки?
Как-то, вскоре после маминой свадьбы, цыганка нагадала ей: «Будет у тебя три сынка, как три соколка, и одна дочь – пьяница». Удивительно! Так всё и было: 3+1 (я старший, потом с интервалами в два года – братья Шура и Гера и, наконец, младшая – Алла, на восемь лет моложе меня). Только вот насчет склонности к спиртному цыганка немножко напутала: скорее уж меня с братцами можно обвинять в этом грехе, чем нашу сестру Аллу.
Близкое знакомство с «зеленым змием» состоялось у братьев довольно рано, после окончания Сарапульского лесомеханического техникума. Саша рассказывал мне, как работал на лесозаготовках в глухих пермских лесах. Очень тяжелая была работа, весь день по пояс в снегу. А вечером в бараках мужики из их бригады, задубевшие на морозах опытные «лесные волки», воспитывали иззябшую молодежь: «Бригадир! Ну что ты как красна девица? Выпей, согреешься! У нас без этого нельзя!» (точно так пушкинский гусар Зурин воспитывал Петрушу Гринева: «К службе надобно привыкать; а без пуншу что и служба!»). Ну а многоопытные «лесные волчицы» вносили свой вклад в воспитание юношества…
Но – что-то я далеко забрался в будущее… Вернусь в детство – мое и моих братьев.
Родители – одни, а характеры и судьбы – разные. Я – тихоня, типичный книжный червь, примерный ученик, а братья учились средне. Гера – бойкий, «разудалый добрый молодец». Общим у меня с ним было полное отсутствие крестьянской жилки, интереса к крестьянскому труду. А вот средний брат Шурка унаследовал от предков тягу к земле. В другое время он стал бы примерным мужиком-хлебопашцем. В деревне у деда Шурка нередко отказывался идти с нами на рыбалку или играть в городки, охотно отправлялся с дедом косить или снопы возить. Естественно, что у деда и бабки Шурка был любимым внуком. Раз он прожил в деревне у деда целый год. Зимой ходил в школу в соседнюю деревню за 4 версты, и однажды его с его товарищем едва не сожрали волки, когда они под вечер возвращались из школы. Сашин рассказ об этом почему-то не помню, помню рассказ бабы деревенской: «Пришли это мы с бабами на ключик на край деревни – за водой, да и так поболтать. Видим: от лесу двое ребятишек бегут, вопят. Видим: неладно дело, побежали к ним, тоже орем, ведрами пустыми гремим. Волки, видно, испугались, убежали. А мы их и не видели. Может, и не было никаких волков, может, помнилось ребятам – темнеть ведь уж начинало. Ну, мужики потом волчьи следы там нашли, конечно. Да ведь где их не было?».
«Это уж на-аш сын!» – ласково тянул дедушка. И уж не из ревности ли мама, и вообще-то довольно строгая, была как-то особенно строга к Шурке? Эта строгость зачастую казалась мне несправедливой и сильно меня огорчала, потому что я Шурку очень любил. Он тоже был очень ко мне привязан. Жили душа в душу, не помню, чтобы когда-то ссорились. Спали мы обычно вместе, почему-то валетом. Помню, как он обнимет мои ноги, да так и заснет. Шурка был спокойный, мягкий, покладистый, да и потом, взрослым (если не вторгался тот самый «зеленый змий»). Шура был деликатен, всячески боялся кого-то чем-то обеспокоить. В этом отношении он был похож на дядю Сашу, о котором я писал выше.
Была у Шурки и еще одна замечательная черта: больше, чем у любого из нас, у него было развито чувство юмора. Вот слушаем мы «Песенку фронтового шофера» Бернеса: «…трудно было очень, но баранку не бросал шофер», и Шурка делает вид, что с аппетитом грызет баранку. А услышав строку «Узел, стянутый тобой» из песни «Мой костер» Полонского, Шурка изображал целую мимическую сценку: делал вид, что взваливает на спину и тащит стянутый(уворованный) узел с вещами. Интересно, что не Саша, а я написал потом книги, посвященные юмору и каламбуру, до которого он был такой охотник.
И мама, и братья были яркими личностями, особенно брат Гера, на редкость бойкий, живой, общительный, фантазер и выдумщик. Да вот, только один эпизод.
Мама на несколько дней уезжает, и Гера три вечера подряд рассказывает нам о своих приключениях, клянется, что это – чистая правда. Будто бы он обнаружил случайно за городом потайную пещеру, где прятались дезертиры. Дезертиры в годы войны в наших лесах действительно водились. Мы их побаивались, когда ходили за грибами или ягодами: говорили, что были случаи, когда они отнимали еду у грибников и ягодников (больше-то отнимать тогда было нечего). Дезертиры сначала хотели убить Герку, опасаясь, что он их выдаст, а потом пожалели и даже приняли в банду. Рассказчику, Гере, было тогда девять лет, а мне уже тринадцать, но мы слушали как зачарованные и – как бы немножко даже верили! Уж очень убедителен был рассказ, с массой живых подробностей. Например, как главарь банды, лысый, с татуировкой на обеих руках, сел на сундук, где у них хранилось награбленное, и приказал не трогать Герку, а один дезертир, узбек, все-таки не послушался, выхватил пистолет из кармана пестрого узбекского халата и выстрелил в Герку. Пистолет разорвался в его руке, и узбеку оторвало палец. Тут Гера очень живо описывал, как палец висел на кусочке кожи, как на ниточке, и узбек жалобно кричал: «Алла-Бисмалла!» В конце концов мы потребовали, чтобы Герка показал нам вход в пещеру. Он вывел нас за город. На пустынном поле «зимний ветер качал терновником», мела поземка, и как-то сразу, без слов стало ясно, что сказка – кончилась… Думаю, при других обстоятельствах и при другом складе характера Гера мог бы стать писателем. Сколько на Руси таких вот несостоявшихся талантов!
Сестра была на 8 лет моложе меня, и я сблизился с ней уже позднее, взрослый. Из раннего ее детства помню лишь отдельные сценки, «яркие высказывания»: «Мама, меня сегодня ночью клоп перекусил!»; «Мама, ты у нас такая мерзавка! Всё-то тебе холодно!». Или: Алка крутится на кухне, роняет тесто, обильно обсыпает мукой руки, платье, пол. Очень собой довольна: «Вот как я маме помога-аю!» А вскоре она и в самом деле стала первой маминой помощницей на кухне.
Помню еще, как в яслях-саду у Аллы был карантин, потом другой. Месяца два, если не три ее не отпускали домой, а когда наконец отпустили, мы не узнали нашу Алку: вместо пухленькой, розовощекой девочки – дистрофик с тонюсенькими ручками-ножками, с впалыми щечками, поросшими каким-то черным пухом (это даже и по фотографиям видно). За столом она хватала куски хлеба, загораживала их обеими руками и как-то по-звериному верещала, если кто-нибудь пытался взять у нее хоть один кусок. Представляю, как их кормили в яслях-саду! И ведь было это еще до войны, и было тогда Алле около двух лет.
Мы с братьями и сестрой жили довольно дружно. Мама часто уходила по делам, а то и уезжала «страдовать» (на заработки во время страды), иногда по неделям, и мне, 10–14-летнему, частенько приходилось становиться главой семьи. Я не злоупотреблял своим «высоким положением». Хотя было голодновато, не было случая, чтобы я обделил младших, налил себе чуть больше молока или насыпал чуть больше сахарного песку. И всё-таки совесть моя не совсем чиста. Помню, была у нас ложка, которую все мы любили и на нее претендовали. Шурка (на два года меня младше) здесь, как и обычно, безоговорочно признавал мой приоритет. Главой оппозиции выступал (как и в других случаях) Гера, хотя он был моложе меня аж на четыре года. Вот ему удаётся сколотить коалицию против меня. Назревает сцена, великолепно описанная Джером К. Джеромом в повести «Трое на четырех колесах»:
Тоном, не допускающим возражений, он [старший мальчик] велит остальным детям убираться. Они и не думают возражать; в гробовой тишине они все как один бросаются на него.<…> вам виден лишь клубок тел, напоминающий сильно нетрезвого осьминога…
Пытаясь предотвратить такую вот потасовку, я говорю младшим: «Ну, ладно, берите, берите эту ложку, если хочете получить склероз верхних дыхательных путей!» Братья в испуге отталкивают ложку, и их почему-то не удивляет, что я орудую ею, не опасаясь этого самого склероза.
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙВзрослые, до отказа загруженные работой на производстве и домашними делами, казалось бы, вовсе не имели времени для воспитания детей. Дай Бог одеть, прокормить, включить в круг семейных обязанностей. Во всем остальном, касающемся игр, нравственного и умственного развития, родители вроде бы не участвуют. Дети растут как трава, по старой-старой русской пословице: «Чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало». Дело тут, однако, хитрее. Во-первых, очень важен пример взрослых. Не высокие слова о нравственных идеалах, а сама повседневная жизнь нас воспитывала. Дети чувствовали себя не барчатами, при которых состоят родители, совмещающие обязанности слуг и гувернеров, а членами семьи, прекрасно понимающими, что «как потопаешь, так и полопаешь», где у каждого есть свои права и обязанности, где маленькие отличаются от старших братьев и сестер только тем, что их обязанности проще и легче.
А во-вторых, в роли воспитателей выступали старшие дети. В больших родовых кланах вроде нашего много детей всех возрастов. Родители занимаются в основном воспитанием, подготовкой к жизни ребят постарше. А эти, в свою очередь, воспитывают малышей, следят за ними. Как трогательно заботилась о нас, играла с нами моя двоюродная сестра Тайка (Тася)! Насколько беднее было бы наше детство без нее! Спасибо, Тася!..
Парни – двоюродные братья, занимались нами не так охотно, в перерыве между мальчишескими играми, да и то частенько «с хулиганщинкой», особенно Пимен. «Ну-ко, Вовка, беги к тем вон девкам и скажи: У меня есть кортик, который девок портит!»Или дает мне какой-то полупрозрачный резиновый мешочек: «Иди, попроси мать, пусть поможет тебе надуть этот шарик!» И я, приученный беспрекословно подчиняться старшим, иду к маме с развернутым презервативом в руке. (Летом 41-го Пимен, как и еще шестеро моих близких родственников, ушел на фронт, и с тех пор от него не было никаких вестей.)
Воспитание у нас было спартанское. Родители, особенно мама, были довольно строги, шлепки и подзатыльники были одним из основных педагогических приемов (на длительные увещевания, на апелляцию к совести просто не было времени).
Помню, несу я тарелки на стол, спотыкаюсь, роняю тарелки. В ужасе прячусь в каком-то закутке за картонный ящик, но мама быстро находит и черепки и меня и, не извлекая меня из укрытия, бьет по спине подвернувшейся под руку веревкой (что делать, из песни слова не выкинешь…). После, когда мы пошли купаться на пруд, папа сначала с удивлением посмотрел на кровоподтеки на моей спине, а потом на маму. И та виновато потупилась. Но не знала она, что это только пролог к великому битью посуды, которое устроили мы с моим братом Шуркой.
Мебели у нас было мало. Большой красивый сервант-горка (сейчас понимаю – стиль модерн) был «слугой за всё»: в большом нижнем ящике – белье, игрушки, книжки, хозяйственные коробки, на полках за стеклом – посуда, наверху, под самым потолком, за затейливым резным завершением, напоминающим петушиный гребень, – еще что-то. Когда нам, ребятишкам, надо было достать сверху это «что-то», мы выдвигали нижний ящик и, встав на него, обретали искомое. Но однажды мы с Шуркой встали на этот ящик одновременно. Сервант не выдержал двойной нагрузки и стал падать. Старый, добротный, тяжеленный, он, конечно, раздавил бы или искалечил нас, но ему подвернулся косяк. Это спасло нас, но вся посуда, все тарелки, чашки, кувшины, которые мама высматривала в магазинах, а потом, скопив или заняв деньги, покупала и с торжеством приносила домой, – все это, вдребезги разбив стёкла, скатилось на пол и образовало там груду ярких черепков. Разбился и мой любимый кувшин с крыловскими лисой, журавлем и волком. Но особенно жалко мне было детский сервиз, с ярко-рыжими петухами. Это, вообще-то, был кофейный сервиз, но поскольку у нас о кофе никто до войны представления не имел, мы считали сервиз детским. Купила его мама всего за несколько дней до катастрофы. Видит в центре большую очередь, спрашивает: «Чо дают?» Напомню, что после нэпа вплоть до 1991 года в России ничего не продавали, а только давалиили выбрасывали.Маме отвечают: «Сервизы дают, только чашки больно маленькие, видно, детские». Мама выстояла очередь, купила, и как же она переживала, что мы сокрушили и этот сервиз, и всю нашу посуду! Но экзекуции не было – родители радовались, что мы остались живы.
Однажды мама послала меня за хлебом (было мне лет семь, если не шесть). Крепко зажав в кулачке деньги, я побежал в гастроном в центре, но когда подошла моя очередь, вдруг обнаружил, что денег-то – нет! Я был в таком отчаянии, так горько рыдал, что сердобольные женщины из очереди скинулись и купили мне хлеб. Придя домой, я положил хлеб на стол и, по-прежнему чувствуя себя виноватым, забился в какую-то дыру. Мама с трудом нашла меня: «Ты что это? Ведь ты же принес хлеб!»
А иногда родичи мои были, напротив, излишне мягки. Помню, как я осознал это (может, в первый раз), сравнив поведение моих родителей с поведением родителей моего друга Кольки Нельзина. Вот идем с Колькой и его отцом – дядей Митей на рыбалку. Мечтаем полакомиться яблочком (на каждого – по одному). И тут Колька говорит: «Папа, а давай побежим с тобой вон до того дерева! Кто быстрей – тому два яблока». Дядя Митя громадными прыжками быстро обогнал Кольку и с аппетитом схрупал оба яблока, свое и Колькино. Я хотел дать огорченному Кольке половину своего яблока, но дядя Митя и этого не позволил. И я подумал, что мой папка так не поступил бы: он, обернув всё в шутку, вернул бы яблоко хвастунишке-сыну. Но тут же я подумал: «А ведь поведение дяди Мити по отношению к сыну – мудрее: не зарывайся, отвечай за свои слова!»
На сопли, кашель, царапины и порезы ни мы, ни родители внимания не обращали. Летом бегали – в лесу ли, на улице ли – босиком. Наступишь на стекло, попрыгаешь на одной ноге, поморщишься, смажешь слюнями кровь и налипший песок и бежишь догонять других ребят. Палец нарывает? Ерунда! Подождешь, пока хорошенько нагноится, проткнешь иглой, выдавишь гной – и порядок.
А вот один случай меня слегка встревожил. Было мне, наверно, уже лет 13. Я неудачно спрыгнул откуда-то на доску со здоровенным, торчащим кверху гвоздем. Был не босиком – в «спортсменках» (легкие тапочки), но гвоздь пропорол подошву «спортсменка», насквозь проткнул мою стопу возле пальцев и вышел поверх «спортсменка»: я был буквально пригвожден к этой чертовой доске. Я не стал говорить маме (огорчится, обругает!), дома залил рану йодом с обеих сторон – сверху и снизу. И как на собаке, всё зажило очень быстро.
Играя на улице, мы обходили стороной деревянные столбы электропередач, потому что на них были страшные жестяные таблички с изображением черепа, пустую черную глазницу которого пронзает красная молния. И в каком ужасе мы были, когда однажды Гера нечаянно прикоснулся к такому столбу! Считая бесчестным обманывать обреченного, мы кричали: «Сейчас ты умрешь!» и показывали на череп. Наши слова, а еще больше то, что мы шарахались от него, чтобы сидящая в нем смерть не перешла к нам, привели Геру в такой ужас, что он с ревом бросился домой, к маме.
Взрослые не прочь были подразнить малышей. Шутки были довольно непритязательные. Меня, например, частенько дразнили глупой частушкой:
У Володи в огороде
Курицу зарезали.
Кровь теки, теки, теки,
Володю во солдатики.
То ли мне себя было жалко, то ли курицу, то ли нас обоих, но я начинал всхлипывать, пока мама или кто-то из теток не вступался за меня: «Чо вы его хвилите?» Хвилитьв пермских говорах значило: дразнить ребенка, заставляя его плакать.
Хвилили меня еще и Алексеевной. Это была крупная беззубая старуха, смахивавшая на бабу-ягу. Время от времени она приходила то к маме, то к кому-нибудь из теток «править» их (это такой очень глубокий массаж внутренностей). «Ну дак чо, Алексеевна, не роздумала идти взамуж за Вовку-то нашего?» – спрашивал кто-нибудь во время процедуры. Она степенно шепелявила: «Нет, не роздумала. Раз уж сосватали, я вертеться не буду, я своему слову хозяйка! После Покрова свадьбу сыграм!» Все смеялись, а я плакал. По правде говоря, я понимал, что это шутка, но, видимо (особенности детского восприятия!), все-таки не исключал полностью, на 100 процентов, возможности бракосочетания с беззубой Алексеевной. Сейчас думаю, что, возможно, такие шуточки были полезны для меня, помогали преодолеть свойственную мне в детстве чрезмерную чувствительность.
Иногда, честно говоря, я сам себя растравлял. Вот во время финской войны я, восьмилетний, рассматриваю в газете карту театра военных действий и отчаянно реву, увидев, что Финляндия на карте гораздо больше России. Напрасно меня утешают тем, что на карте изображен только фронт, только маленький кусочек России: в глубине души я верю взрослым, но мне приятнее не верить и продолжать рыдать.
Признаюсь и еще в одной своей слабости (присущей мне – увы, увы! – не только в детстве). Это крайняя доверчивость и простодушие. Мама на мою просьбу купить мне игрушку или книжку отвечала обычно какой-то глупой прибауткой: «Ну вот собаку облупим, так купим!» Кошек на улицах Воткинска бегало (и сейчас бегает) множество, а вот собаки забегали в это кошачье царство с опаской и довольно редко, поэтому, увидев бегущую в центре города собаку, я истошно завопил, испугав и маму и собаку: «Мама, собака! Хватай! Облупим, купим игрушек!»
Много лет спустя седые мои тетки вспоминали то про облупленную собаку, то про мою «невесту» – Алексеевну, то про Пашкино поле: «Ну, чо, Володя, на Пашкино поле за мёдом пойдем?»
Это был еще один розыгрыш. Старшие двоюродные сёстры Тайка и Нюрка как-то предложили мне пойти на лыжах на Пашкино поле за дешевым мёдом. Была зима, откуда бы взяться мёду за городом, на пустом, без единого строения Пашкином поле? А я поверил. Меня убедила серьезность, с которой сестры говорили об этом мероприятии: «Только не отставать и не бросать товаришша, что бы ни случилось!» Накануне похода я почти не спал, встал рано, собрался, обсуждал с мамой, куда мёд класть. Меня не насторожило даже то, что, прыская в кулак, мама дала мне какой-то дырявый мешочек. И только придя в дом сестер, я понял, что надо мной подшутили. Но дядя Ваня и тетя Толя стряпали пирожки, и они (пирожки) быстро меня утешили.
Бука. Ко мне бука никогда не приходила, но вот к моим братьям, особенно к Гере, она частенько наведывалась. Он был склонен поуросить (покапризничать). В неистовстве падал иногда на пол, бился головой об пол (точнее – о тонкие, жесткие половики на полу) – и так сильно, что на его лбу надолго отпечатывалась от половиков аккуратная мелкая сеточка кровоподтеков. И вот когда никак уж не могли успокоить Геру или другого расходившегося младенца, кто-нибудь из взрослых потихоньку выходил в чулан, надевал там тулуп овчиной наружу, на голову – вывернутую шапку, на лицо – тряпицу. И громко стучал в дверь. Уже это одно должно было напугать – у нас никто из приходящих не стучался, а прямо вламывался в дверь.
Взрослые изображали смятение: «Ой, наверно Бука идет!»
И входила Бука, страшная, с палкой в руке: «Кто тут уросит?!»
Ребятенок в ужасе прижимался замурзанной мордашкой к материнской юбке. «Ну, будешь ишо уросить? Бука заберёт!» Онемевший малыш только головенкой трясет: нет, мол, никогда не буду.
И взрослые подводят итог: «Уходи, Бука, он больше уросить не будет».






