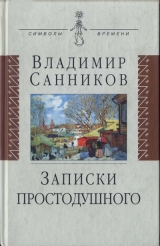
Текст книги "Записки простодушного"
Автор книги: Владимир Санников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Владимир Зиновьевич Санников
Записки простодушного
Милым моим детям – Оле и Андрею

Владимир Зиновьевич Санников, 2000
Родные мои! В минуты душевной «благостности» я рассказывал вам о своем детстве и юности. Хотя жизнь моя была избавлена (слава Богу) от необычайных потрясений и приключений, но я чувствовал ваш живой интерес к моим рассказам и желание сохранить их в вашей памяти. Быть по сему.
Может ли написанное представлять интерес для кого-то еще? Воспоминания интересны, если это воспоминания людей известных или о людях известных. Ни к одному из этих разрядов мои воспоминания отнести нельзя. Но относятся они к военным и «околовоенным» годам, интерес к которым, наверное, никогда не угаснет. Многие самые яркие, самые драматичные эпизоды этих лет запечатлены в романах, фильмах, мемуарах, но для создания целостной картины, может быть, представляют интерес будни далекого от войны Прикамья, где прошли мои детство и юность.
Бунин приводит старое мудрое изречение: «Вещи и дела, аще не написаинии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии…»
Картинки моего детства

Думаю, вы согласитесь, что о детских годах дворянских недорослей XVIII–XIX веков мы имеем более живое, ясное представление, чем о детстве наших современников.
Хотите пережить еще одно, военное, детство, сравнить его со своим, понаблюдать за другой эпохой, другими нравами и обычаями, довоенным и военным бытом? – Милости просим.
Главное (может, единственное) достоинство моих заметок – их фактографичность. Даже все имена и фамилии – подлинные. Бунин, один из любимых моих писателей, признавался, что почти ничего не помнит о своем детстве, отрочестве. Странно, но я, человек с памятью отнюдь не идеальной, многие картинки детства помню очень хорошо, так, будто было это только вчера. Ручаюсь, что в этих заметках нет не только эпизода, но даже и мелкой детали, придуманной, вставленной для «оживления рассказа». Достоверность многих из приводимых эпизодов могут подтвердить мои воткинские родственники, друзья, знакомые.
С умолчаниями – сложнее. Несколько эпизодов, крайне тяжелых, я опускаю…
Пытался было я пригладить, «причесать» речь моих родичей – бывших крестьян, но тотчас переставал их чувствовать… Их и без того уже бледные лица совсем стирались из памяти. Не могу я заставить маму говорить што(а не чо), ребятишки(а не робетишка), очень(а не больноили шибко).
МОЯ РОДОСЛОВНАЯПредки мои с обеих сторон – и Санниковы и Лагуновы – крестьяне прикамской Пермской губернии.
Хранить память предков как-то не было принято. Глубже третьего-четвертого поколения родовая память не копала – если не было чего-то уж крайне необычного. У нас в роду сохранилось лишь предание о моем прапрадеде-богатыре (а может, он был и прапрапра…). На узкой зимней дороге он не захотел уступить дорогу встречному обозу и в завязавшейся потасовке спихнул обоз (людей вместе с лошадьми и санями) в глубокий снег. Возмущенные мужики пожаловались на «фулюгана» в суд, но ничего не добились, кроме сраму. «И не стыдно вам семерым на одного жаловаться?» – будто бы сказал судья и потом добавил, обращаясь уже к ответчику – прапрадеду моему: «Иди, русский богатырь, но пусть удаль и сила твоя тратятся не на озорство, а во славу Государя и Отечества нашего!»
Кроме этого его «богатырского подвига», достойного Васьки Буслаева, известен еще один, тоже весьма сомнительный (нам рассказывала о нем мама).
В деревне, где жил прапрадед, стали пропадать овцы. «Ну, видно волки балуют!» – думали мужики попервоначалу. А потом подозрение пало на пришлого мужичка, Родиона, и мужики, нагрянув под водительством прапрадеда моего в его избу, нашли у него спрятанные в бочке и прикрытые сверху квашеной капустой шкуры украденных овец. Мужичок забился с топором в подполье: «Не подходи, убью!» Предок мой нацарапал что-то на листке бумаги (может, грамотный был) и кричит: «Радивон! Выходи, ничего тебе не сделам, только акт подпиши!» И жена мужичонки тоже кричит: «Выйди, Радивон, выйди да распушися!» (тут мама поясняла: «Они откуль-то приехали, вот она и говорила чудно: не роспишися,а роспушися»).Мужик бросил топор, вылез. Его схватили, повели по улице и на глазах всей деревни забили насмерть – почему-то досками (может, чтобы следов не оставалось?). Жестоко? Еще бы. Но – я уверен, что никто из деревенских ребятишек, которые всё это видели, никогда на воровство не пошел. И потом, в предвоенные и даже военные годы в деревнях пермских воровства не было (если не считать воровства лошадей цыганами). Идешь летом по чужой деревне и можешь заходить в любую избу. Никаких замков. Только кой-где к дверям прислонен батожок – знак, что хозяев нет дома.
Вернемся, однако, к прапрадеду. Увы, сила рода нашего ушла, видимо, на этого богатыря. Природа решила, что допустила тут некоторый перерасход, и стала экономить на следующих поколениях – все предки мои по отцовской линии крепки, жилисты, но не отличались ни ростом, ни особой физической силой. Вот духовной – это да.
АКИМ НИКИТЬЕВИЧ САННИКОВДед по отцу, Аким Никитьевич, старовер (старообрядец) воевал и в Русско-японскую, и в Первую мировую войну, был контужен, засыпан в окопе землей и, несомненно, погиб бы, если бы не откопал его односельчанин, Манойло. Этот Манойло запомнился нам, ребятишкам, громадной рыжей бородой и тем, что, выпив на деревенских гулянках, пел одну и ту же странную песню:
Чёрт призвал сапожника – жареные брюки…
Когда мы, дети, впервые увидели деда, мы чуть ли не попрятались под кровать – перекошенное лицо, один глаз незрячий, громадный, красный, другой – маленький, едва видный сквозь сморщенные веки. Но столько доброты и ласковости было в нем, что очень скоро мы перестали замечать его уродство. Как мы радовались, когда он приезжал в Воткинск из деревни! Когда он ложился отдохнуть, сухонький, пахнущий сухими травками, мы со всех сторон облепляли его, стараясь если не лечь рядом, так хоть рукой до него дотянуться. А он гладил нас, никого не обходя вниманием, и рассказывал что-нибудь: про японскую войну или как «в германскую» отступали они в жару из Пруссии, и воды не было, и ноги стерли до крови, и уж не было сил бежать…
И уже тогда поражала меня его незлобивость. Его, немало послужившего России, инвалида, георгиевского кавалера, всю жизнь травили большевики. Но и к ним, и к совершённому ими «октябрьскому перевороту», и к насажденному ими строю относился он с философским (точнее – христианским) спокойствием.
Помню эпизод, в конце войны или вскоре после войны. Лошадь у деда уже продана (налоги задушили), корова еще не продана, но кормить-то ее – нечем! Мы с дедом косили по каким-то полянкам в лесу – тайком. Никому они не нужны, полянки эти, но косить запрещалось (как же – колхозная собственность! Буквально – «собаки на сене!»). Подсохла наша трава, пора сгребать сено, а тут – дождь. Дождались мы ясной погоды, подсушили сено (хотя оно уже второго сорта, подмоченное) – и снова дожди, да затяжные. И гниет наше сено… Дождались, однако, солнышка, снова переворошили, подсушили сено, идем сгребать его в стог – снова дождь, и сильный! Всё! Теперь уж пропало сено, сгнило. Чем же корову-то кормить? И вот тут дед преподал мне (не в первый и не в последний раз) жизненный урок, который я пронес (увы, не очень успешно ему следуя) через всю жизнь. Переждали мы ливень под деревом. Солнце, словно издеваясь, выглянуло полюбоваться на нас и на погибшее наше сено. Дедушка говорит: «Ну, дак чо, Вова? Чо Бог делат, всё к лучшему!» И это не была бравада какая-то, а всё вполне искренне. Пошли домой. Зовёт меня: «Давай-ко, милой сын, вон там, я знаю, земляничник есть, давай ягодками полакомимся!»
И ведь все-таки сохраняется в России этот душевный склад, мудрое отношение к жизни, покладистость эта. Вот хотя бы мой товарищ, сотрудник НИИ «Информэлектро» Саша С. Показательная деталь. Послали нас (в добровольно-принудительном порядке) осенью в совхоз на уборку урожая. Возвращаемся с ним как-то с картофельного поля. Я предлагаю: «Ну, что, Саша, может, в Бронницы съездим?» Он охотно соглашается: «Едем, что здесь-то торчать?» Поразмыслив, я говорю: «Да знаешь, Саша, неохота что-то ехать, устали!» Он отвечает: «Правильно! А что мотаться-то? Нас и отсюда никто не гонит!»
Простите, отвлекся. Вслед за лошадью деду пришлось продать и корову, заменить ее козой. Подвыпивший дед шутил: «Вот спасибо добрым людям – научили жить! Раньше горбатилися со скотиной, а теперь хорошо – ни забот, ни хлопот. Одна у меня – коза-барыня. И сами как баре – спи не хочу!»
И вот так же, как к стихийному бедствию, относился он (и его односельчане) к «перевороту», к советской власти – терпеть надо («Бог терпел и нам велел!»). Терпеть надо, но идти на поводу – ни-ни! И когда наступила коллективизация, вся эта деревня (Пески, Еловского района Пермской области) отказалась идти в колхоз. Вся. Дедушка рассказывал, как на них давили: «Ну, собрание. Выходит уполномоченный, револьвер на стол: „Ну, чо, мужики? Куда пойдем, в колхоз или в Соловки?“ А мы говорим: „Ну, дак чо? В Соловки, дак в Соловки!“» И не пошли эти старообрядцы в колхоз, и никогда там, в этой деревне, «хамхоза» не было. Других примеров я во всей нашей многострадальной родине не знаю. И чудо – даже в Соловки большевики этих староверов не сослали. Нашлись, видно, люди, которые понимали, что невозможно так сразу ввести в «новую светлую жизнь» этих староверов, которые и старый-то дореволюционный мир принять не успели, застряли где-то в XVII веке, даже ткацкие фабрики считали бесовским измышлением и носили только домотканую одежду.
Но землицу-то отняли у староверов – в пользу соседнего колхоза, оставили только огороды и по клочку пашни (потом и ее отняли). И вот началось соревнование двух систем. Старообрядцы-единоличники из бедной деревни с плохими песчаными землями (отсюда и название – Пески!)жили гораздо лучше, чем колхозники из соседней деревни (когда-то богатой и к тому же присвоившей их земли). Дед, например, сообразил (ничего не зная о науке), что нужна «узкая специализация». В палисаднике поставил ульи, а почти весь огород отвел под лук (такого крупного лука я не видел даже на показушной социалистической выставке ВДНХ). Продавал мед и лук на рынке в Воткинске, и это спасало не только его, но и нас, его внуков, от голода в военные и послевоенные годы.
Прямо скажем: пчелы – соседи не идеальные. Помню, пьем летом чай (не цейлонский, не индийский, не грузинский даже – из травок или из сушеной моркови приготовленный), но на столе – миска с сотовым медом. Миска полна пчел, вокруг пчелы летают – ульи-то под окном, в нескольких метрах. Пчелы резких движений не терпят, поэтому мы с дедом и бабкой двигаемся как в замедленной киносъемке – медленно отделяешь кусочек меда и медленно, в несколько приемов, «с пересадками» доставляешь его в пункт назначения – в рот. Бывало, жалили, хотя и редко. Раз пчела ужалила меня в переносицу, и у меня заплыли оба глаза: чтобы видеть, приходилось пальцами приподнимать веки (как Вий: «Поднимите мне веки!»).
БАБУШКА УСТИНЬЯБабушка Устинья была неродная. Что заставило ее, видимо, привлекательную, статную девушку, выйти замуж за маленького, тихонького вдовца, отца троих сорванцов, по красоте сопоставимого с Квазимодо, – остается лишь гадать. Может, она, как и мы, оценила его душу, даже и для людей его веры не совсем обычную? Как родных детей вырастила она папу и его братьев, как к родным внукам относилась к нам. Дай Бог всем такую заботливую и ласковую бабушку, как наша «мама-стара» (так у староверов, возможно, только в наших краях, было принято называть бабушку; мать называли «мама-молоденька» или просто «мама»; отца – «папка»; дедушку – «батё»).
Что еще о бабушке, о маме-старе, рассказать? Считалась она в этой старообрядческой деревне знахаркой – лечила травками и заговорами и людей, и скотину. Изба – как у колдуньи: по стенам и на потолке – пучки душистых травок от всех болезней. Я и братья, пионеры, а потом правоверные комсомольцы, на лечение травками смотрели свысока, с высот современной науки, а на заговоры – как на предрассудки и суеверия. И вот представляется нам случай внести вклад в борьбу с суевериями. После первого курса университета (Пермского, тогда Молотовского) приезжаю я с братьями в Пески, к деду и бабке. Смотрит как-то мама-стара на мои руки и говорит: «Чо это, у тебя, Овонька (=Вовонька), руки-те все в бородавках, такие страшнущие?» – «Да вот, – говорю, – и выковыривал, и кислотой выжигал. Не помогает». – «Дак давай я выведу!» – «А как?» – «Да заговорю!» Переглянулся я с братьями и, с трудом удерживая смех, уселся на лавку – бородавки заговаривать. Бабушка взяла деревянный ухват от печки и, усевшись рядом со мной на лавку, принялась водить пальцем то вокруг бородавок, то вокруг сучочков на ручке ухвата (точнее, вокруг круглых следов от этих сучочков), приговаривая: «Как эти сучочки вывелися, так чтобы бородавки у Вовы вывелися!» Пошептала так, пошептала и отпустила меня. И 40 лет не было у меня ни одной бородавки. Теперь вот опять появились, но бабушки уж нет – их заговаривать.
НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ЛАГУНОВДругой мой дед, со стороны матери, тоже воевал в Первую мировую, но вернулся домой (деревня Мартьяново Пермской губернии) цел и невредим. И вообще был ловок, удачлив. В годы нэпа его большая семья жила в достатке. А потом посыпались на него беды. Нёс клокочущий самовар, и над столом, за которым уже сидела семья, оторвалась ручка и хлынувший кипяток обварил маленькую дочку. Повез на лошади в ближайшую больницу в Вассяты (7 верст) и не довез… Потом во время родов умерла жена, и дед остался с пятью детьми. Потом – коллективизация. Узнав, что местная беднота («нероботь») собирается его, вдовца с пятью детьми, раскулачивать, бросил всё и уехал в город (Воткинск). Но деревенская «нероботь» и тут не оставила его в покое. Видимо, в сговоре с местной, городской «нероботью» несколько раз ночью, пугая детей, врывались они в дом деда и искали золото и деньги. Даже в подполье всю землю не раз перерыли. Ничего не нашли, но еще больше обозлились на ускользнувшего от них «кулака». И когда на родине деда застрелили председателя сельсовета, то, не мудрствуя лукаво, обвинили в этом моего деда, хотя он жил уже в городе, до которого добираться – больше суток.
Рассказывал дед, как сидел в какой-то камере и каждую ночь открывалась дверь и выкрикивали фамилии: «Дёмин, Кочнев! Выходи!» А потом он слышал крики и выстрелы и ждал каждый вечер, что выкрикнут его фамилию: «Лагунов, выходи!» Этого, однако, не случилось, послали его в лагерь, не помню на сколько лет. Там, работая на стройке, дед упал с крыши большого дома. Повезло – упал на доски. Они спружинили, и это спасло деда. Но он повредил позвоночник, и его «списали», отправили домой. Старшие родственники мои вот уже в 2000 году рассказали, как выглядела эта гуманистическая акция: привезли деда на телеге и сгрузили у ворот дома – получайте своего кулака! Больше года он был прикован к постели, а потом родственники достали ему (с большим, мама говорила, трудом) жесткий кожаный корсет, и он стал понемногу ходить. Освоил плетение корзин, этим и жил. Даже женился, но – укатали сивку крутые горки. Сохранился в моей памяти нервным, суетливым, горбатым старичком. От прежнего бравого николаевского солдата (сохранилась фотография), первого парня на деревне, уверенного и удачливого молодца, рачительного хозяина, не осталось и следа… Впрочем, остался след: его энергичность, ловкость, общительность сохранились в его детях, особенно в моей маме.
ЖЕНИТЬБА МАМЫ И ПАПЫЗатрудняюсь вспомнить людей более несхожих, чем мои отец и мать. Общее, пожалуй, только одно – трудолюбие и добросовестность. А в остальном – ничего общего.
Маленькая, крепкая, веселая, очень общительная и живая, мама казалась моложе своих лет. «Ой, Сима, – говорили ей, – ты у нас бегашь, как девка!», на что мама неизменно отвечала шуткой: «Ну, сватья, маленька собачка до старости шшенок!» Отец – прямая противоположность: обстоятельный, замкнутый, молчаливый.
Всю жизнь я наблюдаю – с интересом, иногда с болью – за борьбой во мне этих двух характеров. Эта борьба шла с переменным успехом: в студенческие годы явно побеждало материнское начало (не потому ли студенческие годы остались лучшими годами моей жизни?), но со временем возобладал во мне обстоятельный, замкнутый, мрачноватый отец…
И вот мои родители, два таких несхожих человека, встретились и решили пожениться, хотя препятствий, кроме несходства характеров, было много, и главное препятствие – разная вера. Мама – православная, никонианка, «мирская», а отец – старовер, из деревни, истово блюдущей древлее дониконовское благочестие и противящейся всему новому и всем чужакам. Даже из одной посуды с «мирскими» есть не могли.
В студенческие годы в диалектологических экспедициях мы избегали старообрядческих деревень. Еще бы! Как сейчас помню: в жару просим попить. Старуха несет нам кружку воды, зажав ручку запоном (передником). «Да нет, бабушка, нам горячую не надо!» – «Пейте, и так не горячая!» Это она держала кружку не рукой, а передником, чтобы не осквернить руки «поганой», специально для «мирских» заведенной посудой. И представляю, какой эффект произвело заявление моего отца, что он хочет жениться на «мирской» из соседней деревни Мартьяново! Однако бабка и дед решительно препятствовать этому браку (как сделали бы многие их единоверцы) не стали.
И вот приходит мама в Пески – деревню, в которую раньше она и заходить-то избегала, в семью староверов. Чувствовала себя не очень-то уютно, после нам рассказывала: «Сперва мамонька (свекровь) надо мной маленько мудрялася: то не так, это не так. Вот садимся мы ись (есть). Встану это перед иконами, а мамонька так и глядит – как креститься буду, двумя перстами или тремя? Ну, я душой кривить не хочу, крещусь как наученная, по-нашему, троеперстным крестом. Ну, мамонька губы подожмет, а молчит». А дальше – хуже, обиднее: для еды давали маме отдельную миску. В деревне ведь в это время (да даже и после войны) семья ела из одной общей большой миски, стоящей посреди стола. Отдельно староверы кормили-поили только «иноверцев», включая сюда и христиан-мирских. Для этого (напоминаю) и особая, «поганая» посуда была. Вот из нее-то мама и ела. Но разве можно было не полюбить маму – за удивительную ловкость в работе, за легкий и веселый нрав? И однажды во время еды не выдержал дедушка: «Чо вы ей как собаке в каку-ту черепеньку наливаете?» И – человек дела – швырнул «черепеньку» под порог. «Ешь, мила дочь», – сказал он маме, указывая ложкой на общую миску. Эта выброшенная «черепенька» была для мамы чем-то вроде меча при посвящении в рыцари – новая семья приняла ее.
ПЕРЕЕЗД В ВОТКИНСКРодился я в 1931 году, уже в Воткинске, куда «гонимые ветрами социалистических перемен» бежали, бросив дома и хозяйство, мои родственники. Старая жизнь для них кончилась. Началась новая, городская.
Воткинск – небольшой прикамский, приуральский город. Впрочем, прикамским и приуральским его можно назвать с оговорками: Кама – в 15 километрах от города, а Уральские горы и совсем далеко. Но уж слегка морщат они, далекие эти горы, нашу землю, и как же украшают ее эти «морщины» – высокие холмы и глубокие лога! Стоишь где-нибудь за городом на высоком угоре (холме), и далеко-далеко видно вокруг, и расчерчена эта даль плавными линиями других холмов: на ближнем холме зеленый лес, за ним (над ним) – ярко-желтый квадрат цветущей горчицы, и с другой стороны – зеленый луг с белыми и темными точками – пасущимися коровами, а еще дальше (и выше) – опять лес, но уже не зеленый, а далекий, темно-синий.
Что сказать о самом городе? Обычный провинциальный город – деревянные домики с наличниками и палисадниками, немощеные улицы. В центре – несколько пузатеньких кирпичных купеческих домиков-лавок (после революции возведенных в ранг магазинов), несколько школ, здание заводоуправления. Чуть в стороне – самое красивое здание – бывшая богадельня, ставшая городской больницей (в ней и я лёживал), и, наконец, красивый особняк директора завода, в котором родился и жил до 8-ми лет сын директора Воткинского завода П. И. Чайковский. Была еще действующая каменная церковь, ну и главный городской собор – Благовещенский, в котором крестили П. И. Чайковского и который был большевиками обезглавлен и переоборудован в клуб.
И – еще две достопримечательности. Первая – сам Воткинский завод, основанный графом Шуваловым в середине XVIII века по указу императрицы Елизаветы Петровны. Здесь производились железо, большая часть якорей для российского флота, станки, корпуса морских и речных судов, железнодорожные мосты (некоторые из них стоят до сих пор не только в России, но и в Западной Европе). В книге «Воткинский завод», изданной Удмуртским университетом в 1998 году, отмечается, что здесь выполнялись почетные государственные заказы. Именно здесь, к примеру, были изготовлены потолочные балки Зимнего дворца, шпиль Петропавловской крепости в Петербурге (доставленный туда в разобранном виде).
Завод изготовлял артиллерийские орудия. В основном это были противотанковые пушки, сначала 45-мм (сорокапятки), потом, с началом войны, более мощные – 57 мм и 76 мм, прошивавшие броню немецких танков – «Тигров» и «Пантер» (одна из этих пушек поставлена на постамент в воткинском сквере на берегу пруда). По свидетельству книги «Воткинский завод», немецкий специалист, консультант гитлеровской рейхсканцелярии, охарактеризовал 76-мм пушку как «самую гениальную в истории ствольной артиллерии». С 1958 года завод производил ракеты, в том числе ракеты средней дальности. И удивительное дело! Город, костяком которого был знаменитый завод, получивший более двадцати наград и медалей не только на российских, но и на международных выставках, до последнего времени оставался заштатным провинциальным городком с курами, свиньями и грязными ребятишками на немощеных улицах…
Но для меня-то всю жизнь главной достопримечательностью города был наш Воткинский пруд, созданный на слиянии нескольких рек и речек тогда же, в XVIII веке, для нужд завода. Пруд – чистый, глубокий, громадный (километров 15–20 в длину), окаймленный великолепными сосновыми лесами. Стоишь на мысу, на обрыве, крепко держась за сосну, подмытую половодьем. Под тобой песок и камни, кой-где карабкается по крутизне иван-чай, в воде внизу камыши и кувшинки, и далеко-далеко – голубая гладь воды. А еще дальше влево – город, красивый издали, а вправо – другой мыс и синие леса за ним. Каждый раз, как я приезжаю с семьей на мою родину, мы непременно приходим на этот мыс (Шарканский он называется) и любуемся, и молим Бога, чтобы не была погублена эта красота. А опасность – есть, уже и нефтяники местные нефть в пруд выливали…
Стоит, пожалуй, коснуться и «национального вопроса». Воткинск – город русский, но расположен на стыке границ и народов: на севере (чуть ли не в десяти километрах) – удмуртские села, на юго-западе (в тех же десяти километрах) – Татария, на юго-востоке, сразу за городом, – русские села, Пермская губерния. Конфликтов на национальной почве не было, жили мирно. Татар (как и удмуртов) ощущали как чужих, но уважали – за трудолюбие, аккуратность, а главное – за добросовестность. Даже у нас, близких к земле русских жителей Прикамья, татары славились как отличные косцы. Помню, в сенокос на камских пароходах ехало на заработки множество татар с литовками (косами) в холщовых чехлах и с женами-татарками в шароварах. Моя мама в косьбе не уступала мужику, но и она, помню, говорила мне: «Нет, Вовка, против татарина я не выдюжу! Да он за день в два раза больше выкосит!»
В самом Воткинске татар было немного, однако была (и сейчас есть) деревянная мечеть, а до войны за городом в конце июня на большом поле, на молодой весенней травке устраивался татарский праздник – сабантуй. И он становился шумным многолюдным общегородским праздником. Тон, конечно, задавали татары: татарские блюда, татарские игры, состязания. Но русские были горячими болельщиками, а иногда и заимствовали что-то из этих молодецких татарских игр. Помню, маме почему-то особенно понравилась татарская борьба, и после, в разгар наших воткинских гулянок, она иногда подзуживала мужиков: «Ну, мужики, кто смелый? Давайте татарскую борьбу!» Борцы ложились на спину, валетом, зацепляли друг друга ногой за ногу и по команде старались перевернуть соперника. Мама, маленькая, но очень крепкая, обычно выходила победителем из борьбы со здоровенными мужиками. Главную роль играла здесь, понятное дело, ловкость и хитрость: мужичина еще не успел включить на полную мощность свои рычаги, ан уже перевернут и скребет ножищами по полу под смех родичей.








