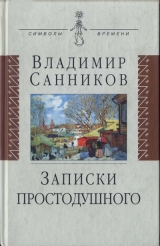
Текст книги "Записки простодушного"
Автор книги: Владимир Санников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Трудно пришлось моим родичам на новом месте, в непривычной городской обстановке.
Приехав как-то к деду в деревню Пески, я с изумлением узнал, что здание конторы (оно же деревенский клуб) – самый большой в деревне, высокий и светлый деревянный дом – до коллективизации принадлежал моему дяде Афоне и его родителям! Легко ли было бросать такой дом, хозяйство, родные места и поселяться в Воткинске в хибарке вместе с двумя такими же семьями-бедолагами? Но они, мои родственники, были рады, что хоть живы остались.
Сбережений «клана» хватило только на один деревянный дом. Тут, в сущности в одной комнате, поселились три молодые семьи – по семье на кровать. Жили дружно. Дядя Ваня, пожарник, уходя на работу, говорят, непременно брал меня на руки и, обогнув дом, подавал меня маме или папе в окно.
Даже сама теснота служила предметом шуток. Основным объектом была моя мама, которая была не без лунатических наклонностей – «торусила», «бормила» (говорила) во сне, а то и бродила по дому. Рассказывали, как ночью она в бессознательном состоянии сняла с окон и дверей все шторы – в стирку (крепок же был сон моих родичей, если они обнаружили это только утром!). А то ночью, услышав мой плач, мама совала соску в рот папе (на каждую семью, повторяю, была одна кровать): «На-ко, пососи, дитятко!», и тот сердито отплевывался: «Чо ты опять бормишь?!»
И отец, и многие родственники устроились на работу возчиками (конновозчиками, как тогда говорили). Ни легковых, ни грузовых машин в Воткинске тогда почти не было, а им, недавним крестьянам, работа на лошадях была привычна.
Видимо, не так уж плохо зарабатывали в те годы: через несколько лет все мои родственники расселились из «общежития», купив деревянные домишки. И это при том, что ни мама, ни тетки мои на производстве не работали («домохозяйки»). Конечно, кроме домашнего хозяйства, воспитания детей, заботы об огородах и т. п., каждая из них занималась каким-то «рукомеслом» на продажу: мама шила, тетя Клаша помогала мужу валять валенки, тетя Толя (Евстолия) купила старый деревянный ткацкий станок и ткала половики, которые шли нарасхват на местном базаре.
Как-то совсем особняком стоял дядя Саша – младший брат мамы, мой любимый дядя. Впрочем, любимым дядей он стал после войны. Из моих довоенных связей с ним в памяти (и не моей даже, а в памяти моих теток) сохранился лишь один эпизод. Собирается дядя Саша на какой-то школьный (рабфаковский) вечер, прихорашивается, мама снимает с его костюма какую-то пылинку, и тут я, сидящий на ее руках, оскверняю этот его единственный, тщательно отутюженный костюм! Огорченный дядя Саша поворачивается к свету, чтобы оценить масштабы катастрофы, и тут я оскверняю и второй бок пиджака.
Я не встречал человека более доброго, мягкого, интеллигентного (да-да, интеллигентного, хотя был он сын крестьянина и детство провел в деревне). Дядя Саша резко отличался от других моих дядьев. Он очень хотел учиться и единственный из моих старших родственников окончил рабфак. Это – рабочий факультет (нечто типа десятилетки), призванный создать «новую, нашу, рабочую интеллигенцию». После дядя рассказывал мне анекдот про рабфаковцев тех времен. Рабфаковец загадывает шараду: «Первое – певчая птица. Второе – то, что говорят в начале телефонного разговора. А целое – то, что я чувствую на экзамене. Ответ – чиж-ало».
Если другие мои родственники приняли новую жизнь «со скрипом», то дядю Сашу (он, правда, был моложе) даже заразили всеобщий энтузиазм, романтика строек. Помню, как он весело распевал задорные комсомольские песни. Дядя-то эту жизнь принял, а она его – нет… Кто-то из местных чекистов дознался, что Александр Лагунов – сын заключенного, бывшего кулака. Много лет спустя дядя мне рассказывал:
– Я его и раньше немножко знал. Знал, что он в органах. А тут встретились в саду Чайковского, он говорит: «Садись, Лагунов, разговор есть. Что ж ты скрываешь, в анкетах не пишешь, что сын кулака, лагерника?.. Да ладно, не дрожи! Ты, вроде, для советской власти невредный, я тебя выручу, никому не скажу. Сам понимаешь, чем рискую. Если узнают, что тебя покрывал, – с работы снимут, из партии выкинут. Ну и ты меня выручи. Связался я тут с одной лярвой, ребенка ей сделал. Она на алименты подавать хочет, а меня ж со свету сживут, если узнают! А ты холостой, беспартийный, возьми это дело на себя. Ну и квиты будем». И дядя платил алименты на чужого ребенка 18 лет – с перерывом на службу в армии в 39–45-х годах.
Сейчас трудно представить, насколько дружно, одной семьей, жили мои родичи. Вступившая в «клан» молодая женщина уже воспринималась родственниками мужа (здоровенными мужиками) как сестра и для них переставала быть женщиной. Да что там – в домашнюю баньку иногда мои дядья и их жены ходили все вместе! Как меня удивляло потом, что в «цивилизованном обществе» совсем другое отношение к женам родственников и друзей!
Радости, горести одной семьи – общие радости и горести. Вещи – тоже были общие. Помню радостные крики старших: «Илья патефон купил!» И вот почти каждый выходной мы слушали у дяди Ильи пластинки. Выходной тогда был совсем не то и не тогда, что сейчас. Перед войной у моих родных была пятидневная рабочая неделя: четыре дня работаем, пятый отдыхаем. Как же огорчались верующие, когда выходной попадал на «постные» дни – среду или пятницу: погулять бы, выпить – ан нельзя, грех!
Патефон у дяди Ильи мы слушали как слушают концерт в Большом зале консерватории – благоговейная тишина, никакой выпивки, беготни, болтовни. Когда пластинка кончала шипеть, кто-нибудь заказывал следующую: «Ну-ко, Шурка, давай Тачанку-ростовчанку», и мой младший брат Шурка, не умеющий (как и большинство собравшихся взрослых) читать, по цвету этикеток, по каким-то царапинкам на них моментально находил нужную пластинку.
Родичи мои, особенно молодые, и сами стали осваивать городскую культуру, например, городские романсы – «Позарастали стежки-дорожки», «Мой костер» и т. д. Особенно любили любовный романс «Всё васильки, васильки». Их, эти васильки, влюбленный собирал у реки для любимой девушки:
Я ее на руки брал, в глазки смотрел голубые,
Ножки ее целовал, бледные ножки, худые.
Только в студенческие годы я обнаружил, что этот любовный романс – сокращение и полное переосмысление большого трагического стихотворения Алексея Апухтина «Сумасшедший», одного из лучших его стихотворений. В начале XX века его очень любили читать чтецы-декламаторы. Там сумасшедший вспоминает в минуту просветления, как он собирал васильки… для своей дочки Оли!
Олечка бросит цветок
В реку, головку наклонит.
«Папа, – кричит, – василек
Мой поплывет, не потонет?!»
Я ее на руки брал,
В глазки смотрел голубые,
Ножки ее целовал,
Бледные ножки, худые.
Какая удивительная трансформация!
Легче и быстрее менялась внешняя сторона жизни вчерашних крестьян. Деревенские лыковые пестери сменились зимбелями (так почему-то называли сумки), лавки – стульями, пусть самыми дешевыми, из цельных корявых стволиков карельской березы (думаю, немалые деньги стоили бы сейчас такие стулья!). Городские «щиблеты» и «баретки» не сменили, но потеснили лапти. Лапти теперь надевали только уходя в лес. У нас были свои детские лапотки. Я и теперь убежден, что для сухой погоды лапти – самая удобная и гигиеничная обувь (как для настоящей, не слякотной зимы – валенки).
А вот шарф, не известный в деревнях, не привился среди моих родичей и в городе. Помню, возвращаешься в мороз из школы и подбородком прикрываешь голую шею. Первый шарф появился у меня лишь в студенческие годы.
Медленнее и мучительнее менялась в городе психология, особенно у мужчин. В непривычной городской обстановке многие недавние мужики терялись, «для снятия стресса» нередко начинали злоупотреблять испытанным тонизирующим напитком. Помню, не раз смирные умные лошадки сами привозили к воротам дома кого-нибудь из моих родичей, беспробудно спавшего в телеге.
Женщины приспосабливались к новой жизни быстрее, они охотнее и бойчее разговаривали с «городскими», легче преодолевали приверженность традиционной нерушимости жизненного уклада. Противоречивая русская натура, с одной стороны, склонна к неспешности («Русские медленно запрягают»), а с другой – не любит откладывать дело в долгий ящик и принимается за него поскорее, не обдумав все детали («Быстрей, быстрей! Начнем, а там посмотрим»; «До гоним – перегоним! Сделаем – переделаем!»). Это было свойственно и маме, и, каюсь, мне. Сколько было сделано впопыхах, а потом переделано!
Даже имена детям маме не удавалось дать «с первого раза». Я был записан в загсе как Николай. После мучительных раздумий и лингвистических прикидок ( Николай… Никола… Коля… Колька… Колянко)мама, несмотря на крестьянскую трепетную боязнь госучреждений, снова пошла в загс и добилась превращения меня во Владимира.Через два года мой брат превратился из Семенав Александра.
Метаморфоза ждала и другого моего младшего брата, Григория. Тетя Клаша рассказывала мне позже: «Сима ходит и талдычит: Григорий– ничего, а Гриша, Гришка…Нет, не глянется мне!» Брат все-таки остался Григорием, но только потому, что соседка наша, узнав о маминых терзаниях, сказала: «Вам, Ефросинья Николаевна, полное имя Григорий– нравится, а сокращенное Гриша– нет? Так зовите его иначе, ну, например, Гера!»И это маму устроило.
В этом внимании к именам, к их звучанию можно увидеть некую наследственную предрасположенность, сделавшую меня (а потом и моих детей) лингвистами.
Совсем другой, чем «у городских», была у моих родных манера поведения, особенно в семье. Нежности (не только «телячьи», но и просто нежности) были совершенно исключены. Не представляю, чтобы жена прижалась («принародно») к мужу, или муж обнял жену. Был принят грубовато-шутливо-снисходительный тон при обращении к супругу (или супруге) при посторонних, даже при родственниках. Помню, папа был очень доволен, когда мама предложила купить ему новый костюм, но вот как он (явно тронутый заботой жены!) рассказывал об этом дяде Афоне: «Моя-то, чо удумала! Давай, говорит, кустюм тебе новый купим! Хе!» Всю скрытую любовь и нежность женщины проявляли на похоронах супруга или потом, горько сетуя на его могиле.
Дети составляли исключение. Для детей у матерей находились (кроме обильных подзатыльников) и поцелуи, и ласковые слова. Но сдержанность, царящая в отношениях между родителями, сказывалась и на нас, детях, на нашем отношении к родителям. Однажды мой школьный друг Колька Нельзин преподал мне урок. Огорченная чем-то мама горько плачет, я испуганно и сочувственно издали смотрю на нее, а Колька шепчет: «Что ж ты?! Подойди, успокой мать!» Для нас такое было совершенно дико, мы, стараясь успокоить маму, всегда бросались что-нибудь делать – подметать, чистить стайку, пилить дрова.
ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕРЧуть ли не самое трудное для новых горожан – языковой барьер. Все мои родичи – крестьяне Пермской губернии – говорили на пермском диалекте северного наречия русского языка и унаследовали все основные признаки этого наречия: оканье, стяжение в глагольных формах (делат, читатвместо делает, читает),употребление согласуемых постпозитивных частиц (в литературном языке: село-то, дом-то, изба-то, руки-то,у нас: село-то, дом-от, изба-та, в избу-ту, руки-те),долгое твердое шна месте мягкого щ (Мне шшука попалася —«Мне щука попалась») и т. д.
Конечно, были в речи старших моих родственников и некоторые различия (наш большой «клан» объединял выходцев из разных районов Прикамья): кто-то цокал (цистовместо чисто),кто-то чокал (куричавместо курица).Говорящие и сами замечали, обыгрывали эти различия. Даже в частушках это отразилось:
– Милка, чо, милка, чо?
Милка, чокаешь почо?
– А я девчонка-северяночка,
Почокаю – дак чо?
Ну, а дядя Ваня у нас – особая статья, он сокал (Куриса снесла яисо; Скажи курисе, а она всей улисе)и смягчал заднеязычные ги к (Ванькя истопил банькю, потом попил чайкю).
Говорить «по-городски» мои родственники так и не научились. Конечно, самые броские отличия замечались и отметались: некоторые, особенно молодые, стали акать, говорить одежда,а не одёжа, велосипед,а не лесапед, лужа,а не лыва.Нередко, понятное дело, и впросак попадали, пытаясь показать, что тоже «не лыком шиты». И тут уж над ними смеялись не только «городские», но и «деревенские» тоже. Помню, рассказывали, как одна девушка из деревни, где вместо мягкого ки г (руки, ноги)говорили т, д( рути, ноди),с достоинством потчевала гостей, демонстрируя свою образованность и умение обращаться с ки г: «Наке берике»(Нате, берите).
Или другая подобная история, о молодом крестьянском парне, который старательно акал, показывая свою образованность, да вдруг и разоблачил себя, употребив другую, более «грубую», чем оканье, диалектную черту: «Хадил па Маскве, шел па даске, упал с даски, да прямо в грезь!»(в грязь).
Эти и подобные звуковые различия между «городским» и «деревенским» языком нередко приводили к непониманию (« Виник, куриса– что это такое?»).
Чаще всего, однако, недоразумения при общении были связаны с лексикой. Немало было у нас диалектных, пермских слов, которые были непонятны «городским», а то и вводили их в заблуждение: обабок(подберезовик), синявка(сыроежка), становина(ночная сорочка), мизгирь(паук), векша(белка), калега(брюква), заплот(забор), робить(работать), гаркать(призывать: «Ну-ко, робетишка, Шурку погаркайте, ись (есть) пора!») и т. д. Особенно трудно было усвоить тонкости употребления слов. И сколько тут было недопониманий, довольно смешных, а иногда и печальных (и смех, и слезы)!
Вот мы с изумлением слышим, как соседская девочка говорит своей матери: «Я пойду погуляю, мама!» И та отвечает: «Погуляй-погуляй, дочка!» У нас, в пермских говорах, гулятьзначило вести распутную жизнь («Она от него гуляет!»), а желая поиграть на улице, мы спрашивали у мамы, можно ли побегать,и мама соглашалась: «Ладно, побегайте маленько!» Прилагательное самостоятельныйзначило у нас «солидный, серьезный» («Такой мужчина хороший, самостоятельный!»).
Глагол велетьзначил одновременно и «приказывать», и «разрешать». Помню, мой друг Колька Нельзин переживал, что, играя с ружьем в доме своей тетки, всадил ей в бедро добрый заряд дроби. «Но она же сама велела ружьем поиграть!» – утешал я его, а он меня поправил: «Не велела, а разрешила!» А как он хохотал, когда я сказал, что у нас сегодня будут губы жарить! Спросил: «А носы вы жарить не будете?» Дело в том, что у нас губами называли грибы, а губы (часть тела) – это у нас брылы.Или вот тетя Тоня (мать Кольки) кричит мне на их кухне: «Вова, подгорает! Быстро дай миску!» Я подаю кастрюлю. Она возмущается: «Ты что, смеешься?» А я и не думал смеяться. У нас мискойназывали кастрюлю (слова кастрюлявообще не было). А миску мои родичи именовали чашкой.Вы спросите: а как же именовали тогда чайную чашку? Так и именовали – чайная чашка.
А вот и еще несколько каламбурных несовпадений речи «деревенской» и «городской».
Кочи.Это не воспетые Некрасовым кочи(кочки): «…И кочи, и моховые болота, и пни – / Всё хорошо под сиянием лунным…» У нас это слово употреблялось в значении, которое даже Владимиру Далю было неизвестно: кочи– это волосы (кажется, только женские). Помню диалог:
– Машка, неужто шарам-то твоим(глазам) не стыдно?
– Нет, ты сама постыдилася бы, зараза! Я те кочи-те повыдеру!(небольшая словесная разминка двух соперниц перед баталией, в ходе которой серьезно пострадали и «кочи», и прочие атрибуты женской красоты).
Слово водкавыходцы из деревни не употребляли: только – вино.Было оно двух видов: белое вино(или просто белое) – водка, и красное вино —всё остальное. Помню, тетя Толя (Евстолия) шепчет мне за столом (это уже после войны было): «Нет, Вова, уж куда мне, старухе, белое пить! Ты мне послабже, красненького вон налей!», и кивает на бутылку с 60-градусным венгерским ромом.
Еще интересный пример – обращение к собеседнику. Как и в городе, у нас, выходцев из деревни, к близким родственникам обращались по имени: Ваня! Сима!А вот к взрослым родственникам не столь близким, а также и к знакомым обращались исключительно по отчеству (без имени!): Северьяновна! Афанасьич!И это независимо от возраста. Маму, например, близкие родственники звали Симой,а все остальные ее, молодую 30–35-летнюю женщину, именовали исключительно Николаевной.Помню, коренным воткинцам это казалось странным: «Что это вас, Ефросинья Николаевна, как старуху зовут – Николаевна?» Странным казалось им и то, что все взрослые родственники одного из супругов называли любого родственника другого супруга сват(или сватья).
Один супруг, говоря о другом, употреблял обычно слова моя, мой: Моя-то в деревню вчера ходила; Мой-то опять нажорался(напился). Лыка не вяжет!
Но больше всего смешило городских то, что маленьких несмышленышей ласково величали у нас батюшкамии матушками(«Чо, ручку зашиб? Ой, ба-атюшко! Ну ничо, не реви, не реви! Дай я подую на ручку, и всё пройдет!» Или: «Ой, матушка! Ягодку тетке принесла? Ну спасибо, спасибо, съем твою ягодку!»).
Впрочем, и деревенские, в целом признавая превосходство «городского» языка, иногда находили в нем что-то смешное. Помню, и дедушка Аким Никитьевич, и мама посмеивались: «Чудно в городу говорят: Ходить за ягодами,или, того чишше: за водой.Это чо – ягоды от тебя бегут, а ты за ими идешь, или речка текёт, а ты за ей бежишь?» (в пермских говорах в этих случаях употребляли предлог по: Я с утра-та по ягоды ходила, а счас вот по воду иду).
РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯИз раннего детства память, понятное дело, сохранила немного. Всего несколько картинок вспоминаются, но так живо, будто я сейчас всё это вижу. Они совершенно обыденны, эти картинки, но интересно, почему из многих тысяч память отобрала именно их? И еще: почему все они связаны с физической болью, или стыдом, или страхом? Впрочем. Бунин тоже писал, что младенчество свое вспоминает с печалью: «Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа».
Летний вечер. Красноватые лучи заходящего солнца. Мама носит меня (трех– если не двухлетнего) на руках, убаюкивает. Укутанный теплым платком, я прижался к ее груди. У меня корь. Мне тошно, больно и в то же время непередаваемо уютно и покойно на руках у мамы, как будто еще живо какое-то утробное воспоминание о времени, когда я был ее частичкой, и сейчас эта частичка набирается от нее тепла и сил.
Вторая картинка. Зима. Я стою с деревянной лопаткой на снежной горке во дворе дома. Отворяются ворота, и входит мама. Я бросаюсь ей навстречу, падаю, ударяюсь головой об лед и теряю сознание.
Лето. Мне уже года четыре. Играя с соседскими мальчишками на улице, я вдруг обнаруживаю, что со мной случилась неприятность, и большая. Забежал домой, скинул трусишки и, поскольку других не нашел, побежал на улицу в одной рубашонке: мне показалось, что из-под нее ничего не видно.Однако ребята с криками «Голый, голый!» запрыгали вокруг меня, и я, наклонив голову, увидел, что действительно – всё видно!С ревом, чувствуя себя опозоренным навеки, побежал я домой, преследуемый улюлюкающими ребятишками.
Мне года четыре-пять. Мама куда-то уходит. Обычно я безропотно остаюсь один, а тут никак не хочу отпустить маму. Бегу за ней и, захлебываясь от рыданий, всё выкрикиваю строчки какого-то стихотворения: «Ах, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети!.. Ах, попалась, птичка, стой!..» На детские капризы у нас особого внимания не обращали, а может, у мамы были срочные дела – она всё-таки уходит. И – странное продолжение сценки. Жили мы тогда на втором этаже двухэтажного деревянного дома. У нас был свой вход, свои сенцы с крутой деревянной лестницей. Я проводил маму вниз, закрыл на крючок входную дверь, но когда стал подниматься вверх по полутемной лестнице, освещаемой только малюсеньким оконцем, услышал за спиной шелест крыльев и почувствовал, как громадная черная птица летит, гонится за мной. Я (тоже птицей) взлетел наверх, закрыл дверь на крючок и забился под одеяло.
И последнее из ранних воспоминаний. У меня скарлатина, боль в горле, больно даже языком шевелить, сильный жар, а мама положила меня на раскаленную, только что истопленную печь и заставляет пить керосин (народное средство). До сих пор чувствую во рту омерзительный вкус этого керосина. Керосин не помогает, и мама везет меня на санках в больницу (ни «скорой помощи», ни какого-то общественного транспорта в Воткинске ни до войны, ни во время войны и в помине не было). Помню, как сквозь шаль, которой мама укутала меня с головой (зима!), перед моими глазами пляшут кружочки света. Их, эти серовато-блеклые кружочки, помню совершенно ясно, а вот из долгого пребывания с мамой в больнице не помню ничего.






