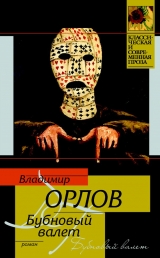
Текст книги "Бубновый валет"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Она пловчиха, – сказал я. – Кандидат в мастера. Брасс. И спина. Ее в сборную, может, возьмут.
– А-а. Понятно, – успокоился Чашкин. – А я-то подумал… Так ее небось в институт примут без конкурса и задаром… А она здоровая, я же не знал, что пловчиха, она полы мыла, даже туалет отдраила, я вижу – тело у этой провинциалки будь здоров!
С Чашкиным мы были недруги, но даже его похвала моей гостьи сегодня вышла мне приятной. Не знаю, почему Юлька свое тело порой упрятывала в балахоны и угловатые движения, пользуюсь выражением моей матери – тело она уже нагуляла. И оно было прекрасное.
– Я тебя люблю, – сказал я Цыганковой. – И у нас с тобой все единое.
– Да, – сонная и голая, она стала приподыматься на локтях в постели. – У нас с тобой одна душа, одна кожа и одни ноздри.
– Насчет ноздрей я не уверен.
– Ну, значит, один рот и один аппетит. И ты сейчас меня накормишь.
– Яичница. С колбасой. И “Тетра”.
– Прекрасно.
– Тебе восемнадцать?
– Подсчитай сам.
– Мы с тобой распишемся.
– Ты дурак, что ли? Нет, ты все же ребенок. Распишемся! А мне это надо? Папаша застрелится, сестра застрелится. Одна мать будет плясать и смеяться… Но она тебя и любит… И ты ее… А я старая грешница… Я уйду в монастырь… И мне надо опекать забиваемых…
Я обиделся. Я рассказал Цыганковой про звонок соседки родителей. Юлия Ивановна заохала, она так и заухала. томная, теплая, голая, и посоветовала мне ехать на дачу. Я был уверен, что она не отпустит меня, притянет к себе, мысли о матери пропали, кроме этой женщины для меня ничего не существовало, но Юлика, Юла толкнула меня и сказала:
– Ну, раз такая история, поезжай. К вечеру небось вернешься, если ничего серьезного нет.
Тут я не только обиделся, но и рассердился. И сказал себе: “Оно и к лучшему. Я от нее и освобожусь. Ни к какому вечеру не вернусь!”
Огород наш был расположен на отхолмьях Клино-Дмитровской гряды за Дмитровом. Савеловский вокзал, Лобня, Яхрома, Дмитров, далее Вербилки (кстати, ведь там гарднеровско-кузнецовский фарфоровый завод, как это выпало из моих соображений?). В двух километрах – канал. Никаких серьезных приступов у матери не было, просто старики соскучились по мне. И папашу, большого политика, возмутило заявление Дмитрия Полянского, который был тогда одним из владетелей отечества, о том, что наследство – понятие капиталистическое или мелкобуржуазное и садово-огородные участки детям передаваться не будут и вообще могут быть отобраны у хозяев, которые торгуют яблоками и клубникой. Папаша, известный своим утверждением “Не суйся куда не следует”, стал вдруг огородным оратором, осуждал – подумайте кого – члена Политбюро, отстаивал право рабочего человека, гегемона, на собственный клочок земли, то есть именно и выражал мелкобуржуазные настроения. Он ожидал моих мнений, ведь я работал в такой газете! Между прочим, сказал я папаше, пряча усмешку, год назад принят указ, по которому всякие болтуны, клеветники России и пожелавшие передать свои рукописи на Запад, превратно толкующие достижения народов и решения властей, могут получить до восьми лет. “Это ты мне говоришь? Модельщику, гегемону? – поинтересовался отец. – Прошедшему войну с Красной Звездой и двумя орденами Славы?” – “Конечно, тебе, – уточнил я. – Не себе же”.
Я не обиделся на обман стариков. И слава Богу, что мама не болела. А я должен был освободиться от наваждения, от затмения, солнечного или лунного, или еще от чего, от стихийного бедствия, набросившегося на меня. Я не мог иметь никаких отношений с Юлией Ивановной Цыганковой, старшей сестрой Виктории Ивановны Корабельниковой. Мной был наложен запрет на эти отношения. Но случилось нечто ведьминское, я был обязан сжечь это ведьминское на костре. Я никак не считал в этом происшествии хорошим себя. Юла была лучше. Сегодня я понял, что есть любовь. Но необходимостью было эту любовь в себе истребить. История с Юлией любовью быть не должна. И то, что она с легкостью меня отпустила, не вцепилась в меня, не взвыла, боясь потерять любимого, укрепляло меня в моих соображениях. То, что мы испытали с Юликой, Юлой-Юлией, требовало высочайше-напряженного продолжения. А мы очень воздушно расстались. Мне было обидно. И стали потихоньку восстанавливаться в сознании разговоры, какие мы вели с Юликой в минуты ее курений у окна и за завтраком с “Тетрой”. Прежде они казались мне невесомыми и пустяшными в нашей судьбе, особенно ночные, когда мы с Юликой были в одном теле (да, она выходила из меня, из нас единого, но я-то считал эти минуты разъединения отдыхом благо-удовольствий, паузой в том самом “О, если б навеки так было!”, обязательной для набора воздуха и живительных влаг). В тех разговорах возникли три сюжета. Ночью они покачивались вдали от меня, где-то над горизонтом или даже за ним, теперь же, под яблонями сада стариков на берегу канала, они обрушивались на меня тяжестью реальности. Тогда я находился в смятении чувств и мыслей, и сейчас это смятение возвращается ко мне, но все же постараюсь передать те сюжеты внятно.
Первый сюжет. Старшая сестра и младшая сестра. Я прекратил отношения с Викой, придумав несуществующую новую подругу. И старался о Вике ничего не знать. И вот что происходило по представлениям младшей сестрицы (из обрывков фраз Юлии между затяжками у окна). Я предал Викторию. Она любила меня, а я стал гулять с другой. Со скверной женщиной. Я ее Вике даже показывал. И ею щеголял. И Юля ходила, смотрела на нее (вот тебе раз!). Она любила и любит Вику! Викин нынешний муж… Он подонок… Он ее, Юлию… изнасиловал в четырнадцать лет… Ну, не изнасиловал, а соблазнил самым дешевым и пошлым образом… Дай слово (это – мне), что ты не убьешь его… Не убью, даю слово (да, я такое пробормотал)… Вика же, чтобы не допустить скандала и позора, будучи уверенной, что я ее предал, и догадавшись, что сделал ухажер Юлии, Пантелеев, аспирант Корабельникова, сказала, что Пантелеев приходит в их дом из-за нее, Вики, она с ним живет. Что было бы, если бы отец узнал об истине! И мама, маменька моя, уверила отца, что Пантелеев любит Вику, а тот не сбежал, согласился жениться, потому что без покровительства отца не сделал бы карьеру и уж никак не попал бы в заграницу. “Но какая логика в замужестве Вики? – спрашивал я. – Выгнали бы этого Пантелеева и все…” Это логика отчаяния, тебе не понять, отвечала Юля. И все же я полагал, что не обрекал Вику на поступок несчастливый. Неужели я был так подл? Подл не подл, но меня тогда направлял страх. Или хотя бы осторожность. Но страх, очень может быть, и есть подлость. Нет, я не хотел сделать Вике ничего дурного, ни ей, ни ее семье, я не допускал Вику в наш двор и в нашу квартиру. Я желал уберечь ее… Я загнал себя в состояние титулярного советника, я был им, и сейчас я – он и есть. Однако я-то полагал, что приношу в жертву себя… Но после ночи с Юлей думать об этом было глупо… (Я старался рассказать о первом сюжете внятно, но вряд ли так получилось.)
Второй сюжет. За завтраком я что-то нелестное сказал о Бодолине с Миханчишиным. Цыганкова осадила меня. Оба эти человека заслуживали уважения. Миханчишин в особенности. Его затравили, а он нуждался в любви. “Он же провокатор и лицемер!” – удивился я. “Вы несправедливы, – посмотрела на меня Цыганкова. – Вы сытые москвичи, а он бедный, очень ранимый, брошенный женщинами, и его надо жалеть… А в случае с Ахметьевым он просто рыцарь!”
Третий сюжет. Юлика была знакома с Анкудиной. “С Агафьей, что ли? – спросил я. – С Анькой Анкудиной, что ли? По прозвищу Агафья, по кличке Кликуша?” – “Да, – сказала Цыганкова, – Анна Петровна Анкудина, историк, прекрасно знает историю России, святой человек, страдалица… Тебе она известна?” – “Она с моего курса, – сказал я. – Никакой истории России она не знает, на нее просто не смотрят мужики, она им противна, она истеричка, плакса и лицемерка!” – “В тебе говорит зависть, – покачала головой Цыганкова. – Ты ничего не делаешь для России! Она и пишет, и разносит рукописи… и я… – Тут Цыганкова замолчала и только произнесла по инерции:
– Ее надо жалеть и всеми силами поддерживать…”
Прежде было сказано: “И мне надо опекать забиваемых…” Это кто же “забиваемые”? Миханчишин и Анкудина, выходит.
И вспомнилось. Сергей Александрович, перебиратель людишек. “Цыганкова до добра тебя не доведет…”
Может быть, если принять всерьез слова Юльки, я не угадал нечто существенное в Вике. Но я не врал ей. Нет, солгал, выдумав новую подругу. Но если бы Вика любила меня, она тут же бы поняла, что я ей вру. И поняла, ради чего я вру. В случае с Викой я себя одолел. Теперь я должен был одолеть себя и после ночи с Юлькой. Я придумывал себе всяческие работы, чтобы устать и свалиться. И накопался, и натрудился. Потом пошел на канал и плавал час. Лег и заснул, утомленный, ни о чем не думая.
Но утром, конечно, и в электричке все мысли были о Юльке. Выдержу, убеждал я себя, выдержу. Женщин хватает. Неделю назад Юлька назвала меня Единорогом. Но девственником я не был. Да, с Викой близости у нас не случилось. Опять же, я и теперь так полагал, из-за старания не принести худого Вике. Но ласку женского тела я, естественно, знал. И в нашем университетском спортивном лагере Красновидово, на берегу речки Москвы, там меня отчего-то опекали игруньи, то есть девицы из игровых команд. В отличие от личниц, бегуний, пловчих, велосипедисток, они считались злыми. Азартными, интриганками и чрезвычайно темпераментными. “Бойся игруний”, – говорили мы, но сдавались им и подчинялись их напору. Кстати, именно в Красновидове я и познакомился с Викторией Корабельниковой, студенткой экономического факультета. Она была личницей, ударяла ракеткой по мячу и бегала восемьсот метров. Вот она-то как раз и жила Единорогом, девственницей. И когда я дотрагивался до нее, она вздрагивала и готова была расплакаться. А в Москве ко мне проявляли интерес взрослые сладкие женщины, иные и за сорок. Что-то во мне привлекало их. Рассказывая как-то о своих приработках, я забыл упомянуть еще об одном – мосфильмовские массовки. Меня всегда определяли на бессловесные (иногда все же с репликой) роли крепких, добропорядочных парней – бригадиров, командиров взводов, революционных матросов. В картотеке было записано – “положит. типаж”. Лишь однажды меня обрядили в форму эсэсовского офицера. Ладный, сказали, излишне ладный, но сняли… Из-за этих, пусть и оставшихся в моем прошлом, взрослых женщин и игруний мне было стыдно перед чистой Викой и я не мог переступить черту. Опять же выходит, что я не любил Вику. Просто был увлечен ею… С Юлькой все происходило по-иному. Пусть и это была не любовь. А наваждение, затмение или еще что там… Если бы я писал это сочинение в свои юные годы, я стал бы сейчас сентиментален или даже слезлив… Уже давно, до вчерашней ночи, каждый день имел для меня оправдание, если я видел Цыганкову. Только ради соединения с ней мне и следовало жить. Из-за нее я ездил на Масловку. Я якобы запретил себе смотреть на нее, глупость какая, что я мог поделать с собой? Если бы я ослеп и оглох, я бы все равно чувствовал ее, я бы воспринимал запах ее волос и все токи, какие исходили из нее. До соединения с ней в Солодовниковом переулке я уже был частью ее…
В Дмитрове я вышел, даже выскочил из электрички, пришагал в Заречье, в Введенскую церковь. Там молился, упрашивая Спасителя освободить меня от нее. От кого? От чего? От Юлии? От любви?..
Возвышенный любовный опыт мой складывался из книжных видений и романтических фантазий. Юношей я был простак и, возможно, тот самый Единорог. Я учился в мужской школе, только в старших классах нас разбавили девицами. Но та, в которую я способен был влюбиться, не могла, естественно, жить в нашем дворе или учиться со мной в школе. Эти и говорили скверно, и бранились, и вредничали, волосы их секлись, плечи их форменок были обсыпаны перхотью, под мышками виднелись потные пятна! Эротические мои восхищения возникали при наблюдениях за фигуристками на телеэкранах. Влюблялся же я в киногероинь (не в актрис, а именно в их героинь) либо же в дам из романов, в Агнессу, скажем, из “Копперфильда” или в подругу шотландского воина Квентина Дорварда. В случаях студенческих увлечений я маялся, то и дело соотнося своих приятельниц с идеальными. Цыганкова была для меня единственная, и сравнивать ее с кем-либо не возникало нужды.
"Этак я опять раскисну!” – отругал я себя уже на Савеловском вокзале. От вокзала до дома добирался минут двадцать, обещая себе, что устою и выдержу. Раскладушка в сарае более не устраивала меня, надо было набить вещами чемодан и на неделю переехать к Алферову. “Хоть бы не оказалось ее в квартире!” – выказывал я пожелания судьбе.
Ее и не оказалось. Открыв дверь квартиры, я сразу же услышал от жены Чашкина, Галины:
– Василий, а твоя-то… сестрица-то… умчалась куда-то часа полтора назад… Ей позвонили, она долго стояла с трубкой у уха, потом затеребенила сама нервно, я не прислушивалась, видно, что она взволновалась, бросилась в комнату, через пять минут выскочила и улетела.
– Ничего не сказала? Мне ничего не велела передать?
– Сказала только, что ей нужно на Киевский вокзал. И все. Она и по телефону говорила о Киевском вокзале.
Дабы отменить недоумения и вопросы Чашкиных, я был вынужден произвести разъяснения вслух. Будто бы самому себе:
– Ага. Понятно, она предупреждала. Ее, как спортсменку, заманивал и Киевский университет. Наверное, сообщили, что у них хорошие условия, она и обрадовалась. Что ж, оно и к лучшему. И для нее. И для меня… А то бы пришлось возиться с ней…
С чего бы вдруг из Киевского университета решили позвонить мне на квартиру, я выстраивать предположения перед Галиной Чашкиной не стал.
На моем письменном столе лежала записка. “Василий! То, к чему я шла годы, случилось. Я и в газете появилась, узнав, что ты в ней работаешь. Теперь я свободна и должна успокоиться. Я отомстила тебе за Вику. Вика же отплатила тебе три с половиной года назад. Ты можешь посчитать, что плата произведена странным образом. Но мы такие. Или я – такая. Я – грешница. Или даже ведьма. Для своего же блага не подходи ко мне более. И не вздумай разыскивать меня. Ю. Цыганкова”.
Она свободна! “И я свободен! – подумал я чуть ли не в радости. – Как это поет итальянец, Клаудио Вилла, что ли: “Весел я! Милая покинула меня!”
На кухне Чашкина явно хотела мне что-то сказать, но долго не решалась и все же не выдержала:
– Василий, а сестрица-то твоя… часом… не в положении?
– Чего? – растерялся я. – Она мне ничего не говорила.
Галина Чашкина служила кассиршей в аптеке, то есть отчасти была медицинским работником и глаз имела цепкий.
– Мне-то что! – сказал я. – Это ее дела!
– Да нет, я так… – смутилась Чашкина. – Может, я и ошибаюсь…
В комнате моей по-прежнему ощущался запах Цыганковой. Я снова схватил записку. Буквы в ней были выведены довольно аккуратно. А на столе валялся листок бумаги с закорючками, пятнами, перечеркнутыми фразами. Надо полагать, черновик. На обороте листка я прочитал:
"Монастырь… Грешница и ведьма… Монастырь… Ритуал очищения… Очищения ли?.. Свободна ли?.. Ст. Суземка… Зачем все это?.. Зачем все это было надо?..”
Ритуал, значит. Неужели в ритуал очищения входили баня, мытье полов на кухне, в прихожей, в туалете? Очень может быть… Очищения от чего? От мести? От меня? От меня… И это были ее дела.
Станция Суземка. Что-то я слышал недавно об этой станции.
***
В редакции я отыскал Марьина и поинтересовался у него, есть ли сейчас в стране действующие православные монастыри.
– Есть, – сказал Марьин. – Единицы. Но есть.
– И женские есть? – спросил я нерешительно. Мне показалось, что Марьин посмотрел на меня уже с вниманием и интересом.
– Есть и женские, – сказал он. – Один в Эстонии. Еще один в Киеве. Флоровский, на Подоле. Я там был. Есть вроде бы и еще…
– Спасибо за справку, – сказал я.
– Ты чем-то расстроен? – спросил Марьин. – Или озабочен?
– Да нет! Нет! – поспешил уверить я Марьина. – Просто перетрудился вчера в саду-огороде.
Следовало проверить еще одно обстоятельство.
У ребят из сельского отдела я узнал, где проживает приболевшая родительница Миханчишина. В Брянской области, на юге ее, километрах в двадцати от железнодорожной станции. На моем рабочем столе лежали малые атласы мира и СССР. Я держал их не только для дела, порой, когда не приносили полосы, я с удовольствием, будучи московским пешеходом, рассматривал расположение городов, дорог и рек в какой-нибудь области или стране, куда мне никогда не довелось бы ни дошагать, ни долететь. Сейчас на бледно-зеленом пятне Брянской области, надо полагать, если принять во внимание масштаб карт, часах в двух с половиной езды от Киева, я углядел станцию Суземка.
Что ж, посчитал я, и такой поворот истории был возможен.
И все же этот возможный поворот вызвал у меня недоумения. Но, впрочем, события двух последних дней ткнули меня носом в лужу или провели мордой по асфальту, и понимать что-либо в логике женщин я был совершенно не способен.
Я закрыл атлас и притянул к себе, неизвестно зачем, солонку. Держал ее пальцами и смотрел на нее тупо. Какая-то странность в ней стала мне ощутима. Что-то внутри солонки проживало. Я вытянул нижнюю затычку, и на ладонь мне выпал крестик. Нечто и еще оставалось в туловище совы-Бонапарта, мне пришлось отделить голову птицы, и тогда из заточения высвободилась маленькая костяная фигурка. К тому времени я прочитал в “Декоративном искусстве” статью о нецке, миниатюрной японской скульптуре. Мое предполагаемое нецке было зверьком или божком с толстыми боками и щеками, очень мелкое. Я знал, что многие нецке служили талисманами, оберегами от злых сил. Крестик же был посеребренный, явно нательный. Для меня ли предназначались посылки в птице или это были сигналы для другого человека, скажем, с сообщением о каком-то событии или с побуждением к действию? Если для меня, то что они значили? Не возлагал ли на меня неизвестный несение креста, не предупреждал ли о необходимости от чего-то оберечься? И кто был этот неизвестный?
Я выскочил в коридор с намерением узнать, была ли сегодня утром в редакции Цыганкова. Но кому и главное – по какому поводу (по какому праву?) я мог бы задать этот вопрос. Я вернул себя в свою комнату.
Мне захотелось позвонить Валерии Борисовне Цыганковой, я ощутил потребность в разговоре с ней. Но я не отважился набрать номер телефона Корабельниковых.
"Надо ехать! В Киев! – вошло в голову. – И не ехать, а лететь! И сейчас же!” Куда – в Киев? В монастырь. Во Флоровский, на Подоле! Деньги я добуду… И что там делать?
Но, слава Богу, вошла Зинаида, сразу с двумя полосами для чтения, и отменила мою дрожь и блажь.
Ночью моросил дождь, во дворе была темень, но все же у дверного проема в наш подъезд я уловил движение темной фигуры. Я редко бью первым, этаким деликатным воспитан, но, памятуя двухнедельной давности нападение на меня на Третьей Мещанской, я двумя ударами уложил вовсе, может быть, безвинного человека на землю. Я стал ощупывать упавшего, нет ли при нем оружия, будучи при этом в напряжении: а вдруг он не один. Я был нынче в раздражении и мог выплеснуть его на случайных людей. Наша возня и ругань разбудили кого-то на первом этаже, осветилось окно, и я увидел на земле знакомую мне личность.
– Торик! Пшеницын! – воскликнул я.
– Куделин! Это ты, что ли? – выговорил Пшеницын.
С Толяном Пшеницыным, моим одноклассником, он долго называл себя Ториком, мы были приятелями, однажды я выручил его, вернее будет сказать, спас его в жестокой, с финками, драке. После восьмого класса он ушел из нашей школы, потом, говорили, он поступил в военное училище. Я давно не видел его, он заматерел, но не узнать его было нельзя.
– Ты поджидал… меня? – спросил я.
Молчание было мне ответом.
– Ну ладно, – сказал я и протянул ему руку, помогая подняться.
– Я не знал, что это ты. Значит, меня к тебе… – глагола Пшеницын не произнес. – Будем считать, что нам с тобой нынче пофартило.
После недолгого молчания Пшеницын сказал:
– Ты злой стал… А эта дура играет в чужие игры… Ладно, разошлись. Я тебя не видел…. И ты меня не узнал. Нет, и ты меня не видел.
И Торик Пшеницын исчез в темноте.
Естественно, ночью я почти не спал. Ничего удивительного не было в том, что при прощупывании Пшеницына я обнаружил при нем пистолет. С чего вдруг ко мне… приставили (это еще более или менее благополучное слово) человека с пистолетом? Куда мне следовало обратиться? За помощью или с просьбой о защите. В милицию? К улыбчивому Сергею Александровичу? Или к К. В., Кириллу Валентиновичу?
Можно было бы предпринять усилия и выйти на Торика Пшеницына. Но если бы он посчитал нужным, ему самому удобнее было бы объявиться мне. К тому же, возможно, сгоряча, а возможно, и подумав, он и так поделился со мной соображением о ней и ее участии в чужих играх. И может быть, его состояние или стояние во дворе (кстати, слова Пшеницына “значит, меня к тебе…”, не исключалось, имели продолжением вовсе не “приставили”, а, скажем, “привела судьба”) было вызвано личным, лирическим интересом, а не государственными либо уголовными (солонки!) надобностями. Я же ничего не знал об ухажерах Цыганковой. Но что было гадать об этом?
Утром мне позвонил Костя Алферов.
– Кое-что накопали. Бери ручку и записывай…
– Нет, – сказал я. – Надо повидаться.
– Нет времени.
– Ничего. Часок выберешь. Жду в столовой у Белорусского. А там поедешь на работу метрополитеном.
Алферов по случаю дождя явился на встречу в коричневой болонье и в болоньевом же берете. Я был в нейлоновой куртке, зонтиков из-за нелюбви к ним не заводил.
– Ты что, опасаешься телефонов? – спросил Алферов.
– Как только я взял трубку, приоткрылась дверь соседей, – соврал я.
– А-а-а, – понимающе кивнул Алферов. Он слышал от меня о Чашкиных. – Накопали мы пока чуть-чуть. И вряд ли чем тебя удивим. Копали мы главным образом по линии Кочуев. Как ты и предполагал, Кочуй – из левобережных казаков. Слободские малороссы. И эти Кочуй – в родстве со многими, а в частности и с известными Полуботками. С теми самыми Полуботками, что якобы в первой трети века восемнадцатого вложили золота на более чем миллион тогдашних фунтов стерлингов в один из английских банков…
– Ну, это миф, – поморщился я.
– Да, миф, – согласился Алферов. – Тем не менее в 1908 году почти триста пятьдесят наследников Полуботка собрались на съезде в Стародубе…
– Где? – спросил я.
– В Стародубе, нынче Брянской области…
– Опять эта Брянская область… – пробормотал я.
– Что ты имеешь в виду? – взглянул на меня Алферов.
– Нет, ничего, я просто так…
– На том съезде присутствовали и отстаивали свои права, в том числе и на стерлинги, несколько Кочуев и среди них два Кочуй-Броделевича. Ценности и реликвии в их роду, несомненно, сохранялись. Как ты опять же предполагал, представителей их рода арестовывали в восемнадцатом, тридцать седьмом и сороковом годах… Броделевичи – из польской шляхты… По материнской линии род Ахметьевых коленом Спешневых дважды пересекался с Кочуй-Броделевичами…
– Спешневых?
– Да, – обрадовался Алферов. – Один из этих Спешневых служил при Ордине-Нащокине!
– А с Башкатовыми Кочуй-Броделевичи не пересекались?
– Башкатовыми? – удивился Алферов. – Про Башкатовых ты нам ничего не говорил…
– Ах, да! – спохватился я. – Я и забыл…
– Ну и как? – спросил Алферов.
– Все это очень общие сведения… А все решит частность.
– А ты нам и не давал узких целевых указаний. Ждем их.
– Пожалуй, я и не могу вам их сейчас дать…
– Что-то я не вижу в твоих глазах огня и жара, – обеспокоился Костя.
– Устал, видимо, – сказал я. – Надо бы в отпуск сходить.
Фу-ты, вспомнил я по дороге в редакцию, хотел же спросить Костю, что он знает о сегодняшних делах нашей курсовой кликуши Агафьи, Анкудиной, покровительствовать которой намерена Цыганкова. Ну ладно, спрошу при случае…
А в редакции я вызвал обеспокоенность Зинаиды.
– Василий, ты чем-то удручен. У тебя явно трудности. Может, тебе нужна помощь? Или хотя бы совет…
– Зинаида Евстафиевна, спасибо, – сказал я. – Но если я не справлюсь со своими трудностями, то что же я за человек?
– Ну смотри, – только и произнесла Зинаида. О Зинаиде Евстафиевне, в особенности о ее военных годах, в редакции ходили легенды, туманные, но почти детективные. Предложение ею помощи было дающим надежды, но я должен был от него отказаться.
Я достал из недр солонки крестик и костяной оберег (оберег ли?), положил перед собой. Мне было тревожно и тоскливо.
***
Свое лирико-драматическое намерение сейчас же лететь в Киев, не будучи даже уверенным, там ли Цыганкова или нет, во Флоровском ли монастыре особа, потребовавшая не искать ее и не докучать ей, я смог бы, среди прочего, оправдать (для самого себя) естественным желанием человека, хотя бы и образованием своим подвигнутого к изучению истории и судьбы Отечества. Оформлю два дня отгула и махну-ка в матерь городов русских! Я ли не мечтал ступить на камни Софии и на землю Владимирской горки! (Увы, Матерь эта нынче ведет себя порой злокозненной и криводушной племянницей, а то и просто соседкой с якобы европейскими истоками и понятиями, хотя и желает – не без выгоды для себя и своей гордыни – оставаться матерью городов именно русских, в частности и тех, что, по ее разумению, вскормлены дикостью и бескультурьем Орды, но эко куда я в горячках нашего времени устремился!..)
Однако в середине дня безмозглой моей маяты всякие исторические оправдания были перечеркнуты неожиданным для меня предложением.
А предложили мне лететь в Тобольск.
То есть и не предложили даже, а поставили перед фактом служебной необходимости.
Тогда все газеты и журналы над кем-нибудь шефствовали. Наша молодежка поощряла к ударной деятельности строителей железной дороги Тюмень-Сургут. Что-то через два дня в Тобольске должны были завершить или открыть, и естественно, к праздничному моменту была милостиво приглашена бригада нашей газеты.
Возможность командировки была для меня не только неожиданной, но и удивительной. Или даже невероятной. “А как же Сергей Александрович?” – размышлял я.
А пошел бы он подальше, этот Сергей Александрович!
Но куда же подальше Тобольска-то?
О поездке в Тобольск мне объявил Марьин. Он зашел ко мне, сказал в частности:
– Всего-то на четыре дня. Так что не беспокойся. Пить, конечно, придется. Но что поделаешь…
– А я с какого бока в делегацию? – спросил я.
– Деньги не наши. Строителей. Они богатые. Везем музыкантов, поэтов, Эдик Успенский среди них, Виталий Коржиков, Кашежева… Наши едут необязательно пишущие… Сочли возможным поощрить поездкой твой труд… – Марьин произносил это, будто рассматривая нечто вне меня. – Впрочем, если у тебя нет желания или другие интересы, твое дело, уговаривать не буду… Но я бы тебе посоветовал съездить…
"Кто же такие – “сочли”? – намерен был я спросить даже и с вызовом и чуть было не пробормотал:
– Да, да, есть, есть, неотложные интересы!”, но в интонациях Марьина я ощутил готовность его, коли откажусь, к обиде и досаде. А обижать Марьина я не имел оснований.
Ко всему прочему я мог поставить Марьина в глупейшее положение. Марьин со студенческих лет подолгу пребывал в Саянах, на прокладке дороги Абакан-Тайшет, в ту пору для страны – песенно-удалой, и именно о строителях таежной трассы он выпустил сначала книжку очерков, а потом и роман. Нынче многие его знакомцы и герои, закончив дела в Саянах, перебрались в Западную Сибирь, к нефти и газу, и вели магистраль через Тобольск к Сургуту. В шефском предприятии нашей газеты Марьин был одним из главных действующих лиц, и я мог предположить, что ему-то – скорее всего, не без труда – и удалось включить меня в бригаду командируемых. Что же, теперь ему бы пришлось оправдываться перед кем-либо из начальников, имея в виду мои неотложные интересы и капризы? Вышло бы нехорошо…
– Нет, конечно, – заспешил я, – я поеду в Тобольск!
Я не выдержал, позвонил Косте Алферову.
– В Тобольск… В Тобольск… – пробормотал он вяло, рассеянно, возможно, глазел при этом во взволновавший его текст. – Что ж, съезди в Тобольск. Полюбуйся на сибирский Киев.
– При чем тут Киев? – удивился я.
– Пишут так, – сказал Алферов. – Схож расположением. Кремль на горе. Подол внизу на берегу Иртыша.
С чего бы он о Киеве?.. Но он и не знал ничего про мой Киев… Кстати, через два дня Тобольск обликом своим и сутью совершенно не вызвал у меня мыслей о Киеве.
Вдруг Костя оживился:
– О-о! Побывай на местах, где жил Крижанич, и поклонись его тени. Его шестнадцать лет держали там в ссылке.
– Какой такой Крижанич? – противно проскрипел я.
– Ну Юрий Крижанич. Жил-то он, видимо, внизу, а служил на горе, то есть на горе, может, просто молился…
– Какой Юрий Крижанич? Я не помню никакого Крижанича…
– Ты дурака, что ли, валяешь? А в кружке, помнишь, доклад Вали Городничего?
– Я не помню никакого кружка…
– Ты с кем разговариваешь по телефону? – вскричал Алферов. – Со мной? Или еще с кем?
"С тобой-то с тобой, – подумал я. – Но ведь и с Сергеем Александровичем. И я не хочу, чтобы Сергей Александрович позже беседовал с тобой и с Городничим. Впрочем, он же ведь не дурак…”
– Да, да, – сказал я. – Конечно, я вспомнил про Юрия Крижанича. Я найду его тень.
– Пошел ты знаешь куда!.. – сердито воскликнул Алферов. – Если звонишь мне, разговаривай со мной. И гуляй ты со своим Кочуй-Броделевичем в Тобольск! О! Кстати… Ведь Тобольск и для Броделевичей…
Тут я повесил трубку.
Я полагал, что Костя перезвонит, раз в его соображения вошел Кочуй-Броделевич. Но нет. Звонка не последовало. Возможно, Костя обиделся. Действительно, с кем я разговаривал? Слова произносил Косте, но при этом имел в виду и еще одного слушателя. И, имея в рассуждении этого слушателя, подло отрекся от неудачливого радетеля славянской идеи Крижанича, и не от Крижанича даже, а от своего университетского прошлого или от своего студенческого товарищества. И Костя Алферов, несомненно, учуял мое внимание к неизвестному ему слушателю, оттого и вошел в досаду. “Какой такой Крижанич?” – гнусно скрипел я. Но ведь я желал уберечь Костю Алферова. От кого? Из-за чего? В кого я превращаюсь? Или уже превратился? В тварь трусливо дрожащую! В червяка, на которого наступили ногой! Впрочем, червяком я себя уже аттестовывал…
Выписку из Крижанича, из его политических дум “Разговоры о владетельстве”, принес на толковище факультетского кружка Валя Городничий. “Какой же промысел остается бедным людям на прожитье? Одно воровство. Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды… Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам, а ему дают алтын в день или двенадцать рублей в год, а в праздники велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более двенадцати рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Легко понять: продавать правду. Неудивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить… Что может быть не праведнее, как брать от суда в казну всякие пересуды и десятины… Многие придавленные нуждой забывают пользу своего народа и за подарки входят с иноземцами во всякие неприличные сделки…” Шли там и другие слова. Карточка Вали Городничего была исписана и на обороте. Я уж не помню, по какому поводу Городничий решил напомнить тобольские рассуждения ссыльного хорвата. Бедолага Крижанич, одержимый идеей всеславянства, согласился прибыть в Москву (на службу?) не только ради царского жалования, по прельщавшим словам посланника Лихарева, “какого у него и на уме нет”. Корысть его была в служении славянству, Россию же избрал сам Бог. Но натерпелся Крижанич в зловонии и неряшествах российских, а отказавшись вторично креститься, позволил отправить себя (не за вину, а по подозрению) в Тобольск. Кстати, не без участия любезного Косте Алферову боярина Ордин-Нащокина…








