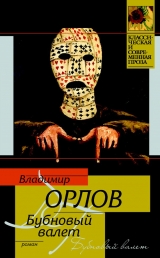
Текст книги "Бубновый валет"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
А я по выходе из университета получил в военном билете запись: “младший лейтенант запаса”. В должностном же состоянии я ощущал себя сержантом или ефрейтором. Пора моих бонапартьих воспарений отлетела лет пять назад, и в грядущем генералом я себя не видел. Да и не было у меня нужды ни в каком генеральстве… И вот недавно, месяц или полтора назад, я наорал на генерала, на Кирилла Валентиновича, наорал яро, и в том крике-выговоре самым нежным, ласковым почти, было слово “мудак”, другие слова я приводить здесь не буду. Возможно, и разговор сегодняшний К. В. продолжил, чтобы напомнить мне о забавном – для него – случае. Играли мы тогда на Пресне, на поле “Метростроя” с ФИСом, командой издательства “Физкультура и спорт”.
Я играл правым хавбеком, держал персонально знаменитого Арменака Алачачана, но порой позволял себе гулять от него вперед и влево, в центр. Там, уходя то и дело в правые инсайды, носился Виктор Понедельник, мы с ним сближались редко. И Понедельник, и Алачачан считались как бы авторами издательства, и мы, поворчав, согласились не называть их “липачами”. Алачачан, в баскетболистах – Малыш (метр семьдесят восемь), был ниже меня но когда я врезался в него, я понял, что налетел на чугунный столб. Играть с ним надо было на опережение. А К. В. держался сзади меня на позиции чуть выдвинутого вперед правого защитника. Острые случаи до него не доходили. Играли мы прилично, после первого тайма вели один-ноль и могли бы получить два очка в турнирном зачете “Золотых перьев”, если бы не казус за семнадцать минут до конца игры. Трое фисовцев шли на меня, я сделал подкат вперед, резкий, короткий, что позволило мне тут же вскочить с земли, мяч я не отбил, а выковырнул и накрыл его телом. Двое фисовцев проскочили мне за спину, а третьего финтом я уложил на траву. Впереди у нас могли возникнуть голевые ходы, мяч сейчас же надо было отправить либо Марьину, либо Гундареву. Но игроки торчали забором. Я чуть скосил глаза. К. В. стоял в прекрасной позиции. От него коридор для мяча шел прямо к Марьину. Марьин игрок был так себе: плохая дыхалка, техники никакой, глаза – в землю, но рывок имел отменный, а сейчас рывок вывел бы его прямо к воротам, забивай хоть пузом. Я отбросил мяч К. В., закричал: “Марьину! В разрез! Скорее! Марьину!” К. В. не поспешил исполнить мой совет, почти требование, на меня он не взглянул, а повернулся и послал мяч вратарю, Мартыненке. Силу удара не рассчитал, мяч покатился вяло, седьмой номер фисовцев, осаженный было моим подкатом, бросился за ним первым и мимо ошарашенного долговязого Мартына влепил мяч в нашу сетку. Тогда я и наорал на К. В. Кроме матерных были произнесены и истинно обидные слова: “Не умеешь играть – не лезь в команду!” Поначалу К. В. пытался отшутиться: “Да что вы, братцы! За корову, что ли, играем?”, но увидел глаза ребят, своих и чужих, нахмурился и опустил плечи.
Позже в раздевалке, после душа, все отошли, пили пиво, дурачились, об эпизоде с К. В. не вспоминали, мне было неловко. Игрок-то он был неплохой. Резкий, смелый, не ныл от травм и не кичился ими. И хотел играть. Вышел бы случай с моим ровесником, я бы подошел к нему, извинился: “Старик, мало ли что может произойти в горячке игры, не обижайся!” Но сунуться с извинениями к К. В. ни сегодня (а он уже и убыл по делам, за ним подлетела “Волга”), ни завтра я не мог. Да и как бы расценил К. В. мои извинения? И вряд ли мои крики остались в его памяти. Через неделю мы играли с “Советским спортом”. К. В. явился на предварительный сбор. И когда обсуждали состав, было заметно, он нервничал. Могли бы ведь напомнить и о его возрасте, еще кое о чем, хотя бы и косвенным образом. Но нет, мнение было общее, защитником на правый фланг ставить К. В. И он разулыбался…
– Куделин, ты верующий? – услышал я.
– Верующий?.. – растерялся я. – Я… Я – крещеный… По всей вероятности… Хотя не знаю… Отец-то у меня партиец…
– Я спрашиваю, ты – верующий?
– Я – комсомолец, – продолжал бубнить я. – А к православным традициям отношусь с уважением… Это история отечества…
– Фу-ты. – К. В. произнес это с раздражением теряющего терпение. – Я про одно, ты про другое… Вот вы с Марьиным суетитесь по поводу церквей, публикации готовите…
– Не церквей, а памятников архитектуры… Их столько наломали и еще ломать намерены…
– Ну ладно, успокойся, успокойся! Памятников так памятников. Сейчас к этому делу отношение благосклонное. И в твоей благонамеренности никто не сомневается. Ведь ты, Куделин, благонамеренный?
– В каком смысле благонамеренный? – взволновался я.
– В самом прямом и простом. Или ты только прикидываешься простаком со старомодными установлениями? А сам живешь со своей дудой и своими ожиданиями?
– Никем я не прикидываюсь! – сердито сказал я. – Как живу, так и живу.
– Скорее всего, оно и так. Ты весь просвечиваешь… Нет, Куделин, ты не игрок. Не игрок!
– Я… Кирилл Валентинович…
– Не командные игры имею в виду, – сказал К. В. и встал – А всякие мелочи, вроде квартир, можно приобрести и поиграв. Не в карты, естественно. Но не всякому…
Я тоже был намерен встать, но К. В. движением руки повелел мне сидеть. Сам же принялся прохаживаться по кабинету, не роняя слов, будто бы обдумывая опечалившее его открытие: Куделин-то – не игрок, а смирная благонамеренная личность. Да на кой сдался ему этот Куделин, растерянный, а может, и разобиженный (и на самого себя, конечно)?
В те минуты я вовсе не занимался созерцанием натуры Кирилла Валентиновича. Но рано или поздно, хотя бы из литературных приличий, следовало бы сказать кое-что о внешности нашего Первого зама. И я подумал: а почему бы не сделать это сейчас?
В ту пору молодежный начальник (а молодежных-то ход времени и фортуна по ковровым дорожкам сопровождали в начальники взрослые, а потом и в степенные) не мог быть не только инвалидом, уродливым лицом, болезненным, но и просто непривлекательным. Существовала система “смотрин” кандидатов в лидеры (кандидаток я сейчас касаться не буду, там были свои смотрины и проблемы) и перед выборами, и перед утверждениями, и перед показом кураторам, и пр., и пр. Лидеры должны были нравиться массам, вызывать их доверие и располагать их к себе, как располагали к себе герои (не плакатные, упаси Боже, не плакатные!), а оживленные Урбанским, Баталовым, Юматовым, Столяровым, Лановым. Да и мужицко-спортивная крепость была бы в них не лишней, она бы свидетельствовала об их силовой надежности. Ну и гагаринская улыбка не помешала бы. Или хотя бы улыбка Бернеса. Ценилось также умение носить костюмы современных деловых людей европейских достоинств, забыв при этом о габардиновой серости и фетровых шляпах нафталиновых секретарей. Должен добавить, что, как правило, не было удачи на “смотринах” малорослым. Достижения прежних мелких размерами вождей не принимались во внимание. “Нынче стиль иной…” Претендент ростом выше метра семидесяти пяти на “смотринах” имел преимущество перед соперником ниже ста семидесяти сантиметров, пусть и обладавшим лицом самым что ни есть открыто-доброжелательным.
К. В. подобным “смотринам” не подвергался (если и случались какие “смотрины”, то иного рода). Его движение было профессионально-творческим, оно и привело его в номенклатуру с ее правилами развития. Но теперь К. В. выглядел так, будто бы в свое время упомянутые мной “смотрины” он заслуженно прошел. Мужик был что надо. В соку. Крепыш, роста при этом отнюдь не малого, широкоплечий, но не тяжеловес, вполне стройный и даже элегантный. Единственно – он косолапил или даже был немного кривоног. На футбольном поле это виделось отчетливо. К. В., говорили, рос офицерским сыном, из гарнизона – в гарнизон, там всюду были лошади, и он с детства уважал себя кавалеристом. Он и теперь с помощью ребят из спортивного отдела приятельствовал с конниками и в свободные часы чуть что – взлетывал в седло, осанка его, рассказывали, вызывала уважение. Состояние духа и мышц он вообще старался поддерживать. Увлекался аквалангом и водными лыжами, дважды в отпуски отправлялся в тяньшанские походы с альпинистами, в прошлом году делал вылазку на медведя, причем не на обреченного бедолагу в завидовском хозяйстве, а с деревенскими охотниками в вологодском лесу. Замечу, что и стрелком офицерский сын считался хорошим. Помимо всего прочего, разговоры о стиле жизни К. В., хотя бы отпускной или досужей, создавали ему репутацию охотника и удальца, а по входившей в оборот терминологии – плейбоя и супермена. Нынче при воспоминаниях о тогдашнем Каширине на ум мне приходит Николай Расторгуев из группы “Любэ”, но, пожалуй, К. В. был повыше ростом, шею имел подлиннее и лицо потоньше…
По установлениям времен сотрудники влиятельного департамента на Маросейке, кому подчинялась наша газета, обязаны были приходить на службу в костюмах, разумеется, при галстуках и белых рубашках. Взрослые подручные партии этажами ниже нас тоже – и чаще всего с удовольствием – соблюдали правила социального приличия. Наши же мастера, юноши и девицы, считали себя независимыми творцами, уставную принадлежность к департаменту относили к дипломатическим атавизмам, себя же полагали фрондой, а ношение галстуков, синих и темно-серых пиджаков причисляли к дурному тону или даже к актам политических уступок. А то и к предательствам идеалов. Во всяком случае, каждый надевший галстук без объяснимой в тот день причины (свадьба, поход в театр, съемки для паспорта) мог быть признан делающим карьеру. Ковбойки, водолазки, свитера, куртки – вот в чем было принято являться в редакцию и во всякие уважаемые и неуважаемые помещения. К. В. мог позволить себе визиты без галстука (в костюме, конечно, не в джинсах же) и в строения на Старой площади, хотя там он не был любимцем, принцем-дофином. Там он скорее был на подозрении. Ведь ход к продвижению дал ему ЗЯТЬ, сам, пусть пока и не четвертованный. Но униженный нынче необходимостью не иметь имени, а иметь псевдонимы, задвинутый в затхлые и без лестниц в небо комнаты на улице Москвина. Кастратоголосый Михаил Андреевич ехидств в свой адрес и уж тем более посягательств на сан кардинала не прощал. И все же, несмотря на ненавистного Зятя, шептала молва, Михаил Андреевич зла на К. В. не держал и будто бы видел в нем нечто надежно-родственное (а вот деликатнейшего нашего Главного, О. Б., он не миловал и был намерен сгрызть. И сгрыз, и отправил кости в Берлин). А К. В. мог бы прибыть к нему на вызов и в водолазке. Впрочем, Михаил Андреевич сам не любил костюмы и галстуки, а комфортно, говорили, ощущал себя во френчах, толстовках и в грубом, но теплом (мерзляка!) нижнем белье. (Тут я опираюсь на молву и редакционные легенды.)
И вот теперь К. В. расхаживал передо мной в водолазке под светло-бежевым пиджаком, явно купленным где-нибудь в Брюсселе.
– Что-то мы с тобой, Куделин, заболтались, – сказал К. В.
– Извините, Кирилл Валентинович! – вскочил я. – Я сижу у вас, как… Я ухожу…
– Во-первых, я тебя не отпустил, – сказал К. В. – А во-вторых, мы сейчас попросим Тамару принести нам по чашке кофе с какими-нибудь баранками…
Мне пришлось подчиниться. Приглашенная кнопкой буфетчица Тамара, сытная, смуглая, но краснощекая дама лет сорока пяти, тотчас принесла кофе с баранками и отчего-то подмигнула мне, будто бы понимающе. При Главной редакции существовал буфет, кормивший начальство обедами, с изысками в меню (“куропатка жареная со спаржей”) и ресторанными достоинствами блюд. Кому положено, там можно было и прикупать продукты домой. По сходным ценам. Некоторые члены редколлегии, из свежих, по привычке демократического или даже еще студенческого столования, ходили с подчиненными в комбинат питания типографии напротив, но никто в этих хождениях особенных подвигов не видел.
– Лелька, дочь уборщицы Зои, – сказал К. В., будто дворовой новостью поделился, – нанялась к нам секретаршей…
– Да, – согласился я.
– Говорят, Мальцев стал ее ухажером?
– Я не близок с Мальцевым, – сказал я. – И о его симпатиях ничего не знаю…
– Общее же суждение, что ты во всех отделах свой, повсюду бываешь, все про всех знаешь и все с тобой приветливы…
– Просто я полагаю, что все вопросы по смысловой точности надо решать в отделах и заранее, а не вызовами на седьмой этаж. В горячие мгновения. Поэтому я спускаюсь на шестой этаж, и все проходит без нервных напряжений и обид… Ущерба у моей памяти пока нет, я знаю, в каких документах и источниках есть необходимое, ко мне обращаются за советами, еще работая над статьями… Я стараюсь относиться профессионально к делу и захожу в отделы вовсе не для того, чтобы вызвать общую приветливость… Ее, кстати, и нет…
– Да… А твоя начальница сидит будто на вышке над всеми над нами, – произнес К. В., – и басом по телефону производит указания.
– Я с уважением отношусь к Зинаиде Евстафиевне, – сказал я. – Просто у нее своя манера работать, а у меня своя…
– Эко ты мне благообразно и следуя служебному соответствию отвечаешь, – покачал головой К. В. – Скажи, а вот самиздатовские рукописи ты читаешь?
– Нет, – отрезал я. – И в руки не беру.
– Даже Набокова? Он-то ведь безобидный… Но мастер… Или “Доктора Живаго”?
– И Набокова тоже. И “Живаго”…
– Из боязни?
– И из боязни. Но не только… Из принципа…
– И что же это за принцип такой? Если не секрет…
– А принцип такой. Я не имею права позволять себе читать то, что недоступно народу. То есть всем…
– Ты, Куделин, не только благонамеренный. Ты еще и зашнурованный! – теперь К. В. и рассмеялся. – Но в наше-то время и при наших-то знаниях чрезвычайно трудно прожить без разумного цинизма. Тебе как благонамеренному я порекомендовал бы цинизм исторически-жизнеутверждающий. Без него ты, пожалуй, и квартиру из государства не сумеешь выбить. Кстати, учти, что и первые наши перья – Ахметьев, Марьин, Башкатов – получат квартиры не через год и не через два…
С чего бы вдруг К. В. смешал сейчас Ахметьева с Марьиным и Башкатовым в одном компоте, понять я не мог. Ахметьев пребывал в ином государственном наборе, и ключ ему могли вручить от чертогов на Кутузовском проспекте. В случаях с Марьиным и Башкатовым, было известно, К. В. проявил слабость. Чиновные удачи его как бы и не радовали, а вот литературные – волновали. Тщеславным оказался К. В., тщеславным! Как человек пишущий он ставил себя очень высоко. В газету очеркистом его взяли со второго курса, это все равно что баритона со второго курса консерватории позвать в Большой петь князя Игоря и Эскамильо. Или девочке из предпоследнего класса училища предоставить в Большом же дебют в роли блистательной Китри. И позже – светлейший Зять был доволен К. В., всячески его поощрял. К. В. выпускал книгу за книгой, после лауреатского прорыва Пескова и его представляли на Ленинскую, он ее не получил, но запомнился как соискатель. И тут совсем недавно два молокососа, два его собственных клерка, Башкатов и Марьин, издали: один – повесть, другой – роман, по ним поставили фильмы, и их сейчас же приняли в Союз писателей, дело по тем временам серьезное. То есть перевели в разряд иных перьев. Или даже иных людей. Этот их прием в писатели, причем с приглашением и без всяких унизительных осложнений, которых опасался сам К. В., в особенности задел, раздосадовал и даже рассердил его. Экая мелочь – и туда же. А кто они (Марьин тот же – начитанный стилист, и только) и кто он? Сам же он, К. В., правда, в ту пору почти не писал, а если что и публиковал, то – путевые заметки из многих стран, раздираемых глубокими противоречиями, он их надиктовывал стенографисткам.
"Ну и что! – заявлял К. В. – Вот и Симонов прозу диктует!” – “Оттого у него и проза, – горячился Марьин, – дрянь, что он ее диктует!” Оценкой почитаемого К. В. писателя Марьин еще более раздражал оппонента. А необходимость выехать из коммуналки семьи Марьина (шесть человек) была совершенно очевидная. К Башкатову К. В. относился как будто бы спокойнее, тот был юла, мог подыгрывать К. В. и даже согласиться исполнить его задания-капризы, дабы показать, что он-то управляемый и знает свой шесток. И тем не менее сейчас К. В. опять соединил его с Марьиным и на годы отдалил от квартиры.
На что же было надеяться мне, и не перу вовсе, а техническому закорючке?
– Да, Куделин… – протянул К. В. – Да… Ну что? Даже если ты и не прикидываешься сейчас Акакием Акакиевичем, то при своей благонамеренности и благопристойности кому-нибудь и на что-нибудь, может быть, ты и понадобишься… Да… Вот еще… Говорят, эта наша новая красотка Цыганкова, стажерка в школьном отделе, оказалась сорвиголовой, или, как ее назвали уборщицы, оторви да брось?
– Я ее видел издалека… – смутился я.
– Издалека! Хм… Издалека! – К. В. даже поскучнел. – Ты, может быть, не только благонамеренный, но и соблюдаешь обет целомудрия?
Переносить этот разговор я более уже не мог. Я встал.
– Ладно. Чтоб ты вконец не расстроился, я тебе сейчас презентую одну вещицу… Обожди…
Он ушел в ту самую комнату отдыха и тотчас вернулся с фарфоровой вещицей в руке.
– Не расстраивайся и не обижайся… Вот держи… В знак благоожиданий и надежд… Да! – К. В. будто спохватился. – Ты этой своей начальнице и благодетельнице о мелочах нашего разговора не докладывай. Эти педантессы с причудами. Она еще возьмет и передаст своим друзьям, древним большевикам и политкаторжанам, какую-нибудь ерунду с искажениями.
А через час я и встретился в холле шестого этажа с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым, известившим меня о четырех убиенных. С чего и начался мой рассказ.
На следующий день на работу мне надо было прибыть к двум часам.
По голове и по почкам бить меня ногами я не дал, укрылся, ребра болели, но, исходя из опыта проживания, можно было понять, что они не сломаны. Миозит же мог осложнить мне жизнь недели на две. “Завтра и послезавтра, – предположил я, – болеть будет особенно. Потом полегчает”. Рожу мою разукрасили в цвет, темные очки я не любил носить, у меня их не было. Гримом искажения в облике я никогда не замазывал. И теперь решил выйти из дома, каким натура моя вынуждена была иметь сейчас выражение.
В редакционном лифте я ехал один, да и в свою комнату я прошмыгнул мимо Зинаиды Евстафиевны безгласно. Все углы, закоулки и щели комнаты я обшарил, ящики столов повытаскивал и исследовал их, опускал руку и в отдохнувшую от бумаг корзину. Без толку. Конечно, вчера я убирал солонку в пластиковый пакет, клал в сумку, а трое разбойников из засады свое совершили: солонку в сумке обнаружили и изъяли ее.
– Василий, – в комнату вошла и забасила, не затушив сигареты, Зинаида Евстафиевна. – Я знаю, что ты не драчун. За что же тебя так извалтузили?
– Из-за барышни… – вяло сказал я.
– Ну прямо! Тебя – и из-за барышни! Я бы только обрадовалась, если бы из-за барышни… Особенно этой… глазастой… из школьного отдела.
"Про Цыганкову, что ли? Да что они все? – обиделся я. – Что они вбили в головы?”
– Вот тебе черные очки, – сказала Зинаида Евстафиевна. – Однажды кто-то у меня их оставил. Сам по отделам сегодня не ходи. Глаз-то видит? И как тебя не забрали в трамвае? И небось глаз слезится? Ага… А тебе надо читать… Аки коршуну, должному углядывать нынче движения в сжатой ниве… Сейчас я тебе принесу крепкий чай, холодный, для промывания…
Зинаида Евстафиевна была всегдашняя, в бурой полотняной блузе со стоячим воротником и множеством пуговиц, в черной суконной юбке до лодыжек, в ортопедической обуви – на взгляд непросвещенного, на самом же деле Зинаида Евстафиевна ногами не страдала, а полутуфли-полусапожки со шнуровкой невысоких голенищ, напоминавших ей обувь юных романтических лет, заказывала у ортопедов, в магазинах ее взорам было скучно. Носила она очки, по стеклам – пенсне, в ту пору чрезвычайно старомодные. Очень пышными и совершенно не седыми были русые волосы Зинаиды Евстафиевны, на голове ее они виделись шапкой, на затылке она собирала их в пучок, отчего шапка еще более увеличивалась. В молодости, распущенные, они, наверное, стекали ей до бедер. За глаза мою начальницу, заведующую Бюро Проверки, называли Вассой Железновой, при этом, скорее всего, приходила на ум не натура горьковской героини, а голос Веры Пашенной, игравшей ее. Такую даму следовало уважать и даже побаиваться. А К. В., наверное, знал о ней и ее друзьях нечто такое, что заставляло его в отношениях с ней и осторожничать.
– Вот, Василий, – снова вошла ко мне Зинаида Евстафиевна, – тебе стакан. И чайная ложечка. А пипетки нет. Если захочешь, зайди за ней в корректуру… И на тебе запасную полосу… Там три цитаты из Маяковского, по отделу Агутина, сразу почуяла, что с путаницей… И погляди статьи иностранцев… Они, сам знаешь, читают лишь Бредбери и сочинения Флеминга, про Бонда… Некоторые, правда, заглядывают отчего-то в этого спекулянта и моралиста Франса…
Она вышла. И тут самое время объяснить, как я попал в известную газету, именно в Бюро Проверки, и что такое это самое Бюро Проверки.
В баскетболе есть скучное техническое выражение: обороняющаяся сторона поставила два заслона. Первый заслон – защитники, “малыши” (к ним относился упомянутый мной Арменак Алачачан, метр семьдесят восемь), они суетятся, прыгают, машут руками, не давая соперникам прорваться в трехсекундную зону или совершить дальний бросок, в три очка. Второй заслон – большие, центровые, двухметровые, те на посту у последней игровой линии. Оба заслона – для того, чтобы не допустить, пусть и ценой фалов, то бишь нарушений, попаданий мяча, посланного противником, в свою корзину.
Во времена, о которых я вспоминаю, для того чтобы не случилось, упаси Боже, проникновения в тексты газет и всяческих изданий каких-либо безобразий и несовершенств, хотя бы и самых пустяковых, способных ослабить мощь Отечества, расшатать государственные устои, смутить народные успехи и порадовать умелых на козни клеветников, ставили не два и не три заслона. С десяток, а то и больше. Самые существенные и профессиональные укрепрайоны были возведены в нужную пору на Старой и Новой площадях. Там выращивались и утверждались люди, какие в самих газетах и изданиях не могли допустить ни малейшего смущения народосозидающего сознания. Далее существовал бастион с Недреманным Оком в Китайском проезде. Главлит. Какие еще очи не дремали в рассуждении ежедневного благослужения печатных форм, нам неизвестно. Но они и должны были не дремать никем не замеченными и не различимыми. А в нашем здании на разных этажах сидели охранители свои, привычные, тихие, не раздражающие, а потому и – не обидные. Два цензора, наблюдавшие за спокойствием военных секретов. Корректура, та охраняла нормы и причуды русского языка, но имела в виду и то, что в случаях, ее не касающихся, но чрезвычайных, она обязана обратить внимание на политические странности текстов, возможно, также наносящие вред русскому языку. А у нас на шестом этаже обитало странно выдрессированное существо – “свежая голова”. Точнее сказать, существо это было многоголовое. Оболочку его меняли каждый день. По графику. К шести часам вечера, иногда раньше, в редакцию должен был прибыть освобожденный от дел сотрудник, в меру уже проявивший свою ответственность, выспавшийся, трезвый, не переевший в обед, с ясными глазами, прибыть и начать искать в приходящих из типографии полосах ошибки. Понятно, что не корректорские, не географические, не искажения в названиях балетов и футбольных команд (ну подумаешь, опять наборщики испортили слово “Лебединое”, они любят шутить с озером Петра Ильича, поправят корректоры, “свежей” же голове – зреть в Корень!).
Так вот, одним из последних упомянутых мною заслонов оказывалось и наше Бюро Проверки… Написав это, я спохватился, узрев не правомерность или неточность обращения к привычкам баскетбольной игры. Там заслоны выставлялись против чужих, их вызывали агрессивные усердия соперников, желающих вынудить наших сдаться. В издательских же делах опасались мячей, какие могли быть заброшены в оберегаемые народные корзины своими же… Либо по причине разгильдяйства, либо по причине непростительной легкости ума, по дурости объявляемой свободы и самостоятельности мышления, а когда и по причине лукавых влияний злых сил. Ну да ладно… Соображения мои и так достаточно прямолинейны… Продолжу…
Принимая во внимание развитие технических средств, я бы уподобил теперь Бюро Проверки компьютеру с энциклопедическими банками знаний, и исторических, и естественнонаучных, и культурологических, и злободневно-событийных. Да, в этот банк непременно должны были бы впитываться и сведения о всех явлениях планетарной жизни моментальной свежести. Газетные же полосы необходимо было пускать, пусть и грязноватыми оттисками, в плавание по струям этих знаний (экие являются выспренние слова!), чтобы газета по точности, а стало быть, и по степени уважительности к читателям и своему профессиональному делу, была не хуже академических словарей. Только при этом и можно было бы верить газете. Зинаида Евстафиевна Антонова, Нина Иосифовна Белугина и Василий Николаевич Куделин и заменяли в конце шестидесятых годов в редакции нафантазированные мною банки данных.
По моим понятиям, и тогдашним, и нынешним, при газете, как и вообще при издательских делах, следовало держать два заслона. То есть две службы. Корректуру. Дабы не допустить языковых нелепиц. И Бюро Проверки. Ради культуры, журналистской и читательской. Но сейчас-то, если судить по печатной продукции, эти службы повсеместно упразднены.
А в Бюро Проверки на Масловке я попал таким манером. По причине инвалидности моих родителей мне, как единственному кормильцу (родители, конечно, подзарабатывали), назначили свободное распределение. Я кончал истфак МГУ. Студентом я переползал с курса на курс серым. Способности мои и моя натура вряд ли бы обеспечили мне удачи в науке. Да была ли история в ту пору наукой? Там и тут, правда, тлели ее очаги, но к дымящимся углям меня бы и не допустили. Предполагалось мне стать учителем истории. Но педагог я был никакой. Пребывал я, как поется в обращении красного кавалериста к девушке Лизавете – “в тоске и тревоге”, но тут в один из дней между защитой (диплом был о годах Василия Третьего) и госами меня пригласили на собеседование с Главным почитаемой мною газеты. Я на нее подписывался, знал имена ее корифеев и даже верил ей. Верил настолько, что поучаствовал в трех ее читательских дискуссиях. Первая была о физиках и лириках, вторая – о смысле жизни, третья – о любви. От нечего делать и по глупости я записал на бумаге свои полемические соображения и послал их в газету. А их взяли и напечатали. Как помнится, на расстоянии школьной тетради от рассуждений самого Ильи Эренбурга. И цидули мои о смысле жизни и любви позже тоже опубликовали. В разговоре с Главным редактором, красивым и, как мне показалось, стеснительным человеком, выяснилось, что мои писанины запомнились, что в газете создается отдел студенческой молодежи и мне в нем предлагается должность стажера. А коли за год я проявлю себя, то стану и корреспондентом. Сбрасывая с себя уже примеренные вериги учительства, я согласился на стажерство без колебаний. Но за год удачных публикаций не случилось, на меня косились, сам же я пенял себе: “Здоровый мужик, а держусь за пятьдесят рублей!” и подыскивал новое место поприща. Тогда-то меня – после уговоров – и перевели в Бюро Проверки. Каждому из начинающих полагалось на две недели быть откомандированным дежурить в Бюро Проверки. У Зинаиды Евстафиевны Антоновой была сотрудница Нинуля, барышня неизвестных лет, в монашеских одеяниях. Считалась она словно бы калекой, сухоручкой, скрючена у нее была правая рука, не будь она калекой, полагала она, сидела бы она теперь, по своим мечтам, в костюмерном цехе Большого театра. Проявляла она себя нервно, порой истерично, работницей же была старательной, но бестолковой. Властную и грубоватую Зинаиду Евстафиевну с ней связывало что-то особенное, какая-то история, разузнавать о ней и ее подробностях мне доверительно не рекомендовали. В последние годы Нинуля часто брала больничные, Зинаида маялась одна, но уволить Нинулю не давала, выбила, наконец, третью ставку. Но брать на нее работника ей позволяли лишь из штата Редакции. “А дайте мне Куделина! – потребовала она. – Он был у меня две недели на практике. Я знаю ему цену!”
Оклад мне определили сто двадцать рублей. Вполне прилично. Мне были положены отгулы, когда и два дня в неделю. Двум моим одаренным однокурсникам я мог помогать в их затеях и долговременных программах у них в государственных архивах, за что тоже платили, пусть и копейки. А в случаях нужды я мог по студенческим связям и памяти проводить ночи грузчиком на Павелецком вокзале. В месяц я приносил старикам сто шестьдесят рублей и полагал, что имею право не считать себя повесой и блудным сыном. И в редакции я не ощущал себя более бесполезным человеком, мне объявляли благодарности в приказах, я узнал людей газеты, они узнали, чего я стою и чего от меня ждать, и во всяком случае не злились на меня. Так мне казалось…
Но теперь я сидел в своей служебной коморкеи горевал. Досады и тревоги мои вызвало вовсе не вчерашнее ночное происшествие на Третьей Мещанской, не мятая рожа и бока, а разговор с многоуважаемым К. В. (я на самом деле относился к нему с уважением, в частности – и с уважением). Многие слова К. В. требовали толкований и ответов, пусть и не произносимых, а собственная моя личность нуждалась в анализе, оценке, а возможно, и самобичевании. Кем меня видят, за кого принимают? Кто я есть, коли удостоился ТАКОГО разговора? <Здесь и в ряде других мест сохранена орфография, являющаяся неотъемлемой частью авторского стиля. – Примеч. ред.>.
В дверь постучали. Я нервно надел темные очки и схватил нечитаную запасную полосу.
– Привет, старик! – вошел Владик Башкатов. – Ба! Да ты разукрашенный! Это когда же?
– Тогда же… – буркнул я.
– Ну-ка сними очки! – впрочем, Башкатов сам снял с меня очки. – Так, в рожу всего три удара. Крепких, но три. Значит, били по корпусу…
– И по корпусу, – подтвердил я.
– А где подарок К. В.? Покажь!
– Увы, его нет. Он уже не у меня…
– И отобрали те, что напали? А напали, когда ты вышел из нашей машины и направился домой? Сколько их было?
– Трое. Только вы отъехали, я прошел метров восемьдесят, и тут они выступили из темноты…
– Это потрясающе! – Башкатов был в восторге. – С какой скоростью все делалось! Это надо же было знать, что К. В. нечто тебе вручил, что сигнал подписали в два, что ты поедешь не к бабам, а домой, что к дому ты откажешься подъехать, а выйдешь, как обычно, на углу Трифоновской! А? Каково? Ты думал об этом?
– Я много о чем думал, – сказал я.








