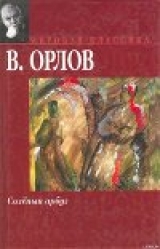
Текст книги "Солёный арбуз"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
4
Просеку рубили в трех километрах от палатки.
Колышки, вбитые в саянскую землю, показывали дорогу поблескивающим на солнце топорам и старенькой поющей бензопиле «Дружба».
Колышки вбили в землю изыскатели и геодезисты. Они долго ходили по тайге, таскали листы черно-белых чертежей и радужно-лоскутные карты, смотрели на деревья, на валуны придирчивыми глазами теодолитов. Колышки были свежие, аккуратно обструганные, маленькие, как грибы.
Через час работы Виталий Леонтьев выкурил последнюю сигарету. Пошарил в карманах, подвигал «молниями» и ничего не нашел. Все, кроме Букваря и Спиркина, тоже пошарили в карманах и тоже ничего не нашли.
Стало страшно. Забыли.
Бросили жребий. Худенькую занозистую щепку с медовой каплей смолы вытащил некурящий Букварь.
– За час успеешь, – сказал Николай. – Час потерпим. В палатке сигарет не было. Они лежали в охотничьем домике на коричневом покосившемся подоконнике. Букварь взял три пачки «Примы». Других на трассе не продавали. Потом подумал и взял четвертую. На всякий случай.
Побродил у палатки и около домика и крикнул:
– Ольга!
«Га! Га!» – пробасила соседняя сопка и замолчала. Стало тихо. Только Канзыба бежала и бежала.
– Букварь! Я зде-е-есь!..
«Узнала...» Голос ее звучал снизу, тихо и глухо, словно из-под земли. Букварь прошел за охотничий домик, обогнул скалу и вдруг побежал вниз, к Канзыбе. Словно сорвался. Бежал, махая руками, будто хотел удержаться, ухватиться за воздух, цеплялся за ветки берез, за лапы кустарника, хрустел, ломая и давя их, сшибая камни, и они катились вниз, с шумом подскакивали и булькали в летящую воду.
– Букварь! Куда ты?..
– Я сейчас! – закричал Букварь и затормозил, но не смог устоять и повалился на спину у ног Ольги.
Он смотрел в небо. Над ним в синеве смеялись Ольгины глаза. Лоб морщился от смеха.
– Ты это чего? – спросил Букварь. Он встал и пытался наладить дыхание.
– Что «чего»? – не поняла Ольга.
– В шинели... Жарко ведь.
– Да так. Купалась. Греюсь.
– Ну да, правильно, – сказал Букварь.
Ольга стояла у самой воды, накинув на плечи старую шинель, полы которой доходили почти до самой гальки. Волосы у нее были мокрые и блестели на солнце, и капли, поблескивая, бежали по влажному смуглому лбу, мимо смеющихся темных глаз и падали с бровей и кончика носа.
– Холодно? – с уважением спросил Букварь. Вода в Канзыбе была ледяная, и никто из ребят еще не решился войти в нее.
– Ничего, – сказала Ольга.
– А тебе шинель... ты в шинели такая...
– Какая? – заинтересовалась Ольга.
Букварь хотел сказать что-нибудь значительное, что могло бы передать ей всю радость, которую принесли ему тайга, звуки и разговоры ее, солнце, эта длинная шинель и мокрые, блестящие на солнце волосы. Но он смутился и сказал тихо:
– Ну такая... Потом вспомнил:
– Я пойду. Я за сигаретами пришел. Ребята ждут. Он начал взбираться вверх, и уже на сопке его догнали слова:
– Букварь, подожди... Он обернулся.
– Скажи ребятам... На первое будут щи... А потом картошка... Понял? Картошка...
– Ладно! – сказал Букварь.
– Щи из свежей капусты... со свиной тушенкой... Он был уже наверху, недалеко от камней, бурых, словно покрытых шкурой медведя, и снова посмотрел вниз.
Ольга стояла у воды в шинели, маленькая, как Буратино.
– А на третье компот... Ты скажи!..
Букварь подумал: как это все-таки здорово – Ольга в большой и длинной шинели! Вот если бы она надела еще ушастую удалую буденовку. Но где достанешь сейчас буденовку?
Букварь шел по тайге и не слушал тайгу.
Он думал о шинели. Шинель была обыкновенная, пожившая, потертая, с износившейся серой подкладкой, с заплатами на левом локте, с медно-желтыми самодельными проволочными крючками, заменившими старые, сломавшиеся.
Букварь все знал про эту шинель. Про нее рассказывали ему Николай и Ольга.
Ольга впервые увидела эту шинель полтора года назад на станции Кошурниково, названной так в честь легендарного изыскателя. Никакой станции тогда еще не было. Была вешка, воткнутая в землю, с фанерной планкой. На планке написали химическим карандашом: «Здесь будет станция Кошурниково». Видимо, было холодно, когда писали, – карандаш дрожал, и буквы получились неровные.
За вешкой в тайге, в семи километрах от золотого Артемовска, стиснутого сопками, стояло несколько длинных приземистых сборных домов, и в одном из них устроили котлопункт. Ольга и работала в котлопункте.
Две узенькие доски, перекинутые через приток Кизира Джебь, сварливую саянскую реку, связывали Кошурниково с Артемовском. Эти доски вели из Кошурникова на Большую землю.
Их плохо закрепили, нарочно, потому что ребята, переходя через них, любили покачиваться, и доски пружинили под их тяжелыми сапогами. Без этого покачивания на плохо закрепленных досках над шумящей желтой Джебью ребята не могли обойтись. Как не могли обойтись без отварных макарон в меню котлопункта.
Их ели утром, днем, вечером и ночью. По желанию. Ели с кильками, морским окунем в томате, баклажанной икрой, мясом и безо всего.
Однажды котлопункт остался без макарон. Это было то ли в сентябре, то ли в октябре. Мешок макарон – сорок килограммов – должен был притащить со склада из Артемовска один из парней, только сегодня прибывших на стройку и направленных в Кошурниково. Ольга ждала его до девяти, а в девять, сдвинув лавки в угол и вымыв пол, отправилась домой, так и не представляя, чем будет кормить ораву утром. Дверь на всякий случай не заперла.
Утром она увидела на столе котлопункта шинель. Ту самую. С заплатой на левом локте, потертую и мокрую. Из-под шинели торчали сапоги. Ольга постучала по сапогам. Шинель вздрогнула, открыла заспанное небритое лицо с большими черными глазами.
– Бондаренко? – спросила Ольга.
– Ага, – захлопали ресницы, – Николай. Из-под шинели высунулась рука. Ольга пожала ее.
– А макароны?
Черные глаза двинулись вправо. Ольга посмотрела на лавки и увидела там мешок с небольшим темным пятном. Сапоги соскочили на пол. Большие руки стали стаскивать шинель. Шинель не поддавалась и горбилась.
– Давайте я вам ее подсушу, – предложила Ольга. Николай благодарно кивнул, и потом Ольга узнала, как все было.
...На складе проковырялись до восьми, в восемь ушел последний автобус, и ему, Николаю, пришлось тащиться километров десять по деревянным тротуарам незнакомого города, тянувшегося между сопок. Рядом с ним шагала темнота. Она была таежная, черная и густая, как вар.
Все-таки он дошел до Джеби и стал ее переходить. Но доска тут же перевернулась, и он шлепнулся на лед. Понял, что в такой темноте, да еще с мешком за плечами, по доскам Джеби он не перейдет. Или принесет вместо макарон тесто.
Николай попробовал идти по льду. Лед был тонкий, с водичкой сверху. Он сделал три шага и провалился.
Лет десять назад, в школе, он изучал физику и теперь вспомнил ее законы. Насчет давления и поверхности. Он накрепко привязал мешок к спине, лег на лед и пополз. Полз метров двадцать или тридцать, пока водичка не кончилась. Потом он пришел в котлопункт, скинул мешок и заснул на столе.
– Мешок все-таки чуть-чуть промок, – сказал Николай, – вот тут, сбоку... Это когда я шлепнулся...
Ольга вытаскивала макароны и упрятывала их в шкаф.
– Можно? – спросил Николай
Он с жадностью грыз макароны. Ольга всплеснула руками и притащила ему хлеб, масло и консервы.
Потом они не видели друг друга полгода, и только в мае, уже в Курагине, Николай подошел к ней на танцах.
Они вместе возвращались домой. Лил дождь, и Николай укрыл ее шинелью.
У Букваря всегда было светло на душе, когда он думал об этой шинели. Он любил думать о ней, об Ольге и Николае. Он любил Николая, Ольгу и эту шинель.
Его всегда удивляло, как могли дать такому человеку, как Николай, унизительное и глупое прозвище Тату-Мату.
А его звали так года полтора назад, сразу же после того, как он приехал из Красноярска в Саяны. Он сам дал повод. То и дело он повторял: «Тату-Мату». Потом заставил себя забыть выражение, облегчавшее ему разговор.
Последний раз «Тату-Мату» прозвучало в клубе маленькой деревушки, пригревшейся под соснами у самого Кизира, за Красным Кордоном и горой Бурлук. Жили там строители, и вот из этой деревушки Николай и выгнал темную личность по кличке Шериф, отнял у него нож и бросил в спину свое последнее «Тату-Мату».
Это было давно, и о случае с Шерифом ходили уже легенды. Потом Николая перевели в Кошурниково, оттуда – в Курагино. Там он стал бригадиром.
Ребята в бригаде умели делать многое. И многого не умели. Николай умел делать все. Поэтому к ребятам он относился с доброй снисходительностью, как мастер к ремесленникам. Все, за что бы он ни брался, получалось красиво. И красивыми были не только результаты его труда, но и сам этот труд: ладные, пластичные и экономные движения его рук и тела.
Руководил он ребятами без лишнего шума, и ребята просто не замечали, что ими руководят. Но они хорошо понимали, что значит для них Николай.
Он был старше их. Три месяца назад ему исполнилось двадцать семь. Фигура его, длинная, с широкими плечами и узкой талией, была юношеской, а лицо – взрослым. Николай вообще был человеком взрослым и серьезным. И вот теперь Ольга стояла в его шинели на берегу Канзыбы.
Ну и что? Просто шинель. Обыкновенная, серая. Такие всем выдают в армии. Только петлички, когда старые износились, мать Николая перешила с дырастой отцовской, отвоевавшей еще в мировую и гражданскую, как память об отце. Николай сначала смеялся, а потом привык.
Обыкновенная... А может быть, и необыкновенная. Для него, Букваря, она стала символом тех принципов, которыми он жил.
– Пятьдесят пять минут, старик, – сказал Леонтьев. – Не так уж плохо.
Букварю хотелось рассказать ребятам про шинель, но им было не до этого. Они курили.
Кешка держал сигарету в уголке рта большим и указательным пальцами, как держал в детстве, когда курил украдкой и прятал окурки в рукаве. Сплевывал он виртуозно и каждый раз на новый пень.
Виталий Леонтьев дымил небрежно, морщился, словно занятие это ему давно надоело, опротивело, пускал к небу пепельно-седые кольца. Кольца поднимались лениво и нехотя, переваливаясь с боку на бок, и, видимо, подниматься вверх им так же надоело, как и Виталию Леонтьеву смотреть на них.
Бульдозер курил жадно, затягивался и кашлял.
Николай сидел на пне и аккуратно стряхивал пепел о раскрошенную пилой кору пня.
Букварю было скучно, а Спиркин морщился. Он всегда высказывался против курения.
– А Ольга там шинель надела, – сказал Букварь Николаю, – выкупалась и надела.
– Ага... Хорошо... – машинально сказал Николай.
– На первое будут щи, потом картошка и компот...
Николай молча кивнул, и Букварь, неудовлетворенный, отошел от него. Начинать разговор с Кешкой не имело никакого смысла, и он подошел к Леонтьеву.
– Пришел я туда, – сказал Букварь, – а Ольга стоит в шинели...
– Ну и что? – спросил Леонтьев.
–Как что? – удивился Букварь. – Стоит в шинели...
– Стоит в шинели. Ну и что?
Букварь обиделся, взял топор и пошел, посвистывая и сшибая зеленые хрустящие верхушки высоких растений, пахнущих мятой.
5
Крокодилы бывают разные.
Из каждого крокодила можно сделать самодовольный профессорский портфель. Каждый крокодил, когда хочет, плачет крупными неискренними слезами. Тем не менее крокодилы бывают разные.
Кешка разбирался не только в верблюдах. Он многое знал и о крокодилах. Его вынудила к этому симпатичная блондинка Люба, работавшая в абаканской читальне. Попытка познакомиться с ней обошлась Кешке дорого. Семь вечеров просидел он в читальне, и каждый раз блондинка подсовывала ему массивный двадцать третий том Большой Советской Энциклопедии «Корзинка – Кукунор». Этим томом у них на мясокомбинате можно было запросто забивать крупный рогатый скот.
Кешка старательно читал его и с тех пор стал разбираться в крокодилах.
Так вот, крокодилы бывают большие и маленькие, сонные и шустрые, нахальные и миролюбивые. Самые разные.
Прораб Мотовилов – тоже крокодил. Это Кешке ясно. Неважно, что у него есть усы. Просто это такая особая разновидность крокодила, еще не описанная в энциклопедии.
Сегодня он говорит одно, завтра другое.
Утром Мотовилов приехал давать ценные указания.
Он не спешил. Словно у него в Курагине и у сонной Ирбы не было никаких дел. Он хвалил места у Канзыбы, шутил с Ольгой, усаживался на свежие пни, щурился на солнце и посасывал мундштук. Этот мундштук всем уже надоел. Мундштук был дешевый, желтый, из какой-то ерунды, похожей на янтарь. Мундштук лениво двигался в вялых губах Мотовилова. Он появился во рту Мотовилова полгода назад, когда прораб бросил курить. То ли у него была такая железная воля, то ли он опасался за больные легкие, из-за которых и приехал в Саяны, на горный климат, но так или иначе, а курить он бросил. Купил мундштук и стал сосать его.
Кешка смотрел на жидкие, светлые, с рыжинкой усы и думал про крокодилов.
Кешке было смешно. Мотовилов все тянул и тянул, а ребята прекрасно понимали, что он приехал их уговаривать.
Уже не первый раз их уговаривали. Сначала их – трактористов, электриков, экскаваторщиков, шоферов – уговорили стать плотниками. Стали. Раз стройке нужно. Потом уговорили податься сюда, на Канзыбу. Рубить лес. Раз нужно – подались. Что теперь?
– Я вон на той сопке, где камни, дачу бы построил, – мечтательно произнес Мотовилов, – с террасой, мансардой там...
Кешка уселся на землю и сказал:
– Ну, ладно, Игнатьич, надоело. Валяй, уговаривай.
– Да? – удивленно спросил Мотовилов.
Кешка бесцеремонно обращался с начальством, и это всегда сходило ему с рук. Мотовилов начал копаться в сумке. Сумка у него была из какого-то черного пупырчатого заменителя кожи, на зеленом ремне и походила на сумку почтальона. Мотовилов выволок из нее сложенный вчетверо чертеж, белый носовой платок и бутерброд с маслом и котлетой, завернутый в обрывок газеты. Осмотрел бутерброд и поворчал. Потом развернул чертеж.
– Этого еще не хватало! Масло, что ли...
На чертеже было крупное масляное пятно. Палец Мотовилова тыкался по черным линиям, тонким и жирным, около этого пятна, губы его пытались что-то шептать, помогая прорабу соображать, но им мешал мундштук.
– А чего тут уговаривать, – сказал Мотовилов, – просто так надо... Отсюда и досюда...
Кешка следил за его морщинистым пальцем и понял все.
Но все-таки спросил простовато:
– До этого пятна, что ли?
– При чем тут пятно? – взорвался Мотовилов. – От Заячьего лога и до сопки... Просеку... За три дня...
Николай присвистнул и улыбнулся. Монументальный Спиркин покачал головой. Ресницы Букваря поднялись и захлопали. Бульдозер покраснел от возмущения. Кешка хохотал. Только Виталий Леонтьев похаживал спокойно, словно считал задание прораба самым обыкновенным.
– Выложил наконец-то! – хохотал Кешка. – За три дня!.. За три!..
Мундштук задергался под жидкими усами. Мотовилов вытащил его изо рта и стал объяснять, почему так важно пробить эту просеку именно за три дня.
С Печоры прибыла новая мехколонна. Ей уже отдали часть домов в Кошурникове. Через пять дней она начнет сыпать насыпь до этой самой сопки. До Заячьего лога рубит бригада Воротникова. Им осталось немного. Через три дня все эти столетние кедрики и сосенки должны лежать на земле до самой Бурундучьей пади, что перед сопкой. Еще два дня нужны на трелевку.
Иначе срываются важные сроки, перечеркиваются обязательства, за которые проголосовали все они в разукрашенном кумачом зале.
– Мы не думали, – сказал Мотовилов, – что эта мехколонна прибудет так быстро. А вышло так. И усилить вас некем. Но вы сможете! Вы же такие орлы!
Он заулыбался. Улыбка его получилась добродушная и в то же время льстивая.
Сердце у Букваря забилось быстро и гулко, как на экзамене, когда он брал со стола аккуратный белый листок. Он не отрываясь следил за Мотовиловым.
– Пятно еще тут! – проворчал Мотовилов.
Он скреб большим черным, задубевшим ногтем масляное пятно, пошлепывал губами, бубнил что-то себе под нос, словно всеми этими вялыми, подчеркнуто прозаическими занятиями, и движениями, и сонным выражением своего лица хотел сбить взволнованность ребят и заставить их думать, что дело им поручается совсем обыкновенное.
Это успокаивало Букваря.
И в то же время разочаровывало. Какие слова здесь надо было произнести!
– Это же только за десять дней можно! – возмутился Бульдозер.
– Но ведь она, – показал Мотовилов на Ольгу, – будет кормить вас, как слонов.
Вступать в спор с Бульдозером он не собирался. Он ждал, что скажет бригадир. Если тот начнет спорить, тогда у Мотовилова найдутся слова...
– Раз нужно... – сказал Николай. Букварь смотрел на него влюбленно.
То, о чем он мечтал, начиналось. Настоящее дело. Три дня боя!
Мотовилову делать было больше нечего, и он пошел к машине.
– Не подведите, братцы, – сказал он, поставив ногу на ступеньку, – теперь уж судьба фронта зависит от вас.
Эти слова он когда-то говорил на войне своим разведчикам, пожимая им руки и понимая прекрасно, что ждет этих людей.
– Вечером я пришлю вам еще две пилы, – сказал Мотовилов уже из кабины.
«Вечером... Еще два пулемета...» – расслышал Букварь.
– Ну вот, так всегда, – выругался Кешка и сплюнул со злостью.
– Берегись!
Кешка кричит истошно и с удалью. Кричит не ему, Букварю, и не ребятам, а этой притихшей, позеленевшей от страха тайге, бурым, съежившимся валунам, колючелапым соснам и кедрам, костлявыми коричневыми пальцами вцепившимся в желто-серую твердую саянскую землю, угрюмой, лихорадочно удирающей к югу ледяной Канзыбе.
6
– Берегись!
Кешкин крик звучит в двадцатый, а может быть, в сотый раз, бьет тишину, как удар гонга.
Букварь отскакивает в сторону, и с ним отскакивают ребята, и в сотый раз застывают на секунду, смотрят, ждут, словно сейчас должно произойти чудо, подготовленное их руками, и боятся, как бы мгновенным, крошечным движением, чуть слышным дыханием не спугнуть это долгожданное удивительное чудо.
Сосна тряскает от отчаяния, вздрагивает вся, до последней молоденькой иголки, словно хочет сбросить с себя что-то невидимое, убивающее ее, и падает. Падает с многоголосым шумом и стоном, падает прямо на большое горящее солнце, судорожно хочет ухватиться за него своими колючими вскинутыми лапами, повиснуть над тайгой и скалами и висеть так, жить так. Но солнце выскальзывает из секундных судорожных объятий, и сосна ухает на свежие тупые пни.
Букварь стоит еще секунду стоит молча, напряженный, с топором в руках, словно ждет, что эта зеленая живучая махина встрепенется, зашевелит ветвями, попробует встать.
– Берегись!
Кешка кричит просто так, играючи, кричит, потому что ему нравится это делать. Он выкрикивает это слово уже сто раз и каждый раз выкрикивает по-новому. Произносит его нараспев, растягивая гласные и «покачивая» их, кричит его, хохоча, словно оперный певец, слушает, как хохочут в ответ сопки, и хохочет снова, теперь уже дико и неестественно, напрягая голосовые связки до предела, до хрипоты, любуясь этим нечеловеческим, «дьявольским» хохотом и шумным, крикливым эхом.
Кешка кричит задиристо, и в крике его звучит настойчивое, неумолимое чувство победителя. Он смакует начало каждой новой победы над молчаливым зеленым морем, и глаза его горят, и Букварь не может узнать вчерашнего Кешку, ворчавшего и ругавшегося в спину прорабу Мотовилову.
– Берегись!
«Сколько часов мы здесь?..» Букварь опускает топор. Треск – и сук, толстый, как хорошее бревно, отскакивает от длинного, поблескивающего смолой коричневого туловища сосны. Букварь уже научился отсекать такие сучья с одного удара. Сколько часов? Солнце еще держится, висит над колючими сопками. Значит, еще немного. Значит, десять. Или двенадцать.
– Берегись! – это падает сосна слева, сосна Виталия Леонтьева.
Тра-а-ах! Еще один сук.
Судьба фронта... Тра-а-ах!.. Судьба фронта... Толстый попался сук... Тра-а-ах!.. Это, конечно, громкие слова. Их не надо часто произносить, иначе они станут стершимися. Но почему-то хочется о них думать. Почему-то хочется о них думать...
– Николай, можно я попробую пилой?
– Валяй. Только держи ее вот так. Ага...
Торопится сталь, вгрызается мелкими быстрыми зубьями в волокнистое деревянное мясо, торопится и дрожит от злости и голода. Дрожат руки, дрожит тело, дрожит тайга, дрожит вся земля, весь этот приплюснутый сверху и снизу голубоватый шарик, привязанный к своей надоевшей орбите. Желто-розовая пыль сыплется на зеленую высокую траву.
Конечно, это громкие слова. Но если разобраться, то у них на самом деле фронт. Семьсот километров фронта... Так интересней... Нет, это не игра, это не детство. Семьсот километров... Передовая... Танками идут тракторы и бульдозеры... Рычат моторы. Они семеро – десант...
– Ну все, Букварь. Теперь надо подрубать. Желто-розовая пыль на руках, на траве, на сапогах, желто-розовая пыль...
– Коля, ребята, я кашу принесла. Горячая она. Пар идет.
Ольга стоит под кедрами, метрах в тридцати от сосны, держит в руках бачок, запеленатый шинелью.
– Сейчас, – кричит Николай, – только опустим сосну!
– Берегись!
Каша горячая, пахучая, поблескивает солнечными каплями расплавленного масла.
Такую хочется есть руками. Или вот этой душистой сосновой щепкой.
– Букварь, ты зачем щепкой? Вот же ложка!
– Ух, какая каша! – смеется Букварь, жадничает, обжигает нёбо и горло. – Ух, какая каша!
Кешка корчит свирепые рожи, заглатывает мягкий черный хлеб, стучит ложкой по вылизанному дну алюминиевой миски.
– Добавки!
Ольга подходит к Николаю, гладит его мягкие русые волосы, снимает с них мелкие, въедливые опилки.
– Я вам Буратино оставлю... Пусть он вам поможет. Он сильный.
Ребята смеются и благодарно смотрят ей вслед, словно она оставила им четвертую бензопилу.
...И снова падают на привыкшую к ударам и сотрясениям землю кедры, сосны, ели, длинные толстые березы и осины с гладкой, словно чисто вымытой корой.
Снова дрожат руки Букваря, дрожит тайга, дрожит вся земля, весь этот приплюснутый сверху и снизу голубоватый шарик...
Дрожат руки, рвут толстую слоистую коричневую кору, ломают сосну, проткнувшую небо. И сосна падает, падает... нет, это падает облако из мелких желто-розовых опилок.
Букварь открывает глаза. Мясистое оттопыренное ухо спящего Спиркина торчит перед ним в темноте. Букварь тянет к Спиркину руку, хочет потрясти его за плечо, сказать ему, что он забыл снять на ночь ухо. Потом ему становится жалко Спиркина, и он опускает руку Черт с ним. Спиркин устал, и он, Букварь, тоже устал.
Букварь думает об усталости. Он потягивается, напрягает тело и с наслаждением расслабляет его, словно отключает пружину, которая весь день держала каждый мускул, каждый нерв в напряжении и помогала Букварю работать за троих. Букварь думает о том, что он любит вот такую усталость, которая валит с ног, расплывается по всему телу, укутывает его теплой и тяжелой ватой. Это счастье – уставать так, выкладывать все и нырять в эту теплую, всепоглощающую, тягучую усталость. Еще он любит теплые и тихие летние вечера, печеные яблоки... которые... которые пахнут... яблоки... которые...
– Подъем! Все наверх!
Ольга хохочет и брызжет ему в лицо ледяными канзыбинскими каплями. Значит, поспал свои четыре часа.
Виталий Леонтьев в плотно обтягивающем его синем тренировочном костюме прыгает у палатки, мнет рубчатыми подошвами мокрую от росы траву, бьет воздух сильными большими кулаками.
Бульдозер зевает и ожесточенно трет склеенные сном глаза.
Кешка орудует зубной щеткой, полощет горло, готовит его к новым победным, торжествующим крикам.
Они завтракают и идут с топорами и пилами, устроившимися на ватных плечах, неторопливо, молча, хозяевами, к длинному Заячьему логу, к месту боя.
Штурм продолжается. Отступает тайга, отступает. Широкий коридор с голубым потолком – по шагу, по сосне, по кедру – все ближе к финишной сопке.
Солнце висит, светит, слепит глаза, глаза тайги. Оранжевый костер на истекающем ледяной кровью кубе. Или это уже было. Это уже в прошлом. А сейчас еще одна пулеметная очередь!
– Погоди, Букварь. Так дело не пойдет.
Топоры стучат и не помогают. Отрезанный пилой кедр вцепился в свой пень и не падает. Толкают осторожно: кто знает, куда он вздумает валиться! Но он не падает.
– Отойдите, ребята!
Это Николай. Встает к кедру спиной. Упирается в его шершавое загорелое туловище руками, всем телом.
Тело Николая, обнаженное до пояса, смуглое, сильное, становится стальным. Так... Еще... Еще... Уже трещит... Еще... Еще...
Букварь сжимает зубы. Он стоит в стороне, но и он напряжен, словно он там, с Николаем, валит кедр. Он даже крякает от неимоверного физического усилия.
Он уже где-то видел такое. В кино. Рослый, сильный человек с курчавой головой так же валил лес. Состав должен был идти в Шатуру. Или там тоже был Николай?
Ну еще!.. Так... Так... Идет... Николай, быстрей отскакивай... Отскочил... Падает, стонет махина... У-у-ух!
Букварь бросается к Николаю и, не добежав, останавливается, засмущавшись. Да и к чему эти нежности! Но он чувствует, что пошел бы сейчас за Николаем, куда бы тот ни позвал.
Леонтьев смотрит на Николая и смеется, и улыбка у него неожиданно получается не обычная, отработанная, на полсантиметра, как у английского лорда на приеме, а настоящая, человеческая. Смуглые плечи и спина его подставлены солнцу, упругие мышцы ходят под кожей. Работает Виталий изящно и красиво, и за каждым движением его чувствуется сила. И Букварь понимает вдруг, что этот высокий, стройный парень очень красив и красиво лицо его с тонкими, строгими, мужественными, чуть удлиненными чертами.
А Кешка? А Спиркин, снявший гимнастерку, делающий все без удали, но старательно и правильно, четкий, добросовестный Спиркин, уши которого сегодня совсем незаметны? И даже Бульдозер, скинувший сегодня впервые ватник и показавший белую-белую спину, по которой бегут кверху родинки, крупные и нахальные, как клопы, ухающий топором так, что летят кверху щепки, красив. Букварю никогда и не приходило в голову, что могут быть красивыми его ребята, их лица, их руки, их движения и ритмы этих движений, сокрушающие тайгу.
Я люблю вас, черти!.. Вы же самые замечательные и красивые люди: и ты, Николай, и ты, Кешка, и ты, Спиркин, и ты, Бульдозер, и ты, Виталий, и ты, Ольга... Я объясняюсь вам в любви!..
– Хватит! Перекур!
Можно улечься в траву, грызть сочную тоненькую травинку и смотреть в небо. Ребята курят, а Спиркин деловито осматривает топоры и покачивает головой. Солнце спускается к сопкам.
Букварь жует травинку уже машинально и думает о том, что день сегодняшний похож на те жаркие дни под Суздалем, когда все село, празднично приодетое, шло с поблескивающими жикающими косами по росистому лугу, валило вкусную, густую, влажную траву.. Все равно, как бы люди ни жили, какие бы машины они ни придумали, без такого труда, крепкого, физического, без этих кос и топоров, без пьянящей усталости они не проживут, станут кретинами...
– Ну ладно, пошли...
Что это? Дождь? Да, мелкий, комариный. Стволы стали мокрыми. Который день они работают? Второй или третий? Третий. И им осталось совсем мало.
Ольга идет рядом. Держит в руках топор. Держит смешно.
Деревья валим залпами. Так интереснее. Подпиливаем, подрубаем по три дерева, и три махины падают разом, ухают разом.
Неужели? Последняя сосна? Последняя? Совсем последняя? Но разве может так просто, обычной сосной, обычным топориным стуком, закончиться этот штурм, этот бой?.. Должно произойти что-то необыкновенное, удивительное...
Нет, просто упадет эта сосна.
– Берегись!
Падает последняя сосна. Последний выстрел.
Эй вы, сопки, обросшие лесом, как мхом, скалы, острые и клыкастые, завистливая Канзыба! Вы молчите. Вы молчали так тысячи лет и ничего не видели. Вы впервые увидели такое и снова молчите. Ну и черт с вами! Вы еще не такое увидите. Вы еще увидите, как в нашем коридоре мы уложим стальные рельсы, серебряную дорогу, и паровоз будет здесь гудеть от радости погромче Кешки. Мы выиграли бой и выходим из лесу.
Мы идем нашим коридором, дружные, усталые, великодушные победители. Нас ведет Николай, командир в длинной расстегнутой шинели, к которой пришиты петлички, отвоевавшие еще в гражданскую. Мы смеемся. Хохочет Бульдозер, улыбается почерневший, измученный Спиркин, даже сдержанный, молчаливый Леонтьев смеется. А Кешка гудит паровозом. Он вскакивает на пень, ровный как стол, с удалью скидывает с себя мокрый, пахнущий потом ватник и разукрашенными глиной каблуками отстукивает, с присвистом, с криками, задиристый, радостный танец.
И снова режет наступающую темень, стену моросящего дождя торжествующее, победное:
– Берегись!






