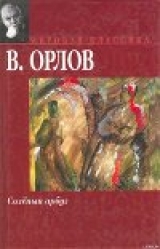
Текст книги "Солёный арбуз"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
1
У попа была собака. Поп ее, естественно, любил.
Была она лысая, кривоногая, как венский стул, с откровенной ленью в глазах и терпела обидную кличку Кастрюля. Увидев ее впервые, он, Кешка, понял сразу, что никаких шансов попасть в спутник она не имеет. Тем не менее, Поп ее любил.
Еще у Попа был верблюд. Верблюда Поп тоже любил. Даже больше, чем собаку. Еще бы! Собак в Абакане – как белых медведей на Северном полюсе, а верблюд единственный.
И хотя верблюд был пенсионного возраста, и хотя на тощем загривке его торчали бурые и рыжие кустики шерсти, и хотя носил он на мосластых передних ногах лохматые, неприличные подштанники, снижавшие впечатление от его донкихотской фигуры, держался он на редкость гордо и с презрением относился к шестидесятидвухтысячному населению Абакана.
Во рту его все время плавала жевательная резинка, и каждую секунду он мог унизить любого встречного полновесным свинцовым плевком. Он не щадил авторитетов. И даже однажды совершенно спокойно плюнул в лицо уважаемого товарища милиционера Чорчокова, регулировавшего движение на перекрестке улиц Щетинкина и Чертыгашева.
Обвиняли потом его, Кешку, а не верблюда, будто бы верблюд несознательный и не умеет самостоятельно мыслить...
– Ну ладно, – сказал Николай, – надо ехать.
– А потом верблюд... верблюд... – Кешкин рассказ забуксовал, как «ГАЗ-51» на Чертовом болоте.
Кешка обиделся. Каждый раз не дают досказать ему эту историю. А она интересная. Местами про любовь.
Верблюд был его слабостью. Кешка никогда не мог устоять перед соблазном рассказать про верблюда и про его хозяина Попа, своего бывшего друга. («У, гад, обыватель, остался в Абакане вместе с братцем!»)
Конца этой истории никто так и не слыхал. Либо Кешку перебивали, либо он сам забывал о верблюде и начинал описывать свои похождения в Абакане и Красноярске. Он уверял, что его родной Абакан веселее Одессы, и рассказывал, как он делал мясо из живого рогатого скота на Абаканском мясокомбинате.
– Помогай грузиться, – сказал Николай. У Кешки перекосилось лицо.
– Букварь! Ты еще спишь? – закричал Кешка. Потом он сказал Николаю доверительно: – У нас же есть Букварь.
Из общежития, длинного и приземистого, как солдатская столовая, выскочил Букварь и заспешил к машине.
Букварь пыхтел. Из уголка рта его торчал кончик языка, розовый и несолидный.
По спине Букваря нудно и методично стучал вместительный мешок на коротких лямках, набитый гвоздями, шурупами, болтами, костылями, шпингалетами и дверными ручками.
Букварь осторожно и даже торжественно нес сверкающий бачок размером с ведро, взятый два дня назад со склада. В него были втиснуты бачки поменьше и кастрюли. Лежали сверху чистенькие, но тусклые алюминиевые миски, тарелки и чашки.
Чашки подпрыгивали, перевертывались и позвякивали.
Маленький старательный Спиркин с оттопыренными ушами вышагивал за Букварем с мешком картошки на плечах. Выражение лица у него было суровое и монументальное. Видимо, Спиркина высекли резцом из куска мрамора, и пришлось постоять ему в ответственной скульптурной группе. Потом это ему надоело, и он сбежал с постамента, переквалифицировался в плотника, но изменить выражение лица ему так и не удалось.
– Ты чего? – спросил Спиркин.
Он увидел Кешку. Кешка валялся на траве и жевал травинку.
– Ничего, – сказал Кешка. – А ты чего? Мраморный Спиркин сплюнул и зашагал к машине. Плелся за ним и толстый Бульдозер, а по паспорту
Борис Андропов, посвистывал и нес брезгливо в обеих руках авоськи, растянутые, как невод китами, пузатыми пакетами с мукой, крупами, вермишелью, сахаром и прочими непитьевыми продуктами.
Упруго ступали по земле длинные баскетбольные ноги Виталия Леонтьева. Были они обтянуты синими тренировочными брюками и обуты в синие кеды. Как охапку дров, тащил Виталий в левой руке топоры и плотницкие инструменты.
Ольга шла за Виталием Леонтьевым и старательно копировала его упругий шаг. Но ноги у нее были не такие длинные, и упругий шаг получался не так эффектно. Зато изящный наклон головы и философское выражение глаз Виталия она передавала точно.
Николай улыбнулся ей из кузова машины.
Хулиганистый пластмассовый Буратино дергался и пытался вырваться из цепких пальцев Ольги, сжавших его морковный нос. Но у Буратино ничего не выходило, и он продолжал крутиться вокруг оси своего собственного носа, показывая всем желтые пластмассовые ботинки.
– Кажется, все, – сказал Николай.
– Все, – веско подтвердил серьезный Спиркин. Когда шофер Петухов влез в кабину, Николай сказал ребятам, чтобы они не задерживались и к вечеру были на Канзыбе, и что старшим он назначает Спиркина.
– Ясно, – сказал Спиркин и поправил блестящую пряжку отличного командирского ремня.
Конечно, ничего не произошло, но Спиркин все-таки скосил глаза в Кешкину сторону.
Выражение лица у Спиркина было гордое и значительное, словно его фотографировали сейчас у развернутого знамени.
В армии Спиркин был отличником боевой и политической подготовки, своим монументальным лицом неизменно украшал доски почета и дорос до сержанта.
В чемодане Спиркин таскал выгоревшую гимнастерку и галифе. Время от времени он доставал гимнастерку, отглаживал ее, пришивал новый подворотничок и укладывал на старое место. Кешка никогда не упускал случая сострить по этому поводу. Сегодня был день его острот.
Машина уже катила между коробок общежитий, а Кешка все валялся на чахоточной траве и кричал:
– Букваря не потеряйте! Букваря!..
Ехали час, а может быть два. Ехали сначала по зигзагам, спиралям и петлям Артемовского тракта, а потом свернули на дорогу, пробитую тракторами и бульдозерами в тайге. Дорога была похожа на лыжню. Бежали к Канзыбе две жирно-бурые глинистые колеи, выдавленные в пахучей силосной траве сталью и резиной.
На Артемовском тракте было шумно и тесно, как в Москве на улице Горького. Только милиционеры не попадались, и в отличие от улицы Горького Артемовский тракт был царством грузовиков.
Букварь подумал: если бы эти труженики исчезли с тракта, замерла бы в Саянах жизнь. Перестали бы крутиться машины Джебской электростанции. Закрылись бы в Артемовске, в таежных деревнях и поселках магазины. Бульдозеры у Кизира уткнулись бы стальными вогнутыми лбами в желтые и зеленые откосы, а не знающие отдыха экскаваторы стояли бы печальные и сонные, как жирафы в Московском зоопарке.
Но уставшие, пропылившиеся грузовики не исчезали с тракта. Они везли жирный, блестящий уголь, бледно-желтую руду, бочки с бензином и пивом, лоснящиеся на солнце рулоны рубероида, длинные туловища саянских сосен и кедров, аккуратные белые листы жести, ящики, в которых подскакивали бутылки с молоком, подсолнечным маслом и водкой, взрывчатку, утюги и свиную колбасу производства Абаканского мясокомбината.
Они летели по тракту, булыжному и узкому, проскакивали отчаянные его спирали.
Букварю нравилось следить, как приближались к ним встречные машины.
Сначала километрах в двух-трех впереди, где-то на петле, повисшей над хрустальным Кизиром, машина ползла, как божья коровка по коричневому осеннему листу. Потом она становилась размером с собаку и шла все быстрее. Потом она неслась метрах в ста впереди, гудела угрожающе, и вот уже была совсем рядом, и вот уже с оглушительным ревом, со смазанными скоростью формами проносилась мимо, как ракета, и у Букваря замирало сердце и от этого рева, и от этой скорости, и от этих смазанных, как на фотографии с большой выдержкой, форм.
Артемовский тракт двигался лентой транспортера. Еще недавно эта торопящаяся узкая лента бежала среди неподвижных, застывших деревьев и скал. Только порывистый, шумный Кизир пытался соперничать с лентой булыжного транспортера.
Теперь движение переместилось в тайгу и горы.
По обе стороны дороги суетились экскаваторы, бульдозеры, тракторы, самосвалы, шумели бетономешалки и компрессорные установки, захлебывающимися пулеметными очередями вгрызались в камни отбойные молотки. В скалах над Кизиром, на катышах и уступах, где торчали из камня березы, кривые и причудливые, висели на веревках взрывники с перфораторами вруках, висели на стометровой высоте над летящим серым потоком. Из насыпей, выемок и тоннелей люди имашины готовили ленту полотна для новой дороги, стальные рельсы которой должны были принести вСаяны новые стремительные скорости.
Таежное солнце, как и Кизир, старалось не отстать от этих скоростей. Оно гналось за машиной шофера Петухова и заставляло Букваря одну за другой расстегивать пуговицы ватника. Раскосая девчонка со встречной машины бросила в Букваря венок из жарков. Оранжевое кольцо ударилось о борт машины и упало на булыжное шоссе. Девчонка валялась вкузове на куче мокрого песка, пахнувшего аквариумом, и хохотала. Букварь стащил ватник ипомахал им ей вслед. Ему было весело. Ему нравился неслышный хохот девчонки, солнце, летевшее по небу, и спешащий завистливый Кизир.
Еще Букварю нравились суслики.
Суслики рыжими столбиками стояли вдоль шоссе, как болельщики во время велосипедных гонок. Шум трассы выгонял их из нор, завораживал изаставлял часами торчать в метре от бешено вертящихся колес. Суслики были одинаковые. Почти все стояли у камней на задних лапах, напряженные, вытянувшиеся, с прижатыми ушами и наведенными на дорогу антеннами усов.
Ребята, проезжавшие по тракту, запасались камнями и от нечего делать пугали сусликов. Букварь тоже набрал камней. Камни лежали у него в ногах маленькой кучкой. На поворотах кучка меняла формы, и камни тыкались в доски заднего борта.
– Вон в того, – посоветовала Ольга. – Слева. Букварь целился не в суслика, а в куст. Камень упал около куста и отскочил к суслику. Рыжий столбик даже не вздрогнул, словно был бетонным.
– Ты только посмотри, – радостно сказал Букварь Ольге, – какой хладнокровный! Ты только...
Он обернулся и не договорил. Ольга не смотрела на дорогу. Ее рука лежала в руке Николая. Ольга улыбалась и смотрела вглаза Николаю. Николай тоже улыбался.
Букварь был не маленький и все понимал. Он перевел глаза на Буратино. Буратино сидел рядом с Ольгой, свесив с доски худенькие, пластмассовые ноги в тяжелых желтых башмаках.
– Очень хладнокровный суслик, – нерешительно сказал Букварь и отвернулся.
Он взял камни в ладони и не спеша высыпал их на дорогу. Камни попрыгали в пыль и замерли на шоссе длинной ломаной цепочкой.
Когда между стволами деревьев сверкнул зажженный солнцем осколок Канзыбы, шофер Петухов повернул налево. Машина заковыляла медленно и осторожно, мяла траву, кустарник и цветы.
Вещи таскали вчетвером.
Домик, поставленный над Канзыбой лет тридцать назад охотниками, был маленький, но крепкий, похожий на сибирскую баню, коричневый изнутри и снаружи от старости, с единственным окном, стекла которого, покрытые пылью, неизвестно как уцелели.
Нос Буратино уперся в стекло, выцарапал на нем тонкие танцующие буквы, и из них составились слова: «Гостиница Канзыба».
Единственную комнату «гостиницы» забили вещами, и шофер Петухов угнал свою машину, пообещав вечером привезти остальных и не забыть железную печку и брезентовую палатку
Букварь изучал окрестности. Домик пристроился к боку скалы, лоб которой нависал над Канзыбой. Вода Канзыбы крутилась по спирали и ласкала каменное подножие скалы. Ласка эта была фальшивой.
– Красиво? – спросил Николай.
– Красиво, – выдохнул Букварь.
Глаза Николая горели, словно у него была температура. Букварь чувствовал, что Николай хочет ему что-то сказать, но Николай молчал и нерешительно тер подбородок.
– Знаешь, Букварь, – сказал Николай, – сходи притащи дров, хворосту... Возьми топор...
– Хорошо.
Николай помолчал и добавил:
– Только ты не спеши... понял? – Он улыбнулся. Другой на месте Букваря обиделся бы. Это в детстве, когда взрослым нужно было остаться одним, они просили его погулять и даже послали однажды в магазин за пачкой лаврового листа.
Букварь выбрал топор и сказал:
– Ладно, я притащу дров.
2
Сначала Букварь собирал цветы.
Потом, когда в руках у него оказался букет, за который старухи у абаканского вокзала запросили бы рубля три, и не было цветам конца, Букварь положил букет на жилистые, коричневые корни сосны, похожие на огромные старческие пальцы, скрюченные, шершавые и длинные.
Букварь пожалел, что не переобулся. Сапоги, встретившиеся с мягкой высокой травой, сразу стали пудовыми и неуклюжими. Букварь ступал осторожно, словно боялся стереть краски.
Тайга манила его, как пчелу запах меда. Он шел все дальше и дальше, не думая о том, что может заблудиться, сосредоточенный и жадный, стараясь увидеть все и запомнить все. И упавшего с ветки в кусты глухаря, и примятую совсем недавно чьими-то большими лапами траву, и заросли черной смородины, пьянящие родным с детства рассольным запахом. Букварь шел быстро, спешил, словно впереди было такое, не увидеть чего было нельзя.
Совсем другая тайга жила в его воображении. В той тайге деревья жались друг к другу, как прутья в гигантском венике. И земля, по которой никогда не прыгали солнечные лучи, была покрыта слоем прелых, потерявших запах и цвет иголок и похожим на плесень мхом.
Тайга оказалась обыкновенным лесом. Шумным, ярким, приветливым. Стучал по кедрачу дятел, цеплялись за куртку колючие ветки шиповника и малины, танцевали над кустами и травой крупные пестрые бабочки.
Солнечные лучи спокойно гуляли по тайге. Они заливали поляны и лужайки и даже в чаще жгли Букварю лицо. Рядом с кедрами и соснами стояли березы и осины, делая тайгу совсем домашней, похожей на лес, росший в двух километрах от деревни Букваря.
И на секунду Букварю показалось, что стоит ему влезть на сопку, как он увидит внизу черные, лиловые, зеленые прямоугольники и трапеции полей Владимирского ополья, и полоску ленивой зеркальной Нерли, и прямо перед собой деревянные и железные крыши родной деревни, а чуть подальше, там, у Каменки, купола и колокольни Суздаля.
Но с сопки Букварь увидел тайгу. Букварю стало тоскливо. Букварь знал, что если он спустится в распадок и поднимется на другую сопку, то он увидит опять только одну тайгу. Великанские, таинственные в своей бесконечности размеры и делали обыкновенный лес тайгой.
И еще в обыкновенном лесу нельзя было увидеть столько цветов. Казалось, деревья в тайге росли не из земли, а из цветов.
Букварь на секунду закрыл глаза, но цветы не исчезли. На одной из полянок у острых желтых камней ей не выдержал и остановился и долго стоял и смотрел.
У Букваря было такое ощущение, будто он слушает необыкновенную музыку, то быструю и радостную, то чуть приглушенную, мягкую и грустную. Букварь вспомнил. В «Аэлите» он читал о музыке, рожденной быстро меняющимися цветовыми сочетаниями. В тайге играл беззвучный оркестр, дирижер которого позволял оркестрантам импровизировать и непрерывно менять мелодию. А может быть, у оркестра не было дирижера.
Букварю вдруг захотелось петь, скакать на одной ноге, как в детстве, или уткнуться лицом в оранжевый букет жарков.
Неожиданно ему представилось, что из-за деревьев появился Кешка и, хохоча, показал на него пальцем. Букварь невольно обернулся. Кешки не было. Но дело было не в Кешке. Букварь решил, что все эти его чувства наивны и сентиментальны. В конце концов он уже взрослый. Надо быть сдержаннее.
Ему стало стыдно. Он отломал сухую ветку осины и пошел, посвистывая и сшибая веткой укропные шапки высоких растений. Наверное, так ходил по тайге Кешка.
Букварь быстро спустился в распадок. В распадке перекатывал камушки куриный ручей. Прямо от берега начиналась новая сопка.
Букварь перешагнул через ручей и полез вверх по сопке. Сопка была невысокая, со вмятиной на боку. По пологим откосам вмятины оранжевыми шариками скатывались жарки. Они останавливались у края вмятины и удивлённо смотрели оттуда на ее дно. Там лежал снег.
Во вмятине было сыро и холодно, как в погребе. Букварь с камня соскочил на снег. Снег не скрипел. Букварь ткнул снег носком сапога. Грязно-белые снежные и блеснувшие водяные брызги упали в метре перед ногами Букваря. Носок уткнулся во что-то твердое. Букварь стал разгребать снег сапогом.
Под снегом был целый ледник. Небольшой, шагов пятнадцать в длину, и все-таки ледник. «Может быть, он лежит здесь миллионы лет? – подумал Букварь. – Может быть, он добрался сюда, когда по Саянам еще бродили мамонты и саблезубые тигры? Все остальные ледники давно уже растаяли, а этот спрятался, притаился, только по капле отдает жизнь, ждет чего-то». На секунду от этой мысли Букварю стало жутко.
Букварь вытащил топор и стал стучать им по льду. Лед крошился, острыми стекляшками со злостью колол лицо. Потом Букварю надоело бесцельно стучать по льду. Он расчистил от снега небольшую площадку и аккуратно, словно алмазом по стеклу, вывел лезвием топора на льду четкий прямоугольник.
Теперь он опускал топор осторожно. Пилил топором лед, И когда прямоугольник обозначил ровные узкие щели, стал обрубать дед с боков. Потом он снова углублял щели и снова обрубал лед с боков. Он выбил топором ледяную яму, в центре которой торчал четырехугольный столб. Букварь стал пилить этот столб снизу так, чтобы получился ледяной куб. Он возился с этим кубом, как скульптор с куском мрамора, мудрил, отступал на несколько шагов, наклонив голову и высунув язык, и, неудовлетворенный, снова принимался за работу
Куб получился четкий, с зеркальными гранями. Букварь тащил его осторожно, обеими руками. Лед жег ладони.
Букварь добрался до поляны, и солнце заиграло голубой и зеленоватой глубиной ледяного камня. Сначала Букварь хотел остановиться на поляне, а потом решил добраться до вершины сопки. Сам не понял, зачем это было ему нужно.
Букварь выбрал плоский камень, освещенный солнцем, и осторожно поставил на него ледяной куб. Уселся рядом, подмяв траву. Смотрел, как бьют по кубу солнечные лучи и как бегут по камню вниз темные взблескивающие полосы капель.
Чего-то не хватало. Букварь встал и ниже камней, у одинокого кедра, нарвал жарков. Рвал только цветы, без стеблей и листьев. Семь оранжевых шариков легли на холодный, чуть похудевший куб.
Темные струйки ледяной крови бежали по желто-розовому граниту
Два цвета начали бой. Огненно-оранжевый и прозрачно-серый. Лед и пламень. Струек бежало все больше. Камень стал полосатым.
Куб таял, но оставался кубом. Только сверху, там, где горели цветы, лед проваливался, и жарки опускались в воронку с ровными краями.
Тоненькая струйка добралась до сапога Букваря. Букварь тронул ее пальцем. Она не обожгла. Солнце нагрело ее. Или жарки. Жарки лежали на льду, похожие на костер.
Куб съеживался. Как будто ему было холодно. Жарки горели все ярче.
Букварь смеялся. Он лежал у камней на спине, запрокинув голову, глядел в небо и беззвучно смеялся. Кроме этого неба, кроме этих камней, тайги, безбрежной и спокойной, жарков и солнца, похожего на жарки, никогда ничего не было и ничего никогда не будет. И Суздаля не было, и детства не было, и Кешки не было, и звезд над головой, и морозных ночей, и Канзыбы. Все это ему приснилось. Только это небо, и только он, здоровый, сильный, ощущающий каждый мускул, и только добрый и теплый ветер. Ничего не было, и ничего не будет.
– Букварь! Буква-а-арь!..
И эти крики ему снятся. Или это внизу шумят кедры? Или это Саяны потрескивают от удовольствия?
– Буква-а-арь!..
Букварь поднял голову. Чуть влажные снизу жарки лежали на камне. Солнце проваливалось за сопку
– Буква-а-арь!..
3
– А где же хворост? Ты думал, что он растет на горах, да? На границе с Тувой?
Кешка возился у костра, и Букварь не видел его глаз. Движения Кешкины были расслабленные и спокойные, но Букварь знал, что все это – только начало.
– Значит, ты так и не нашел плантацию хвороста? – Кешка все еще не подымал головы.
– Я впервые увидел тайгу, – сказал Букварь. Почему-то все засмеялись. Букварь понял почему: он сказал это торжественно, глухо, словно у него пересохло горло от волнения, и вместе с тем жалко, оправдываясь. И еще потому, что все ждали очередной стычки. Букварь знал это. Отступать было некуда.
– Я впервые увидел тайгу.
– Ничего себе увидел! – промычал Бульдозер. – Мы успели приехать!
Кешка выпрямился. Оперся на палку, которой постукивал по головешкам.
Букварь смотрел на Кешку и видел только губы. Губы у Кешки были розовые и тонкие.
– Ну и как там небо? Все еще на своем месте?
– На своем.
– Висит?
– Висит...
Опять все засмеялись. Даже Ольга. Даже Николай. И ведь Кешка-то не сказал ничего остроумного.
– Висит, значит?
– Ну, хватит!
Букварь рванулся вдруг к Кешке, схватил за ковбойку Готовый врезать. Справа. В челюсть. Стоял резкий, вспружиненный. Кешка снисходительно улыбался, хлопал по-детски ресницами.
Подошел Николай. Отвел руку Букваря. Спрятал улыбку.
– Ладно. Мы так до ночи не управимся. Букварь, помоги с палаткой...
– А чего же он?.. – обиженно протянул Букварь.
«А чего же ты? Ты же сам просил меня не спешить...» Этого Букварь не сказал. Он просто смотрел в глаза Николая. Николай понял. Он все улыбался. Улыбка у него была счастливая.
– Не на шесть же часов, – сказал Николай. Букварь поплелся к палатке.
Палатка стояла недалеко от домика. Углы ее были ненатянутые и мятые, и она казалась лопоухой. Букварь вместе со Спиркиным и Бульдозером стал вбивать колья, натягивать шершавый двухслойный брезент.
– Ставим парус, – сказал Спиркин. Спиркин мог научно объяснить, что такое парус.
Он родился на море. Его отец имел шаланду, полную кефали.
Кешка наловил в Канзыбе хариусов, сорог и бульбанов. Они плавали в большом бачке над костром и благоухали. Ольга, веселая и счастливая, вертелась у костра вся в саже, скакала, оседлав новенькую метлу, и радостно спрашивала, похожа она на ведьму или нет.
Когда ребята уже курили над Канзыбой в ожидании ужина, Спиркин сказал Николаю:
– Вы с Ольгой дом забирайте, а мы палатку.
– Точно, – сделал затяжку Кешка.
– Нет, – сказал Николай, – Ольга одна будет жить в доме.
– Зачем? – вступил Букварь. – Мы все поместимся в палатке. Чего ее стесняться? Она же хороший товарищ.
Все захохотали. Даже Виталий Леонтьев улыбнулся, хотя он был человеком сдержанным.
– Ребят, сейчас он прочтет нам лекцию о том, как ему удалось сохранить невинность, – скривился Кешка.
И когда уже шли к палатке, Букварь услышал, как Кешка, с трудом сдерживая смех, говорил Бульдозеру:
– Надо ему что-нибудь устроить... Устроим ему любовь!.. А!..
...Костер бросал искры в темно-синее небо. Небо стало совсем низким. Оно опускалось переночевать и погреться у костра. Букварь машинально водил колючей веточкой кедра по светящимся углям. Бачок с ухой шумел. Капли выскакивали на стенки бачка и испарялись, успевая пробежать несколько сантиметров.
Букварь чувствовал, как проходит то радостное, счастливое ощущение жизни, которое возникло у него на сопке у таявшего льда. Стало тоскливо. Всегда так! Какой-то глупый разлад. Природа и люди! Душевное равновесие, обретенное в тайге, когда он был один на один с миром, разлетелось, как фарфоровое блюдце, шлепнувшееся об пол. Конечно, он знал, что люди здесь работают обыкновенные, но он представлял себе их иначе и надеялся, что здесь, на стройке, все будет не так. Все было так...
И пристало еще к нему это глупое прозвище – Букварь! Он подумал о прозвище с жалостью к самому себе и даже сплюнул от досады и злости.
Он уже забывал, что его зовут Андрей Колокшин.
И он знал, что прозвище от него не отстанет.
Прошлой осенью, в октябре, когда уже лежал снег, горела ночью на горе Козиной палатка бригады Лавки Алферова. Тридцать километров тащились по тайге до ближайшего жилья на спине трелевочного трактора погорельцы. Три часа тащились. Было их четырнадцать человек. Двое сидели на крыше, двенадцать на щите, вцепившись в металл. Трактор подбрасывал их вверх, когда лез на сопку или через валун. Теплее от этого ребятам не было. Кто-то из наиболее хозяйственных успел вытащить из огня телогрейку и валенки и натянуть их на голое тело. Остальные выглядели пижонами. Сидели босиком, в трусах и майках. Мороз был двадцатиградусный.
На втором часу пути сообразили, как можно греться. Сползали на ходу к концу щита, к выхлопной трубе. Лежали, свесив голову вниз, подставив грудь теплой вонючей струе отработанного газа. Прямо перед глазами летело натянутое белое полотно, кое-где прорванное камнями. Ночная тайга не была уже такой страшной. Менялись у трубы через каждые пять минут. Уползали к своим кускам холодного металла.
После этого рейса у каждого из погорельцев на груди остались полосы солярки. Их пытались стереть разными способами. Пытались в течение долгого времени. Ничего не вышло. В конце концов ребята отказались от борьбы с клеймом «пожарной» ночи. Надеялись, что со временем полосы сами исчезнут.
С прозвищами дело обстоит хуже.
Тут уж никакой надежды нет. Они не исчезнут. Въедаются, как капли солярки, но уж навсегда.
А в общежитии двадцатилетних без прозвища и житья нет. Человек без прозвища – человек без имени. Так повелось. Фамилии и имена записаны во всякие бумажки, их склоняют на собраниях, пишут на досках почета и в протоколах заседаний народного суда. Они надоели. Они нужны обществу как номерок на руке, чтобы не потерять человека среди двухсот двадцати миллионов других.
А прозвище – для души. В них не буквенная формула человека, в них – характер его, даже облик. Одно слово – и сразу поймешь, что это за фрукт. Когда-то, в музейные времена, люди обходились без всяких фамилий. И ничего, жили. А потом гусиными перьями дописали к прозвищам «ов» и «ин», и получились фамилии. Выросли дети и внуки, совсем не похожие на своих предков, и фамилии потеряли содержание. Повести о людях стали бирками.
Преимущества прозвищ перед фамилиями очевидны. Для двадцатилетних. Как очевидны преимущества вкусного, прозрачного, мокрого, пахнущего морем слова «вода» перед сушеной, как вобла, формулой Н2О.
Вот и Андрею подобрали прозвище.
...Все началось в поезде. Поезд тащился четверо суток от Владимира до Абакана. Андрей стоял в тамбуре, приплюснув нос к стеклу. С землей творилось неладное. На нее набросили унылую, ровную-ровную белую шубу длиною в тысячи километров. Кое-где в шубу воткнули худосочные голые палки, которые летом становились березами. На третий день Андрею стало скучно. Неужели Сибирь не могла быть повеселее?
– Это и есть тайга? – спросил Андрей.
Ему объяснили, что это степь, Барабинская, что тайга начнется, когда проедут станцию Тайга, и вообще посоветовали заглянуть в учебник географии. Вопросы, которые Андрей задавал и любому поводу, осточертели ребятам. И когда он задал новый вопрос, ему напомнили, что на свете есть букварь. Для первого класса. «Рабы не мы», «Мы не рабы».
И пошло!
Уже в Курагине, сам того не зная, подлил масла в огонь прораб Мотовилов. Рассказывая новичкам, что к чему, он сказал:
– Вы школы кончали, освоите все быстро.
– А если я неграмотный? – спросил Андрей.
– Если неграмотный, купи букварь.
Ребята захохотали. И Андрей понял: все! Сколько ни крутись, ничего не выйдет.
Теперь он навсегда стал Букварем, хоть метрики переписывай...
И хотя он окончил школу с серебряной медалью, был рослым, здоровым парнем и у себя под Суздалем целый год работал трактористом, на стройке все относились к нему как к юнге на корабле.
Он и сам понимал, что выглядит мальчишкой. Большие синие глаза его смотрели на мир удивленно, словно не могли поверить во все то, что происходило перед ними, и ждали еще чего-нибудь более удивительного.
И свое отношение ко всему, что он видел и слышал, Букварь выражал не спеша и не сразу. Смешило ребят и его «володимирское» произношение, медлительное, степенное и тоже чуть удивленное оканье.
На стройке Букварь открывал многое и часто принимался размышлять. Размышления его уже по инерции считались наивными. Огрызаться он не умел и сразу стал удобной мишенью для Кешкиных острот. Хорошо еще, что он не умел по-настоящему злиться и Кешке не всегда удавалось вывести его из себя.






