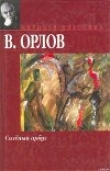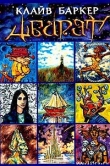Текст книги "Истощение времени (сборник)"
Автор книги: Владимир Орлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но каким знаком? Или знаком чего?
Кстати, к автомобилю сына я выходил, водрузив на спинку моего «законного» стула две свежие газеты. И надо же! Стул не заняли! Между прочим пришла мысль о том, что сын мог бы мне завести хотя бы два каких-нибудь жалких бутерброда или вспоротую ножом банку килек в томате с куском хлеба. Слюни уже текли. Я не завтракал сегодня. Но я не стал серчать на сына. Скорее всего, и у него во рту не побывало нынче и маковой росинки. Да и благоразумное поведение Тимофея призывало к терпению.
А тут прошелестело по Нотариальной конторе: «Хруцкий прилетел… Самолёт с Хруцким вернулся из Крыма и кого-то привёз…» Впрочем, было понятно, кого привёз… Но что могло последовать после этого привоза? Или, скажем, после доставки в Москву кого-то?..
Хотя в Нотариальной конторе будто бы наступило просветление. То есть будто бы исторические страхи, а у кого и надежды стали притихать. Перешёптывания же и просто разговоры начали звучать громче и смелее. Но ненадолго. Снова из-за трескотни забегавших к приятелям в контору зевак от Белого Дома настроение их собеседников ухудшилось.
33
Ни с того ни с сего вспомнились слова из одного великого текста: «…когда наступила полнота времени…»? С чего бы вдруг вспомнились? И ради какой для меня пользы? Выходило, что впустую. Изменить направление моих мыслей они сейчас никак не могли.
34
Услышались вроде бы скрежеты гусениц танков. Но куда отправились сейчас танки, судить никто не решался. Может, во все концы города, наводить порядок. Может, поехали не спеша к пунктам питания и принятия фронтовых сто грамм. Соображение для меня вполне логичное. Примут. А потом вернутся к исполнению поставленных задач. Мне стало жалко и жену, и сына, и кота Тимофея, и себя. Они ведь тоже, наверняка, всё ещё были голодные. Мне болезненно остро захотелось, чтобы Тимофей немедленно оказался у меня на коленях и дружелюбно заурчал. Мне бы стало не так тоскливо, тревожно и одиноко. Но никакими чудесными силами Тимофея ко мне на колени не занесло.
35
Однако теперь безропотное сидение в очереди стало мне противно. Всё вокруг раздражало меня. А тут ещё в конторе начали появляться наглецы, якобы занявшие место в очереди вчера. Или позавчера. Или вообще год назад. Предъявлялись и цифры, будто бы выведенные на ладонях ручкой «ронсон» с золотым пером при последней перекличке (четырнадцать дней назад) необязательных нынче клиентов. Свои опоздания они оправдывали весомыми и уважительными причинами. Мол, виноваты режимы дня и грубые действия стражей порядка. А главное – уличные обстоятельства, заставившие наших новых знакомцев с «ронсоновыми» пятнами на ладонях становиться или жертвами, или проявлять отвагу, и либо вынужденно, либо истинно добровольцами-героями выступить на защиту попираемых интересов народа…
36
Тем более мне хотелось иметь сейчас рядом с собой злого сибирского кота Тимофея с его здоровенными когтями.
37
Я ощутил себя эгоистом. Мне бы на колени опуститься перед героями Отечества и Истории и помочь им сейчас же усесться за стол нотариуса, а я был готов, рискуя потерять насиженное место, броситься на них со стулом над головой, с криками возмущения и с требованием вернуться на оставленные ими беспокойные улицы. А в нашу очередь пусть и не суются. И об этом стыдно вспоминать… Хотя, может, и не так стыдно… Впрочем, воспоминания о надежде на справедливые действия Тимофея мне в поддержку – и теперь приятны. Хоти и смешны…
Словом, плевать мне стало на то, что происходило за стенами Нотариальной конторы! Куда проскрежетали танки, кого привёз самолёт из Крыма, о чём орали у Белого Дома, меня уже не волновало. Главное продлить доверенность – вот в чём был мой интерес, пусть граждански возвышенные люди и назовут его шкурным. А потому со стулом над головой, и забыв об Александре Македонском, – в сражение с наглецами, желавшими посягнуть на мои хлопоты и обременить мне жизнь! В сражение! Впрочем, всё это рокотало внутри меня и не единым звуком выражено не было. Более же открытые и искренние натуры позволили себе звуками и приложением рук дать отпор пролазам и торопыгам…
38
В это время подъехал с проверкой хода нашего дела сын (надо же, прошло полтора часа!). На этот раз организм мой был подкреплён и отчасти успокоен бутербродом с сыром, завёрнутым в промасленную бумагу, и двумя яйцами вкрутую (эти прибыли в полиэтиленовом пакетике). Стул так и не взлетел над моей головой, репутация Македонского не была замарана. Скудно, конечно, но, может, и сыну пришлось подкреплять силы лишь бутербродами из семейных наборов сотрудников.
– Тимофей где теперь? – спросил я.
– Здесь, в машине, – сказал сын.
Стало быть, Тимофей в городской квартире нынче не появлялся, и если всё же появлялся, то на пять минут. Спрашивать о благополучии жены не имело смысла, если бы что-то было не так, сын бы сказал. А он лишь сообщил мимоходом: «Мать со своими журналами в бегах…»
– Так, – оценил обстановку в хозяйстве нотариусов сын, – раньше пяти они с нами не закончат…
– Значит, сидеть мне здесь до пяти… – вздохнул я. – Ноги затекли…
– Пойдём прогуляемся на природе…
Природой мне был предложен всё тот же заросший двор.
– Но часов через пять, – сказал сын, – может всё и закончится…
Однако почти подсохшая тряпка с изображением Янаева всё ещё трепыхалась на ветру. Впрочем, набеги ветра были редкими. Небо избавлялось от облаков. Вспомнился город Горький, конкурс бальных танцев, и мы молодые тогда, я и комсомольский Секретарь Гена Янаев. Сын приоткрыл дверцу «Жигулей». Тимофей дрых в картонной коробке. Кот за годы неизбежной жизни в зимнем городе опробовал немало мест комфортного и независимого пребывания и осознал, что ничего лучше картонной коробки для него нет.
В начале нынешнего текста я вспомнил выражение «Как сейчас помню…». Всё, что описано мною до этих строк, достоверно, эпизод же последующий вызывает теперь и у меня самого сомнения. Хотя он и занял те самые пять часов (почти пять), обещанные сыном, подробности каких следовало бы держать в голове всю жизнь.
Во-первых, я не помню наверняка, были ли отведены к тому времени из города танки. Или нет. Ну, это ладно. Тут знание ничего не меняет. Да и достоверность моих суждений теперь легко перепроверить. А вот то, что дальше произошло с Тимофеем (или хотя бы с его участием), вот это можно было мне представить (предположить) лишь с допуском фантазий или даже видений. Но такова уж моя натура. И я ею доволен и менять в ней что-либо не намерен. И не способен.
Так вот. Тимофей не сразу вылез из картонной коробки. Не только потому, что и со сна желал показать нам себя существом степенным. Покрутиться в коробке, потереться об её углы – доставляло ему удовольствие, и быстро прекращать его было ему ни к чему. Но всё же он что-то сообразил, потянулся, выгнул спину, когтям дал работу и выскочил из коробки. А хвост его сейчас же распушился и поднялся дымным столбом. Молодцом выглядел кот Тимофей. Боевым образцом кошачьих пород! Будто бы от него непременно требовались подвиги. Наиважнейшего значения. И Тимофей прыжком вылетел во двор. Мы с сыном старались остановить его, но благоразумие от Тимофея отстало. Первым делом Тимофей бросился к тряпке с портретом Янаева… Когти его врезались в кирпичи серой стены, словно кирпичи эти были исполнены из паралона. Дом устоял, но покачнулся.
– Тимофей! Тимофей! – криками пытались мы урезонить, успокоить кота, но без толку.
Да и домашний ли кот метался сейчас в мелколесных зарослях запущенного двора, не рысь ли взволнованная здесь объявилась, не амурский ли леопард с белыми лапами? Или и ещё какой неведомый науке зверь? А может – и чудовище?!. Однако моё знание Тимофея явление чудовища исключало. Что-то тут было другое… Но вот зелёные листочки во дворе перестали дрожать. А возле Белого Дома вновь зашумело…
– Ну всё, Тимофея мы больше не увидим, – сказал сын.
А тряпка с портретом Янаева так и не исчезла.
Но висела поникшая…
Тогда-то и стали возникать в моих ощущениях фантазии и видения… А ведь мне ещё приходилось сидеть в очереди к нотариусу. Раздвоения личности не происходило, но была дана работа воображению… Какие картины возникали в моём воображении и какие запомнились? Затанцевал вдруг на моих глазах Геннадий Иванович Янаев. Вот что! Из нижегородского общения с ним я так и не узнал, как он относится к танцам, признаёт ли их ценность для человека и умеет ли танцевать сам. Для меня, кстати, и не исключалось, что моя одобрительная статья во влиятельной некогда газете, знание правил должностных игр подсказывало, могла стать батутной сеткой для подскоков в его молодёжной, а потом во взрослой карьере. И вот он вдруг пустился в пляс. То есть я мог предположить, что он именно должен пуститься в пляс, в отчаянную присядку или даже отчебучить «яблочко». А рядом стоял бы кто-то с балалайкой или аккордеоном. К такому танцу, полагал я, мог вынудить Янаева его характер. А он – нет. Чубчик с цветком над его лбом не вился и вообще выглядел Янаев джентльменом с танцевального поля, правда, в облике (тёмном благонамеренном костюме и синем галстуке) отечественного ответработника. Такой джентльмен не мог пуститься в пляс или черноморским морячком сбацать чечётку. И точно. Геннадий Иванович двигался воспитанным горожанином. Ба-а! Да он сейчас, пришло мне в голову, напомнит о воспеваемом на ТВ изобретении нашей бальной хореографии – «Тер-ри-коне»! Нет, не напомнил. А повёл себя так, будто бы никем не замеченный в памятные для меня дни посещал в Горьком конкурс бальных танцев.
Танец его получался очень странным. И вообще, на какой площадке двигался наш танцор? То ли на кочках в зелени заросшего двора. То ли в воздушных струях вблизи тряпки с его ликом. Но явно было, что усердствовал он (или получал удовольствие) не на плашках фигурного паркета и даже не на дощатом полу деревенского клуба. Впрочем, я очень скоро понял, что подиум для движений привидевшегося мне танцора не должен меня занимать. И то обстоятельство, что фигура его моментально распузырилась и головой переросла флигель, не должно было стать для меня важным. Всё так и обязано было происходить. Не известно, зачем…
39
– Так, так, так… – юрист изучал мои бумаги. – Ну с вами мы закончим быстро… Но вы не смотрите в бумаги…
– Извините, – встрепенулся я. – Устал сидеть без дела. Да и день сегодня в городе нервный.
– Ну, он уже не нервный, – сказал нотариус. – От Белого Дома люди начинают расходиться…
40
Было сказано: «А когда наступила полнота времени…». Услышано мною в один из Рождественских дней.
41
Полнота времени.
42
А в каком же времени, извините, мы болтаемся? Во времени, лишённом Полноты? В истощавшем времени? Во времени Истощения? В тощем времени? В тошнотворном? Более точное определение стоило присмотреть. Или подобрать. А может время и вовсе пропало… Не удостоило своим присутствием людей нескольких поколений? Незабвенный симбирский отличник с фальшиво-больными зубами симулянта-конспиратора в сумерках выстрела крашенного в серое линкора ехал в трамвае. То есть трамваи в Петрограде ездили, а никакого времени уже не было… И теперь отслужившие в Швейцарии часы на запястьях подгоняли стрелки, а где-то кукушка выскакивала из дверец ходиков, но времени не было… Надоели мы ему… Все ему опротивели… Но тощее-то время, может, всё же где-то и задержалось? В истощённом-то времени и мог разрастись и затанцевать Геннадий Иванович Янаев. И мог броситься за ним в охоту, ощутив необходимость стать гигантом, кот Тимофей, зря, что ли, его завезли в город с танками!
Но разве я видел, как Тимофей, сумевший превратиться в великана, бросился вдогонку за Янаевым? Нет, не видел. Мне и мысль о Тимофее-великане только что пришла в голову. Я и танцующего Янаева не видел, а вообразил… И вряд ли заросший двор на Красной Пресне мог обладать свойствами каракумских барханов, да ещё и способными создавать мгновенные миражи.
43
Как и предполагал сын, в пять часов доверенность нам выправили.
– Довезти я тебя могу только до угла Зала Чайковского или до «Софии», – сказал сын, – Тверская у нас сейчас пешеходная… – Зал Чайковского и «София» меня вполне устраивали.
Перед тем как покидать Красную Пресню, мы, конечно, попытались отыскать кота Тимофея. Хотя и понимали, что толку не будет.
Кричали, топтали кочки и земляные бугры двора, трясли тонкие стволы деревьев, взывали к разуму кота, случалось, и запугивали Тимофея, обещая ему кошмары зимней городской жизни, да ещё и в условиях истощённого времени (последнее не произносилось).
Не откликался Тимофей. Может, он уже и сгиб.
– Больше мы его не увидим, – повторил сказанное часами раньше сын.
44
В половине шестого я оказался на улице Горького.
По дороге к площади Маяковского танков я не заметил.
Я выбрался из машины на асфальт мостовой очумевшим. И люди, находившиеся вместе со мной на полупустынной улице, казались мне очумевшими. Шуму они производили мало (зато всюду гремели уличные громкоговорители, несли с небес вести о новых богах) и будто бы брели куда-то, ещё не осознав произошедшего и не сбросив с себя напряжения и страхи дня. Впрочем, встречались и крикуны, торопыги-победители, с флагами, уже обозванными, по причине провинциальной неграмотности, триколорами. Эти походили на нынешних футбольных фанатов. А вот мне, как и другим очумевшим, оказались полезными возникшие не только на тротуарах, но и на мостовой лотки, а то и просто пластиковые столы, добытые, наверняка, в точках здешнего общепита. Еды на них не было. А пластмассовые стаканы, как и сосуды с белым крепким напитком предлагались без ограничений. И бесплатно. Неизвестно от чьих щедрот. Но чувствовалось (и из застольных реплик, в частности), что щедроты эти – не сиюминутные, а вызрели заблаговременно и ожидали сроков своего проявления. Вкушать бы да вкушать, ради обретения душевного равновесия, халявные угощения, но я не расположен к халяве, да и водка оказалась тёплой, и можно было окосеть.
Жили мы в Газетном переулке, и в сторону Красной Площади я направился. Уверенности в том, что в холодильнике у нас дома от голода и тоски не сдохли тараканы, не было никакой, и следовало поспешать в Столешников или Камергерский переулки. Уже в семь вечера можно было уткнуться в закрытые двери доступного для москвича среднего достатка заведения. Таковы были нормы жизни той поры… Быстрее было дойти до «Ямы» (или «Ладьи») в Столешниковом. В надежде на то, что пивная в Столешниковом, несмотря на вывихи истории, сегодня всё же работает.
45
И ведь работала!
46
Правда, открыли её всего лишь час назад. Когда люди, галдевшие возле Белого Дома, стали расходиться. И когда кот Тимофей унырнул в политическую жизнь.
47
Знакомые, сумевшие добраться до «Ямы» раньше меня, сразу же принялись обогащать меня историческими сведениями. Под аркой во двор «Ямы», на углу Столешникова и Большой Дмитровки, оказывается, ещё совсем недавно стоял танк (вот вам и мои сомнения по поводу танков!), хотя, может, это была и самоходка, с пушкой, нацеленной на резиденцию градоначальника. Слава Богу, не стреляла. А могла… Вновь прибывающие в «Яму», промочив горло двумя-тремя кружками пива, не могли не поделиться историями своих подвигов в последние три дня. Выходило, что их усердиями и решительными действиями (по совокупности) были обезврежены не менее ста боевых машин, урезонены тысячи ретроградов и возобновлены хоровые исполнения государственного гимна. Я ощущал себя чуть ли не дезертиром, во всяком случае – никчёмным обывателем, уклонившимся от переживаний народа ради дачного благополучия, а сегодня – и ради частного интереса в очереди к нотариусу. Мне стало неловко, неловко было и участвовать в разговорах, то и дело сползавших в политику и гадания высших свойств, долго я стоять в «Яме» не смог. Тем более, что пиво в «Яме» было, а закуски – никакой. А стало быть, надо было нестись в закусочную в Камергерском переулке, тогда ещё Проезде Художественного Театра. И там я, конечно, повстречал знакомых. Среди них было немало служителей муз из здешних театров, не занятых нынче в вечерних спектаклях. Возможно, все они наговорились на репетициях, а потому, если и обсуждали события дня, то коротко и будто бы без всякой охоты. А вот спекулянты билетами и учебниками, частые посетители закусочной, судачили о пережитом всезнайками и философами на уровне «Ганди едет в Данди…». Но их можно было не слушать, цену каждому из них я знал. Рыбная солянка была хороша, за пять минут я убрал две порции. Готов был и на третью, но меня устроила и тарелка только что отваренной картошки с ломтиками малосольной каспийской сельди. Обслуга закусочной была рада своим сидельцам, возобновлённым запахам ожившей кухни, кассирша Люда рассказала мне, как надоел им трёхдневный простой. И им – в радость с увлечением и шиком накормить и напоить гостей. Что и было прочувствовано моим благодарным организмом. А сто пятьдесят граммов водки показались мне лекарственной необходимостью. И было замечательно, что камергерский напиток – прохладен, не имеет отношения к халяве и не преподнесён мне чьими-то неведомыми щедротами неизвестно по какой причине… Но можно было в комфортах жизни и задремать. Нет, задремать было нельзя. Требования общепита вынуждали через полчаса закрыть закусочную. До дому в Газетном (Огарёва) идти было семь минут.
48
Жена успела вернуться домой. Но убедившись в том, что со мной – полное благонравие и благополучие, что я сыт, а усы мои достаточно мокрые, и нуждаюсь я в тихом отдыхе на диване, она сразу же вознамерилась вернуться к своим журнальным хлопотам, в её офисе начинались съёмки фотомоделей в ближайший номер, и по её разумению, присутствие её на съёмках было обязательным.
– Я рад, что с тобой всё нормально, – пробормотал я. – А вот Тимофей…
Жена присела.
А я тут же пожалел, что вслух вспомнил о Тимофее.
Тимофей был так же дорог жене, как мне и сыну. Пожалуй, её переживания сейчас были острее наших. И никакие слова были теперь не нужны.
Жена уехала на съёмки… Был тогда, по воле обстоятельств, в её распоряжении розовый «мерседес»…
49
В благодушии я задремал. Что-то полезное для семьи я должен был сегодня сделать. И сделал. Вытерпел и сделал. И ещё что-то нынче происходило и произошло. Но что? Ага! На моих глазах (но на глазах ли?) танцевал Геннадий Иванович Янаев. А потом за танцором погнался огромный кот Тимофей…
50
Мне бы ухнуть в сон, а я не мог отцепить от себя мысли о танцующем Янаеве…
Но с чего бы вдруг в моём воображении Янаев принялся именно танцевать? Не из-за того ли, что я не мог забыть командировку в Горький? Ерунда какая-то! Я помнил и о других командировках с рискованными (для меня) расследованиями «резонансных», как говорят нынче, дел, куда более важных, нежели нравы и вкусы на танцплощадках. Знания сущности Янаева, энергетических и целевых свойств его натуры у меня не было. Имелись лишь кое-какие предположения… И можно было посчитать, что танцы ничего особенного в жизни Янаева не значили. Так, какая-то сотая составляющая его личности и судьбы. А может и вовсе никакая. И «Лебединое озеро» задвигалось на экране вовсе не по его повелению. И однако… И однако в моём воображении он затанцевал. Но это же в моём воображении! В моём! Хотя, конечно, в нынешней исторической ситуации (опять задергалось во мне – полнота времени, истощённое время, худое время, исхудавшее время, черти чего!) логичнее было бы создать мне иной символ происходящего. И ставший великаном кот Тимофей в символы событий отощавшего времени никак не годился… А что годилось? Правду о том, что случилось в тёплые августовские дни и кто истинно и ради чего верховодил в те дни, я не знал (и сейчас не знаю!). Но житейский опыт подсказывал мне, что Янаев одним из верховодов и уж тем более главным верховодом пережитых нами тогда событий (может, и до сих пор ещё не пережитых) быть не мог. Не той мощи и не той хитрости натура. И у Тимофея будто не было причин злобиться на Янаева и бросаться за ним вдогонку. Тем не менее моё воображение создало символами событий танцующего Янаева. И разбушевавшегося кота Тимофея. А изменить как-либо картинки моих видений я не мог.
«А-а-а! – подумал я. – Истощённое время! Исхудавшее! Чего ожидать, коли полнота времени утеряна? Если только смут и бестолковщины? Ну, ещё и низких дум и осуществления подлых желаний».
51
Утром сын отвёз меня на дачу. Раньше было уже сообщено, что дачей наш сад-огород можно было называть лишь условно. Но в городе мне сейчас делать было нечего.
52
На крыльце кухни сидел смирный кот Тимофей, на мой пристрельный взгляд, совершенно не пострадавший в одурениях чрезвычайного положения. Бурной радости проявлено не было. Ни нами с сыном. Ни котом. Тимофей вообще не был склонен к шумным выказываниям чувств. Ну, если только позволял себе громко пожурчать, пригревшись к боку хозяйки. А в нынешнем случае – что? Ну, совершил путешествие. Благополучное. На то он и кот… Пожалуй, слишком стремительное путешествие. Ну и опять же – что? На то он и способный и решительный кот. К тому из Москвы вчера улетать надобно было, а не путешествовать. И никакой мистики. На том мысленно и сошлись. А потому и разрешили себе поворчать. Поводом для ворчаний были продукты питания. А именно мясо и рыба, лучше бы рыба хек. То есть в спешке еду коту мы не привезли. Ворчания наши были разных свойств. Тимофей опустил хвост. Ему, убеждён, было обидно и голодно. Нам с сыном было стыдно. Будто бы мы Тимофея предали. Будто бы уже и не держали в головах ни малейших надежд на встречу с бросившимся вдогонку за Янаевым котом. А ведь держали… Конечно, можно было вспомнить о суеверии, и суеверием оправдать себя… Но это сейчас ничего не меняло. Сыну требовалось сейчас же возвращаться в Москву. Соседние магазины стояли пустые. В Москве мы сунули в багажник пакет из холодильника с недельным «писательским» заказом (очередь по талонам в подвале «Диеты» на Горького). В заказе выдали (жена стояла) килограмм гречки, пачку длинных макарон, банку горбуши, банку сайры, пачку чая со слоном, кофе растворимый, бутыль подсолнечного масла и… И – самое сейчас существенное! Цыплёнок по рубль семьдесят (тоще-синеватый) и полтора килограмма грудинки с довеском (кость). Цыплёнок и грудинка должны были решить проблемы Тимофея (мне же стать основой для супов). Но ненадолго. У меня же имелись запасы риса и картошки (молодой!), а грибы в лесу не переставали расти. Грудинка и цыплёнок были явлены на глаза Тимофею. Кот свой хвост в пистолет не превратил, глядел на нас уже сидя и будто бы с удивлением.
– Да, – произнёс сын, – придётся нам с матерью завезти вам продукты хотя бы на неделю.
Слова эти были обращены ко мне, но смыслу их полагалось дойти и до Тимофея. Конечно, в них случилась и бестактность – «придётся нам», однако не они, наверняка, раздосадовали Тимофея. Теперь он встал. Возможно, выругался. Матерные слова он несомненно знал. Хвост его вырос и распушился. Тимофей сошёл со ступенек кухни и неспешным шагом направился к южному штакетнику забора.
Далее была берёзовая роща. А за ней – лес.
53
На нас он, естественно, не взглянул.
– Забаловал, – покачал головой сын.
54
Однако через три дня «придётся нам» было забыто. Жена с сыном не выдержали, отбросили свои наиважнейшие дела, накупили машину продуктов и прикатили на дачу. За меня и за состояние моего желудка они (и по справедливости) были спокойны, волновала их жизнь Тимофея.
– Ну, где наш Тимофей? – сразу же спросила жена, выбравшись из машины. – Тимофей! Тимофей!
– Его здесь нет, – сказал я.
– И где же он?
– А я знаю? – чуть ли не рассмеялся я. – Он нам ни о чём не сообщал. Ушёл и ушёл.
– Так с того дня и не появлялся?
– Это разве срок? – попытался я успокоить жену.
Сообщение о доставленной из Москвы еде отклика не вызвало. Возможно, высказано оно было недостаточно громко и недостаточно вкусно. А может, и недостаточно нравоучительно. И ничем не пугало… Московские труженики провели на даче ночь, утром отбыли в столицу, подбодрив меня словами: «Как мы тебе завидуем! Пожить бы сейчас на природе. Отдохнуть и успокоиться…» Я почувствовал себя виноватым и пробормотал невнятное… О Тимофее разговора не было. Косвенно относящейся к нему можно было посчитать заботу о сохранности привезённых продуктов. Жена повелела (ну, скажем: порекомендовала) не допустить порчи их, мол, добыты с напряжениями. «Не учи учёного!» – только и мог пробормотать я. Жена знала, что ничего из добытого с напряжениями в магазинах у меня не пропадёт и не испортится. Могла бы и помолчать. В ту пору я любил проводить кулинарные опыты на кухне. С импровизациями. Резкость и резонёрство жены я мог объяснить лишь её нервным состоянием. Понятно, что из-за паршивца Тимофея…
55
На следующий день начались мои усердия на кухне. Для начала сотворил борщ (ушло пять часов), крутил и жарил котлеты. Безветрие помогало концентрации запахов, и кухня наша очень скоро стала устойчиво-призывно благоухать на весь посёлок. Полагаю, что и в лесу было куда направить внимание ноздрей.
56
Призывы кухни оказались напрасными. Тимофей не объявился дома ни вечером, ни ночью, ни в последующие дни. Ну, ладно борщ. Борщ, даже и с густым наваром, мог его и не волновать. Но запахи котлет-то и жареного мяса! А? (А я мог предложить Тимофею ещё и рыбу хек.) Нет, ничто блудного кота к возвращению в хозяйский дом не приманивало. Неужто Тимофей так хорошо изучил жизнь белок, улиток, птиц, что решил обойтись ягодами и грибами?
57
Ну, стервец! Только явись к нам на крыльцо кухни!
58
Не явился…
59
Мало ли, конечно, что… Всякое случается… Но я был убеждён, что Тимофей жив. Мог бы добавить, что и здоров. Но удержался. Уходы Тимофея в лес, а то и в соседние посёлки к драмам приводили редко. Выше было сказано о разумности Тимофея. Разумный-то он был разумный, но и цену себе знал. И даже, наверняка, получал подтверждения своей цене (или силе). Его уважали. Приходилось наблюдать встречи на узеньких улицах посёлка Тимофея с существами, способными лапой его пришибить или разорвать в клочья. Помню, как однажды в пятницу мы прогуливались с Тимофеем в ожидания приезда москвичей. Из-за угла Призаборной улицы вышел дальний сосед, отставной полковник Тягунов в компании со злым, как поговаривали, псом Кордильером (без ошейника), из немецких овчарок. И для меня общение с Кордильером вряд ли было приятным. Тимофей взглянул на меня, и ему было понятно, что в случае чего, экстренного, на мою, двуного самца, без клыков и когтей, помощь рассчитывать было бессмысленно. По правилам поведения животных в нашем Садово-огородном товариществе коту следовало первым делом найти щель и унырнуть под чужие яблони и в кусты крыжовника. Тимофей ни в какую щель (а он знал их все) уныривать не стал. И так они прошли друг мимо друга, не допустив и малейших проявлений недружелюбных чувств. Молчаливое присутствие при этом Тягунова и меня ничего не меняло… Правда, иногда Тимофей возвращался из своих экспедиций с травмами. То с мордой в крови и заплывшим глазом, то хромая на две лапы (запрыгнуть на диван не мог), то просто обессиленный драками с неизвестными нам врагами. О сюжетах происшествий с Тимофеем судить мы не брались. Конечно, волновались за него, но полагали, что всё с ним обойдётся. И обходилось. Отлёживался Тимофей по нескольку дней, отсыпался, раны зализывал и вставал на ноги. При этом отыскивал какие-то полезные для себя травы.
Лишь однажды Тимофей заставил нас испугаться. Пришлось везти его в Москву. Да что там – испугаться! Ужаснуться! И поверить (хотя бы на несколько часов) в неземное происхождение нашего домашнего животного. И в неземной его смысл.
60
Началось всё песенно: «к нам приехал на побывку генерал, весь израненный, он жалобно стонал…» Ну, не генерал. Ну, не приехал. И не на побывку. А Тимофей вернулся домой из очередного приключения. И вёл он себя на этот раз непривычно. Лежал, двигаться не пытался. Ощущалось в нём унылое безнадёжье. И он именно стонал, чего раньше с ним не случалось. То есть это я признал несмолкаемые звуки Тимофея стоном. И никаких видимых ран у кота мы не обнаружили. Скорее всего, какая-то злобная скотина, из людей, отбила коту внутренности. Дальше пошло хуже. Тимофей начал приподниматься, как бы вытягиваться, точнее вытягивать шею, голову запрокидывал, стараясь смотреть в потолок. Тут-то мы и заметили, что глаза Тимофея стали затягиваться белёсой плёнкой. Плёнка эта, видимо, и заставляла кота задирать голову, чтобы хоть с помощью щелей в плёнке что-нибудь углядеть в реалиях бытия. Но эти мысли были быстро выветрены иными ощущениями. Тогда-то я и вздрогнул. Какие уж тут реалии бытия! Никакие реалии бытия для Тимофея сейчас не существовали, он обращался к Космосу. Понимание этого было мне недоступно.
Кого он старался вызвать ради спасения. К кому обращался?
61
Или – в отчаянии – к Высшему Существу. Или же – к порождениям неземным, возможно, что и искусственным, но Тимофею родственным. Звук, который был признан мною стоном Тимофея, прекратился, и от этого во мне возникла некая необъяснимая жуть. Тимофей был теперь вне нас. А где? В тот мир, где пребывал он теперь (или куда пытался вернуться?), проникнуть я не мог. Возможно, стон его (якобы стон) был заменён сейчас неслышимым для меня, но необходимым Тимофею способом общения. Опять же – с кем? Не отвечу. Не знаю. Непостижимость тайны и сути Тимофея леденили меня страхом непостижимости сути Вселенной.
62
В городе не видишь и не чувствуешь Неба. Да и в суете дачной жизни в выходные не до Неба. Если ты не философ и не астроном. Впервые я со вниманием взглянул в Небо школьником в Яхроме. Ходили мы с дядей поздним вечером с вёдрами за водой из колонки у нижнего пруда. Дом наш стоял на горе. Закрепив полные вёдра, присели у соседской завалинки отдохнуть. Дядя Саша закончил математический факультет дореволюционного МГУ. Там всерьёз изучали астрономию. Небо было чистое, томно-августовское. Дядя Саша и предложил мне разглядеть звёзды, называя при этом их имена. Поначалу я смотрел и слушал с интересом, даже с воодушевлением, но вдруг, в одно мгновение на меня навалилась вся тяжесть Неба, вся тяжесть Мира, вся бесконечность Вселенной, какую (и по разуму моему, и по значимости моей во Вселенной) не дадено было мне разгадать. И звёзды, число которых неведомо, и ведомо никогда не будет, стали казаться мне глазами необъяснимого, глазами вечности, направленными на меня и будто бы желающими выяснить, что есть во мне и зачем я. А выяснив, тут же втянуть меня с яхромской завалинки в свои незаполнимые глубины. От встречи с бездной Мироздания мне стало не по себе. Страшновато стало. Позже на открытых пространствах я старался подолгу не смотреть в Небо…