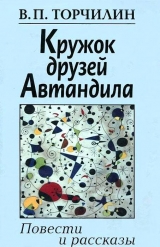
Текст книги "Кружок друзей Автандила (Повести и рассказы)"
Автор книги: Владимир Торчилин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– Хватит болтать! Даешь поэтов!
Мелковатый быстро дематериализовался. Чередой пошли поэты. Увы, с тем же эстетическим и эмоциональным результатом можно было продолжать слушать начавшего вечер недомерка. Какая там высокая поэзия, какой там скандал! – ни единого живого слова не доносилось со сцены. Нечего было слушать, не о чем было скандалить. Я ловил себя на том, что перепутал если и не век, то уж год, во всяком случае. И дурными словами крыл втихомолку так неудачно подвернувшуюся под мой взгляд афишу с «Кропоткинской». Читали, в основном, невнятную гражданскую лирику с упором на перековку, перестройку, избавление от попутчиков и борьбу с привилегиями,[14]14
Поскольку перестройка и борьба с привилегиями в России дело традиционное, то для датировки ценность этой информации сомнительна.
[Закрыть] а на записочные и исключительно похожие друг на друга вопросы из зала отвечали такими заезженными и многократно прочитанными в разнообразных мемуарах словами и остротами, что мне становилось неудобно даже не за них, а за себя, что такое слушаю.
Зал не то, чтобы страдал, но как-то отходил от читающих. Гул посторонних разговоров, которые вели между собой сидевшие на соседних – а иногда и не только на соседних – местах слушатели, непрерывно нарастал, так что через некоторое время представлялось возможным разбирать читку только наиболее громкоголосых служителей муз. Остальные в течение положенного числа минут беззвучно открывали рот в насмешливое урчание зала и, получив некоторое количество аплодисментов – добрый у нас даже после всего народ, что и говорить! – исчезали в боковую дверцу, которая тут же выпускала нового выступающего. Разницы между мелкокегельными и крупнокегельными выступающими не было видно или, точнее, не было слышно решительно никакой. Минутное оживление настало в зале только когда невысокая, в лаковых сапожках под колено, черном свитере и с длинными бусами поэтесса, сообразив, что ее слабый голосок не проникает в совершенно раздухарившийся зал далее первого ряда, и еще не будучи, по-видимому, достаточно закалена подобными выступлениями, от обиды расплакалась.[15]15
А это, похоже, вновь 60-е годы просунулись, поскольку больно уж поэтесса эта молодую Ахмадулину напоминает.
[Закрыть] Плача ее не было слышно, как до того не было слышно и ее текстов, но лицо ее перекосилось в такой совершенно очевидной гримасе, что зал решил считать это за мелкий скандал и потому хлопал ей дольше, чем кому бы то ни было до нее. Да-с... Именно так...
Очередным видением перед уже довольно раздраженно ворчащим залом возник некий тип в военном кителе без погон и в этой, как ее... ну, не в буденновке, но тоже нечто конное... впрочем, неважно. А важно то, что достаточно мощным и потому хорошо слышным даже на моей верхотуре голосом он с назидательными подвывами под видом интимной лирики, которой явно жаждал стосковавшийся по доброму слову народ, начал излагать кое-как зарифмованную чудовищную пошлятину по поводу опасности преждевременных половых связей, в результате которых доверчиво отдающиеся девушки в интересное положение попадают довольно быстро, а вот замуж, совершенно наоборот, могут не попасть и вовсе, хотя и пытаются прямо по горячим, так сказать, следам вырвать у партнера некие обязательства. Но партнеры тоже не дураки, а посему, получив свое, отводят глазки и скромно не говорят ни да, ни нет. В общем, кошмар.[16]16
Старик ходил по поэтическим вечерам еще и в 60-е. Иначе как бы запомнил Асадова с его: «Как только разжались объятья, девчонка вскочила с травы...» и так далее...
[Закрыть]
Я, как сейчас помню, решил подождать еще одного выступающего и, если по-прежнему в зал будет поступать все та же чушь, да еще и без малейшей приправки скандала – хотя, может, я уже и подзабыл чего, и скандалы в этом зале закончились лет за десять, а то и за двадцать до того вечера, но не в этом дело – тогда безоговорочно уходить. Уйти, однако, пришлось несколько раньше, и виной тому была толстая угреватая реалистка... пардон, ремесленница, втиснутая в деревянное кресло слева от меня. Стихотворение на темы половой морали еще звучало крещендо, когда я ощутил некое движение над своим левым локтем и, скосив на секунду глаза, увидел, как пухлое розовое лицо собирается в плачущую гримасу, укладывая прыщи в стремительно возникающую на нем сеть складок и морщин, а из ее правого, видимого мне глаза вот-вот должна выкатиться и тут же затеряться в пересеченном ландшафте первая слеза. Случайную мою соседку жалостное стихотворение пронимало до души. И не успело последнее слово стиха дозвучать в зале, как в тот еле заметный момент тишины и молчаливой неуверенности, что всегда возникает перед аплодисментами, вонзился какой-то утробный коровий голос несчастной девицы:
– Как с мине списано!
И она разрыдалась. Многие обернулись посмотреть на так громко и своевременно заявившую о себе героиню стихотворения, в результате чего аплодисментов автору досталось заметно меньше, чем он рассчитывал. Тут я понял, что вечер решительно не удался, и начал пробираться к выходу.
VII
Почти у самой двери, выводившей из потного зала в прохладу широкой лестницы, я чуть не столкнулся с довольно высоким, в беспорядочной шапке волос парнем, с некоторой несвоевременной вычурностью одетым в длинное черное пальто с обмотанным вокруг шеи и ниспадавшим и спереди и сзади чуть не до колен бесконечной длины белым шарфом. Тоже мне, Бруммель![17]17
О, это сильно! Знать Бруммеля! Мощный старик. Все-таки, не в Лондоне вырос, где основоположнику и мэтру дендизма даже памятник поставили. А на русском только и была тоненькая книжонка дореволюционная «Бруммель и дендизм» – вот и все, старик же знал с полной естественностью... Сам, небось, дендировал, пока можно было...
[Закрыть] Парень шел напролом, никого не видя, размахивая длинными руками и довольно громко бормоча что-то себе под нос. Отдельные слова из этого бормотания можно было разобрать:
– ...позор!.. стыд!.. профанация!.. ничего святого!..
Такая реакция на вполне обычную чушь, особенно вкупе с неадекватным в те далекие дни требованием святого, меня заинтриговала, и, поддаваясь неожиданному велению своего демона, я с некоторой аффектацией и достаточно громко для того, чтобы наверняка быть им услышанным, заметил:
– Боже мой, как такую пошлость можно выносить дольше пяти минут!
– Больше пяти!? – немедленно обернулся ко мне словно бы даже ждавший подобной реплики парень. – Да как это вообще возможно выносить! Это еще и уродство!
– Да уж, – охотно согласился я, – красоты я там не разглядел ни грана!
– Значит, вы понимаете? Должно быть просто и красиво! Просто и красиво! И много ли для этого надо?
– Конечно, – попытался соответствовать я. – Всего три качества потребны для красоты: целостность, гармония и лучезарность![18]18
Именно такие компоненты красоты перечисляет Фома Аквинский, а Джойс поминает их в «Портрете художника в юности». И опять вопрос: положим, Аквинского автор мог читать в любое время, была бы охота, а вот «Портрет художника...» в русском переводе появился куда позже... Впрочем, может, он его в подлиннике читал.
[Закрыть]
– Что-что? – недоверчиво переспросил парень, благополучно избежавший, видимо, в своей жизни встречи с Фомой Аквинским, равно как и с Джойсом. – Какая лучезарность?
– Ну, так, вообще... в высоком смысле... – я неопределенно воздел палец вверх.
– А... – неожиданно успокоился парень, – вот именно!
Мы вышли из зала и как-то само собой побрели по быстро пустеющим окрестностям... Случайный мой знакомец продолжал теоретизировать.
– И люди ходят, толкаются в очередях, тратят свои кровные, убивают вечера – и все это ради того, чтобы слышать все ту же пройдошливую обойму, присосавшуюся к дефициту прекрасного в нашем мире и жиреющую на этом самом дефиците не по дням, а по часам! Что они скармливают слушателям – похабень про соблазненных школьниц, дозированную критику злоупотреблений властью и псевдоактуальную переложенную на современный лад эзоповщину вкупе со лживой тоской по березовым ценностям! Называя поэзией вымученные в предвкушении иудиного гонорара сочинения на заданную тему! И все это при том, что есть люди, не входящие в их псевдопоэтическую тусовку, но создающие прекрасность не лживую, а настоящую...
– А вы сами что, пишете? – уместно перебив, поинтересовался я, вроде бы услышав в его замечании нечто личное и в полной уверенности, что ответ последует положительный и следующий час мне предстоит слушать непризнанные вирши какого-то, судя по всему, изысканного содержания, что отчасти могло бы и скомпенсировать так неудачно организованный вечер.
– Я? – он саркастически усмехнулся, и свешенный на его спину отрезок белого шарфа при этом описал в воздухе некую затейливую и даже как бы не зависимую от владельца презрительную кривую, причем презрение это было явно адресовано мне. – У меня слишком хорошее ухо и развитой вкус, чтобы позориться даже наедине с самим собой! Нет, я не пишу! Я читаю! Читаю и ищу или, если вам угодно, ищу и читаю, находя среди выплеснутого на книжные прилавки потока стихотворных помоев то, в чем еще можно узреть искру Божию! Или даже, как сегодня, хожу на эти публичные издевательства над хорошим вкусом и здравым смыслом в надежде что-то такое услышать... Но увы, вы же сами слышали... Нет, лучше искать по прилавкам!
– О-о-о! – протянул я с озадачившей меня самого уважительностью. – Ну и как, находите?
– Нахожу! – с гордостью ответствовал белошарфовый незнакомец. – К счастью, пока нахожу! Вот тут последнее время мы с еще несколькими придерживающимися моих взглядов друзьями буквально зачитываемся Автандилом! У него все – и музыка, и техника, и смысл, и красота...
В этот момент мы, пройдя по Мясницкой мимо сто двадцатого книжного, витрины которого были уже погашены, свернули налево, к Кузнецкому и приближались к изнаночной стороне главного здания Лубянки.
– Кого-кого? – переспросил я. – Автандила? Это что-то из Руставели?[19]19
На всякий случай, Автандил – герой «Витязя в тигровой шкуре», но это все и так знают.
[Закрыть]
– Из кого? – Парень, похоже, с «Витязем» тоже не сталкивался. – Я же сказал – Автандил! Вот видите, вы тоже не слыхали, хотя вкус к настоящей поэзии у вас, похоже, есть. Так и живем, не зная лучшего...
– Да, – виновато согласился я. – Как-то не попадался...
Парень резко затормозил, задрал голову к небу, и понеслись, эхом отскакивая от лубянского лабрадора, слова:
Звеньевая, стройный стан твой узок
И не может быть не таковым,
Потому что сеешь кукурузу
Методом квадратно-гнездовым...
– Ну как? – он опустил голову и требовательно смотрел на меня. – Ведь это и есть то самое «просто и красиво», о котором мы только что говорили! И какая точность в каждом слове! А рифмы, рифмы!
Он даже застонал от восторга перед блистательным даром Автандила.
– Да-а, – озадаченно протянул я, – это совсем другое дело...
– Вот именно – другое! И вообще – дело, а то, что мы слышали сегодня, даже и не ремесленничество, а так...
И он выписал рукой нечто совершенно брезгливое...
Некоторое время шли молча, но у чуть подсвеченных витрин Книжной лавки писателей, на которых заботливой рукой продавцов был разложен разнообразный занимательный антиквариат, в голове моего спутника снова что-то щелкнуло, и, приняв позу памятника, он громко зачел, размашистым жестом указав на витринное стекло:
Старинных книг виньетки и заставки
На Дом художника глядят из Книжной лавки...
Поскольку практически напротив Лавки действительно находился один из выставочных залов Союза художников, спорить с этим стихотворным утверждением не приходилось.
– Что, тоже Автандил?
– Ну, – прозаически буркнул чтец, – естественно!
Мы уважительно помолчали, без спешки подходя к набережной Неглинки.
– А давайте-ка я вам кое-что почитаю, – не так уже неожиданно предложил мой поэтический незнакомец, которого явно распирало, – из Автандила, естественно...
– С восторгом послушаю, – ответствовал я безо всякого восторга в голосе, но он на мои интонации внимания уже не обращал.
Убей меня Бог, чтобы я вспомнил хоть слово из всего с восторгом зачитанного им тогда, хотя позднее наслушался и даже назапоминался этого Автандила, можно сказать, по самую завязку и даже сам приложил руку к появлению некоторых апокрифов, но об этом речь впереди... Да я, в общем-то, в слова и не вслушивался, помимо собственной воли заворожившись разом всей сложившейся ситуацией – мутноватой московской ночью, ночной улицей со всеми положенными фонарями и даже аптекой на противоположной стороне Кузнецкого, бормотанием Неглинки, грязной луной, дымком костра и холодком штыка патруля, безразлично толокшегося на углу Пушечной, и, главное, искренним, хотя и несколько экзальтированным восторгом чтеца.
VIII
Так мы и стояли у парапета под скудным однообразным светом безразлично желтевших где-то под самым небом осенних московских фонарей. Далеко внизу прерывисто шлепала о каменные глыбы надежно укрепленного берега катившаяся с вершины растворенного в темном небе холма Неглинка, и шум ее странно соответствовал ритму вырывавшихся из перекошенного восторгом рта моего странного знакомца вместе с капельками экстатической слюны строчек неведомого мне до тогдашнего вечера Автандила.
Как это часто бывает, особенно в разговорах о прекрасном, именно в разговорах, которые возникают, если у вас есть желание не только говорить самому, но и слушать собеседника, а не в тех взаимно глухих перебранках, проистекающих из раздражительной привычки спорить просто из нечистой страсти к самому процессу спора, – чего там под одну гребенку разное сводить, когда Бог и пальцев не уравнял! – да, как это часто бывает среди тех, кто не чужд высоким материям, неукротимый энтузиазм одного, то есть, моего ночного собеседника, пусть даже и не полностью пока разделенный мною, не оставил меня равнодушным. Это было, как нечаянное, дошедшее еще только до кожи, а не до души, но уже состоявшееся прикосновение идеала. И я почувствовал, как холодное крыло восторга прошуршало у меня по спине, оставив за собой легкое покалывание вдоль позвоночника и бисер ознобного пота под лопатками. Мочевой пузырь мой мгновенно переполнился, как не раз бывало со мной при гармонических звуках рифмованной речи. Пробормотав еле слышное извинение, перебившее, все-таки, волнообразные подвывания почитателя Автандила, я повернулся к решетке набережной. Оказалось, однако, что и мой собеседник переживал поэтические восторги сходным образом, и из темной его тени, прильнувшей к решетке в шаге от меня, вырвалась на свободу другая мощная струя и свободной дугой, переливчато сверкавшей в невнятном свете фонарей, рванулась к клочьям пены на поверхности бурливой Неглинки, чтобы стать их частью и исчезнуть навсегда. Прихотливый порыв ветра или непроизвольное движение одного из нас, а то и обоих вместе, внезапно сплели обе наши струи в одну где-то на полдороге к шероховатому телу реки, и странное соединение это, наподобие какого-то воздушно-золотого бальмонтовского моста между временем и вечностью – помню ведь, Кальдерон, ей-Богу, Кальдерон![20]20
Тоже неплохо. Это он вспоминает стихи из бальмонтовского предисловия к изданному Сабашниковыми трехтомнику Кальдерона в переводах того же Бальмонта. Там как раз и вода, и брызги, и мост, и золото: «Между временем и вечностью, / Как над брызнувшей водой, / К нам заброшен бесконечностью / Мост воздушно-золотой...»
[Закрыть] – представилось мне почти мистическим предвестием того, что наша встреча обречена на продолжение, хотя даже сами мы еще об этом и не подозреваем...
IX
И вот уже новая картинка с бегущим через кадр титром «Через неделю на том же месте»...
Ну, что именно через неделю, так это больше для красного словца и гладкости изложения, да еще, чтобы насчет титров ввернуть, – красиво, по-моему, получилось, поскольку именно в кино все больше круглыми сроками оперируют, «через неделю» там, «через десять дней», «через месяц», «через год», ну и так далее, не хочу затягивать, а вот, к примеру, чтобы «через одиннадцать дней» или, скажем, «через два месяца и четыре дня» увидать уже не приходится – ведь временные промежутки в искусственном повествовании только обозначаются, дабы показать, что мгновенная темнота между кадрами покрывает вовсе не то самое реальное мгновение, в течение которого она длилась, а промежуток куда более значимый, и тут-то в многословной и некруглой точности проку все равно нет. Действительно, чего уж такого особенного в том, чтобы следующий кадр показывал ситуацию именно через два месяца и четыре дня? Что эти нелепые четыре дня добавляют к четким двум месяцам, за исключением того, что заставляют зрителя раздражающе сомневаться и спрашивать у себя самого, а чего, собственно, специфически особенного именно в этих четырех днях, что авторы пленки не поленились их ввести в титровую запись, и какая такая глубокая режиссерская задумка или находка в них заложена? И скажи им, что задумки никакой, а тем более и находки, и все сделано исключительно для фактической точности, поскольку именно через два месяца и четыре дня, а вовсе не ровно через два месяца, последующие события и имели место, то могут и деньги назад потребовать, а то и в морду. Не любит народ ненужной точности....
Но я не об этом... Хотя, конечно, занимательно бы, кстати – а хоть бы и некстати! – порассуждать о том, что такое киношное время и когда его с чем едят, – вот уж где простор для отточенных упражнений, но боюсь сбиться, так что прибережем такую возможность до той поры, когда фактологические истории выстраиваться и состыковываться перестанут намертво, а страсть к рассуждениям еще не отомрет, – вот тут попадутся мне на глаза эти строчки – надо будет красным карандашом на полях отчеркнуть... вот прямо сейчас и отчеркнул... – тут я такое эссе выдам, что я те дам! А пока назад, назад – туда, где вовсе не «через неделю», уж если честно, а просто через какое-то недолгое время, пока еще и случайная встреча на поэтическом вечере с моим тогдашним знакомцем была слишком свежа в моей голове, чтобы потесниться под напором новых встреч и впечатлений, – единственно, что и теперь точно помню, так это то, что день тот пришелся именно на четверг, а не, скажем, на понедельник или пятницу, а почему так хорошо запомнилось, из дальнейшего станет совершенно понятным – широким шагом топаю я от Лубянки по правой стороне улицы таинственно убиенного любимца ленинградского пролетариата Мироныча, чтобы заглянуть в знаменитый по тем временам сто двадцатый книжный магазин, где, как мне сказал один тогдашний коллега, только что появилась в продаже интересовавшая нас обоих какая-то модная на тот недолгий условный день книга то ли по истории философии, то ли по философии истории, – где теперь эта разница за давностью лет и за размытостью понятий! – и об этом пока еще мало кто знает, так что он сумел купить ее безо всяких проблем и очередей, да и у меня шансы на успех вполне еще высоки, если, конечно, потороплюсь. Вот я и тороплюсь. Тем более, что после работы, да и до закрытия магазина не так уж много времени остается. И, как оказывается, не зря торопился – и хотя в историческом (а может быть, и в философском) отделе наблюдается некоторая очередь, мгновенно и безошибочно отнесенная мной на предмет именно той книжки, за которой я пришел, но видна и сама книжка, и, естественно, не в единичном экземпляре, а в виде двух высоченных лежащих прямо перед продавщицей стопок, число томиков в которых даже на беглый взгляд заметно превышает число стоящих в очереди индивидуумов, а громогласно витающий над очередью охранительный лозунг «Больше одной книжки в одни руки не давать!»[21]21
Насчет «не больше штуки в одни руки» – это больше ко временам тотального дефицита и бесконечных книжных очередей относится – 60-е, 70-е, 80-е. Хотя и в тридцатые с бумагой напряженно было. Непреходящая черта советского быта...
[Закрыть] вселяет надежду на то, что и в мои руки одна-то книжка точно попадет. Так оно и оказывается, так что после десяти минут в кассу и еще пятнадцати к продавщице книжка у меня, и даже не та, что первоначально была выдана мне стоявшей за прилавком исторического отдела дамой и оказалась с помятой в нижнем углу обложкой, почему и была предъявлена к замене, а ее безукоризненная соседка по левой от меня стопе. Дело сделано, и я решаю побродить по залу.
Ближайшим отделом, где я притормаживаю шаг, оказывается отдел поэтический, и как раз в тот момент, когда отклоняюсь от своего прямолинейного движения, чтобы подойти в прилавку, в глаза мне бросается сокрытая под черным пальто спина прилипшего к прилавку покупателя, по спине этой стекает бесконечной длины ослепительно белый и уже знакомый мне шарф, а столь же знакомый или, точнее, столь же пока еще не забытый голос настойчиво вопрошает невидимую за строем любителей поэзии продавщицу, не залежался где у нее в отделе сборничек стихов Автандила под выразительным названием «Безукоризненные строки». Я несколько придерживаю естественное желание постучать согнутым пальцем по несколько наклонившейся над прилавком спине своего недавнего знакомца – кто, кроме него, мог с давно забытой в наши не до конца промытые времена с элегантностью струить по черной спине белоснежный поток шарфа чуть что не под ноги окружавшему его народцу в мятых джинсах, заношенных псевдояпонских куртках, пошитых подпольным халтурщиком если не в Тбилиси, то в Ереване, и мокро-коричневых от уличной слякоти скороходовских кроссовок под Адидас – и прислушиваюсь. Продавщица с торопливо-вежливым безразличием отвечает, что ни «Безукоризненных строк», ни чего бы то ни было другого, принадлежащего Автандилу, у них в продаже не было и нет. Автандилец просит ее посмотреть повнимательнее, она ответствует традиционным «Ну я же вам русским языком сказала!», он настаивает, напирая на то, что именно в их отделе он уже купил совсем недавно именно эту книжку и ему просто нужен еще один экземпляр для друга, та, естественно, уже почти кричит с возмущением, что раз ему сказано нет, то значит нет, и она не может каждой блажью по полчаса заниматься, и другие покупатели ждут, и если у него все, то пора бы уже уступить место у прилавка следующему любителю, ну и все остальное вполне понятное и даже, я бы сказал, привычное, что в те давние времена, что сейчас.
Белошарфовый, чье имя я забыл, даже если он мне и называл его во время наших ночных хождений по берегам Неглинки, в свою очередь, начинает заводиться и повышать голос, чувствуя себя пораженным в своих покупательских правах, диалог начинает приобретать абсурдистскую закольцованностъ, и я решаю, что как раз и настал момент пустить в ход давно согнутый указательный палец. И стучу им по черной спине. Спина мгновенно исчезает, и передо мной возникает искаженное возмущением лицо, которое, однако, мгновенно озаряется узнаванием, и я без особого даже удивления слышу:
– Что, и вам тоже Автандила не досталось?
Немедленно зачислившая меня в одну компанию с надоевшим до жути покупателем продавщица начала громко блажить на нас обоих. Я сильно потянул своего давешнего знакомца за рукав, уводя его в направлении выхода и на ходу пресекая его попытки разоблачительных растолковываний горячащимся посетителям, как они, собственно, глухи к настоящему искусству и вообще, какие они плебеи и хамы, взращенные на скудоумной жвачке псевдокультуры. К счастью, обрывочные реплики влекомого мной белошарфового не сложились для рвущейся к прилавку публики в целостную в своей оскорбительности филиппику, и мы выбрались обратно на уже подернутую надвигающимся вечерним сумраком Мясницкую в целости и сохранности.
X
На улице он мгновенно начал с того, на чем остановился в своем обращении ко мне в магазине:
– Так что, и вам Автандила не досталось?
– Да нет, я, собственно, за другим заходил. Просто потом вас увидел, вот и подошел. А вам-то зачем Автандил, если он у вас уже есть?
– Не себе. У нас тут новенькие появились, вот их и надо было обеспечить. И вот такая запятая! Прямо черт знает что!
– Неужели так его спрашивают? Странно – я, вроде, за поэзией слежу довольно внимательно, хотя, может, и не с такой требовательностью, как вы, но вот именно про него слышать как-то не доводилось... Разве что так, нечто смутное помнится (тут уж я слегка прилгнул, чтобы не пасть окончательно в глазах юного автандилиста, знакомство с которым начинало казаться все более занимательным). Да, даже жаль, что мимо прошло. Ну, Бог даст, с вашей помощью попробую этот свой пробел восполнить. И что это за такие «новенькие» у вас, что их непременно надо книжкой снабдить? В чем они «новенькие»?
Он внимательно посмотрел на меня, словно прикидывая, стоит ли продолжать разговор и снабжать меня информацией,[22]22
Ощущение страха явно из 30-х, тогда как раз и брали за разговоры.
[Закрыть] до уровня которой я вполне мог бы и не дотянуть. Но выглядел я прилично, лицо носил, право слово, вполне интеллигентное – сейчас уж, конечно, придется мне поверить на слово, поскольку в нынешних складках и морщинах ничего, кроме длительности отпущенного мне времени, разглядеть уже не удастся даже самому опытному физиогномисту, но тогда-то, тогда-то... Стихами, опять же, интересовался. Да и был заметно старше своего юного собеседника, так что в каком-то смысле мой интерес не мог ему отчасти даже не льстить, хоть разница в возрасте и не была настолько велика, чтобы сразу и наверняка решить не тратить своего времени на старого перечника. Так что все работало на меня, и спутник мой заговорил, все более и более разгораясь по мере своего разъяснения.
– «Новенькие» – это в смысле для нашего кружка новенькие. У нас тут некий кружок сложился из тех, кто на Автандиле сошелся. Видимся, беседуем... Сначала-то он, конечно, маленький был, но жизнь идет, а там сами знаете, как оно бывает, – тут я с одним разговорился, там еще кто-то с другим, глядишь, кому-то захотелось на встречу придти, а кто-то просто своего приятеля пригласил, ну и все в таком роде, так что пусть и понемногу, но людей все больше собирается. Нельзя же все время только с голоса воспринимать, многим хотелось бы в спокойной обстановке самим вчитаться дома под лампой, так сказать, а книжки только у нескольких из нас есть, да и то всего по той одной, что когда-то себе купили. Да, вот с этого «когда-то» все и началось. Я вообще случайно автандиловский сборник тогда купил. Просто так на развале копался, чего-нибудь новенького искал, а тут книжечка такая маленькая, аккуратненькая... Аппетитно так сделана... И название уж больно заинтриговало – «Безукоризненные строки»! А?! Звучит-то как! Особенно в наше время, когда каждый старается либо покорявей, либо позаумней излагать, если, конечно, не чистые агитки кропает. Когда мы потом вспоминали, то оказалось, что некоторые, да и сам я, каюсь, не без греха, поначалу подумали, что из чистого издевательства название такое придумано, но все равно полистать взяли, а уж когда по страницам полазили, то поняли, что и впрямь строки безукоризненней некуда. Но это потом. А тогда листаю я книжку, а один парень рядом и говорит, возьми, дескать, не пожалеешь! Глянул я на него – нашего круга человек, и речь хорошая, ну и взял. А он опять – если понравится, говорит, позвони, впечатлениями поделимся. Вот так и началось. Сначала понравилось, потом созвонились, потом опять в магазин пришли и еще кому-то порекомендовали, потом уже втроем, а потом и вчетвером собрались поговорить. Вот с тех пор и собираемся потихоньку, и людей все добавляется. А книжек больше нет – разошлись понемногу. И в других магазинах, где были, так еще раньше кончились, – тираж-то всего ничего. Поверите – пятьсот штук всего напечатали![23]23
Тираж 500 экземпляров. Это, конечно, из 20-х–30-х, когда такие тиражи были привычными. Хотя, впрочем, и настоящего читателя поменьше было. Это потом на десятки тысяч мерили. Однако все возвращается на круги своя – и сейчас для хороших книг маленькие тиражи – не редкость. Опять читатель повывелся?..
[Закрыть] Так что первым еще перепало, а следующие уже на слух оценивали. Вот сегодня я с отчаяния последнюю попытку сделал хоть под прилавком в пыли покопаться, так сами видите, чем закончилось. Про библиотеки уж и не говорю. Хотели через издательство разыскать информацию, так и самого издательства нет, может, и вообще не московское, тем более, что адрес не указан. Сами знаете, как теперь с выходными данными, – поскольку переходный период и реконструкция на фоне частичной разрухи, то, естественно, никакого порядка, лепят что попало, как хотят, так и указывают, какие там ГОСТы... Но, в общем-то, и того, что есть, хватает, чтобы и подумать и поговорить. Хотя, конечно, и нечитанного разыскать хотелось бы. А то прямо загадка какая-то – книжка вот она, а про автора даже в Ленинке ничего не раскопали. Так что и про это тоже разговариваем – прикидываем, кто он мог быть и откуда...
Я слушал с нескрываемым интересом, меж тем как мой случайный знакомый торопливо подбирался к концу своего разъяснения.
– А собираемся мы раз в неделю по четвергам. И обычно у меня, потому как в самом почти центре, так что всем удобно и до меня и обратно. Да и приглашаем кого интересного – про нас уже многие из настоящих ценителей знают – то и они тоже на центр охотнее идут...
– Скажите, – перебил его я, – а вот хоть одним глазком на вашу заветную книжку можно взглянуть на предмет почитать?
– Да я же вам тогда ночью почти всю ее наизусть и прочел!
– Знаете, наверное, какой-то дефект сознания – трудно со слуха воспринимаю, так что, если по-честному, то все уже и забыл, так что в памяти только общее хорошее впечатление осталось. Без всяких конкретных строф или даже строчек. А вот если собственными руками и глазами помусолить, то совсем другое дело!
На слове «помусолить» его лицо так болезненно искривилось, что я сразу понял необходимость более тщательного подбора слов, паче речь зайдет по поводу любимого предмета моего спутника, и несколько отступил:
– Ну хорошо, а хоть фотографическая копия[24]24
Вот-вот. В последние десятилетия обязательно бы ксерокс помянули. А раз «фотографические» копии, то разговор наверняка из 20–30-х. Тут все сходится.
[Закрыть] у вас имеется?
– Фотографическая? – впав в некую задумчивость, повторил он. – А вообще это идея! Надо бы действительно несколько фотографических копий сделать...
И вдруг резко повернулся ко мне.
– Но ведь сегодня четверг? – И сам охотно согласился: – Самый что ни на есть четверг! А по четвергам, как я вам уже имел сообщить, у нас как раз встречи и чтения. Вы, похоже, человек приличный, а у нас каждый член может с собой одного знакомого провести. Пойдемте – и Автандила послушаете, и перекусить может найтись, да и потом потолкуем об интересном... И идти недалеко. А там и фотокопировальную идею можно обсудить. Ну, как?
Естественно, я тут же согласился. Кто ж от такого развлечения откажется? Да еще вкупе с перекусом и возможным фотокопированием... Так что – руку, читатель![25]25
А здесь у него Булгаков! Вот так каждый раз: вроде бы уже сходится все на поздних 20-х, но тут же какой-то кусочек вылезает... Даже если допустить, что автор был ближайшим другом Булгакова и слушал «Мастера» в авторском чтении, все равно это могло случиться несколькими годами позже. А если уж, как все мы, – то «Москва», 1967 год, препарированный текст...
[Закрыть] И кто сказал, что бесславно закончилась в нашей подверженной апериодическим разрухам стране эпоха любви к рифмованному слову? Плюньте ему в глаза, господа! Непременно плюньте...
XI
Раз уж решение принято, так чего время тянуть? И мой спутник рванул вперед молодой рысью. Зараженный его азартом, я последовал за ним. Действительно, сейчас помню, оказалось недалеко. А при темпе, с каким мы двигались, так и вообще всего ничего. Только не ловите меня на слове – и сам понимаю, что расстояние от скорости не зависит, но вот время, время-то, господа! Так что не успели мы свернуть на Златоустинский, как уже пересекали Хмельницкого,[26]26
То Хмельницкого, то Маросейка, то Кирова, то Мясницкая... Это наводит на мысль, что автор все-таки пишет о времени массовых переименований, когда и новое название употребить является, так сказать, политически корректным, и от старого язык никак избавиться не может, при всем даже страхе, что кто-то возьмет да и спросит: «А чем это вам Киров не по душе?».
[Закрыть] а там свалились в Кривоколенный, который мгновенно выплюнул нас под горку в Старосадский, так что еще с минуту молодецкого полубега, и мы, не доходя каких-то считанных шагов до Солянки, очутились у большого то ли серого, то ли желтого – не обессудьте, что запамятовал за давностью лет и обилием жизненных впечатлений, – дома. Резко затормозив, так что я чуть не проскочил мимо него к уже видевшейся через Солянку площади Ногина, мой проводник элегантно указал рукой на большую грязноватую подъездную дверь, по явному недосмотру судьбы еще несшую на себе тяжелую старорежимную бронзовую ручку, и произнес первые за время нашей недолгой прогулки, или, точнее, пробежки, слова:
– Ну, вот мы и дома!
О, эти старомосковские дома! Вроде бы и от канувшей в Лету Хитровки неподалеку, и вообще район... скорее, средней руки, чем выше, так что тайных или даже, если присмотреться, и статских тут вряд ли много живало, но все равно за заляпанной какими-то этиологически неясными пятнами дверью с ее дуриком – только дуриком! – уцелевшим на ручке бронзовым набалдашником в виде стилизованных виноградных гроздей (ах, как запомнился этот тусклый блеск захватанной бронзы – вот ведь тоже своеобразный выверт, ибо в общем смысле за захватанностью мы всегда подразумеваем и даже, до некоторой степени, ощущаем некую грязноватость и замшелость, тогда как бронза именно хватаниями и очищается от убивающей темно желтое свечение патины), впрочем, узнать эти грозди было не легче, чем бараньи рога в ионических колонных завитках, так что хвастаюсь скорее образованностью, чем сенсибельным умением воспринимать полускрытую символику изделий рук человеческих, да, так вот, за открывшейся дверью в тусклом свете экономных сорокаватток, да и горевших, к тому же, через одну, взгляд сразу начинал свой бег по просторной каменной лестнице с толстыми деревянными старорежимными перилами и большими – хоть стол ставь для повсеместно вошедшего теми днями в моду настольного тенниса – площадками между этажами, которые в дневное время должны были хорошо освещаться огромными, пусть даже многие годы и не мытыми двойными окнами. Виноват, заговорился, но уж больно надоели мне за последнюю треть моей протяженной жизни скудные московские новостройки с их трюмными – вдвоем боком расходиться – лестницами, площадками, на которые, если одновременно все квартирные двери открыть, то и человеку не выйти, и якобы жилыми клетушками с потолками в два с полтиной, по которым я еще успел нанавещаться, пока один не остался, чуть что не в полном составе распиханных из центра моих когдатошних знакомых, так что запущенная парадная лестница доходного дома близ Солянки вспоминается почти что символом роскошной жизни. Что же со всеми нами... Да ладно – не о том речь...








