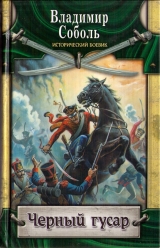
Текст книги "Черный гусар"
Автор книги: Владимир Соболь
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В огромной зале было многолюдно, шумно и дымно. Гремели голоса, шаркали подошвы, стучали каблуки, трещали и чадили факелы, укреплённые в сырых стенах.
Слух о кончине государя уже разлетелся по городу, и люди, близкие Павлу, съезжались на панихиду. Пажи, камер-юнкера, камергеры, священники осторожно входили и проскальзывали по коридорам, опасаясь одновременно и остаться, и уехать, и желая проститься с императором, и боясь, что их заметят и сочтут сопричастными.
Зато участники полуночного рейда говорили, кричали за всех. Яшвиль, Скарятин, Татаринов, Бибиков, Мансуров и прочие, прочие – все, кого привёл в спальню Павла Петровича генерал Бенингсен. Они были возбуждены и выпитым вином, и содеянным делом, видели по колено себе рвы замка, Фонтанку, Неву и всё Балтийское море.
В самом центре зала, упрямо расставив большие ноги, стоял Николай Зубов. Брат последнего фаворита Екатерины, брат знаменитого генерала. Платон и Валериан тоже тянули заговор. Но Николай в тройке родственников был коренным.
За полтора года до приступа к Михайловскому он ездил с тайным разговором к тестю. Жена Зубова Наталья Александровна была урождённая Суворова, «суворочка», дочь фельдмаршала, генералиссимуса, графа, светлейшего князя. Петербургские заговорщики предполагали, что опальному полководцу стоит только промолвить, и вся русская армия послушно двинется на столицу. В том же, что он захочет нужное слово сказать, конспираторы не сомневались. Знали, как крепко обижен Суворов на императора, что так резко и грубо отставил его от любимого дела.
Но только он понял, к чему подводит разговор неожиданно нагрянувший зять, как тут же закричал петушиным, высоким голосом:
– Нет! Нет! Молчи! Молчи! Молчи! – и продолжил, понизив до шёпота: – Что ты! Что ты! Кровь сограждан своих проливать!
И зачертил воздух мелкими крестами, будто запечатывая рот говорящему искусителю...
Среди братьев Зубовых Николай считался самым тупым и мужиковатым. Но спорить с ним, перечить ему опасались, зная звериную силу и ярость графа. Этот «пьяный бык» и ударил Павла Петровича первым. С размаху, с плеча, тяжёлым кулаком, в котором была ещё и зажата золотая табакерка, смявшаяся при столкновении. Сейчас он стоял ровно и твёрдо, склонив большую голову, и только поводил глазами из стороны в сторону, словно выбирая следующего врага. Его обходили, стараясь не встретиться взглядом.
В дверях показался курносый профиль великого князя. Словно тень покойного императора промелькнула в проёме. Константин из всех сыновей больше всех походил на отца, возможно, что и любил его больше. Он с ненавистью оглядел шумное сборище и проронил несколько резких французских фраз. К счастью, не так громко, чтобы его услышали и разобрали.
Александр сидел в углу, уронив голову на спинку стула. Рядом с ним стояли два сержанта-семёновца.
Вдруг сделалось тише. По залу шла Мария Фёдоровна, за ней так же неотступно следовала фон Ливен. Следом чеканили ровный шаг два капральства преображенцев, ведомые прапорщиком Мадатовым. Полковой командир снял их с поста у покоев великого князя – или уже императора – и приказал сопровождать вдову Павла Петровича. Сам он шёл почти вплотную к статс-даме.
Пётр Александрович Талызин всю жизнь, тридцать четыре года, прослужил в гвардии. Начинал в Измайловском, а в 1799 году получил чин генерал-лейтенанта и назначен был командовать Преображенским. Он был хорошо образован, начитан, богат, службой не тяготился. Офицеры и солдаты его любили. Император сделал его командором нового Мальтийского ордена. Однако генерала быстро убедили, что цесаревич будет государем куда как лучшим.
Он сам примкнул к Панину с Паленом и втянул в заговор нескольких своих офицеров. Поручик Марин командовал в ночь на двенадцатое внутренним караулом Михайловского, адъютант же полка Аргамаков провёл колонну Бенингсена, основную ударную силу комплота, через дворцовую церковь.
Теперь Талызин считал, что дело уже исполнено, что теперь его долг позаботиться о здоровье нового императора. Он помнил, как на последнем ужине в его же доме некие горячие головы призывали уничтожить всю царствующую фамилию до единого человека. Он знал, что другие головы, более основательные, подготовили некую бумагу, которую якобы должен был подписать Александр как условие полной присяги гвардии. Про себя он решил, что не будет более ни убийств, ни условий.
Обе дамы далеко обогнули Зубова и подошли к Александру. Тот с усилием поднялся навстречу.
– Ма mere![12]12
Матушка! (Фр.).
[Закрыть]
– Саша! – строго сказала мать. – Неужели и ты соучастник?!
Он упал на колени. В зале сделалось вдруг абсолютно тихо.
– Матушка! Я ни в чём не виновен!
– Ты можешь поклясться?
Александр поднял руку, произнёс несколько слов и зарыдал. Мария Фёдоровна опустилась рядом с сыном, он обнял её за шею и уткнулся в плечо.
Рядом возникла гигантская фигура генерал-губернатора.
– Ваше величество! Полно ребячиться! Ступайте-ка царствовать!
Александр вздрогнул и повернул вверх заплаканное лицо. Эти слова он запомнил, не забыл и во всю жизнь не простил. Но в эту минуту никак не мог противоречить всесильному графу. Сейчас тот правил столицей, а может быть, и всей российской империей.
Император медленно поднялся с колен. Фон Ливен помогла встать императрице.
– Что ж, господа, – кривя губы, проронил Александр. – Вы уже зашли так далеко... Поведите меня и дальше. Давайте определим права и обязанности суверена. Без этого соглашения трон меня совершенно не привлекает...
По характеру своему Александр Павлович частную жизнь любил куда больше общественной. Юношей он мечтал удалиться вдвоём с будущей супругой подальше от шумного света и наслаждаться с избранными друзьями чтением, музыкой и беседой. Позже он писал Адаму Чарторыйскому, что, может быть, лучше, честнее и справедливее будет взвалить на себя груз управления огромной империей и повести народы российские к просвещению и процветанию... В эту холодную ночь он почти жалел, что не может передать первородство младшему брату. Константин был энергичен, открыт, но – приняла бы его своевольная гвардия?..
Талызин приблизился к беседующим. Он был бледен, на высоком лбу его, несмотря на холод, выступила испарина.
– Ваше величество! Семёновский полк... Преображенский... Измайловский... Вся гвардия верна нашему императору...
Александр был шефом Семёновского полка и мог на него полагаться без опасений. Преображенский полк Талызин держал в руках. Командира Измайловского, генерала Милютина напоили вечером накануне, и его батальоны были парализованы.
– Мы, офицеры ваши и послушные нам солдаты, готовы присягнуть вам без всяких предварительных условий, без каких бы то ни было ограничений. Мы верим, что вам достанет знаний и воли управлять империей вполне самовластно.
Палён молчал. Он смотрел сверху вниз на хрупкого и красивого генерала, но видел не его, а полтора десятка мощных солдат-гвардейцев, державших у ноги ружья с примкнутыми штыками. И прозревал сквозь каменные стены ещё два батальона преображенцев, мерзнущих на площади, за тройным мостом, перед статуей основателя Российской империи. И случись ему, графу Палену, вдруг упорствовать, кто скажет, в какую сторону оборотятся те же семёновцы?
Основатель придворной науки «пфификологии» умел понять, когда становится опасным настаивать, когда же следует отступить. Изогнув губы в улыбке, он поклонился императору Александру:
– Вся гвардия, вся армия, всё население Санкт-Петербурга, все народы российские уверены в мудрости и благоволении вашего императорского величества...
Выпрямляясь и отступая, он вгляделся в генерала Талызина. Тот встретил взгляд фон дер Палена и выдерживал его секунд десять, пока генерал-губернатор не отвернулся. Но отчего-то странный озноб вдруг пробежал сверху вниз по позвоночнику командира преображенцев. Возможно, это было предчувствие. По странной случайности, генерал-лейтенант Пётр Александрович Талызин пережил императора Павла ровным счётом на два месяца. Он скончался 11 мая того же 1801 года. Такое странное совпадение дат заставило окружающих подозревать причиной смерти молодого сравнительно человека, богатого, знатного, обласканного двумя императорами, – угрызения совести...
VIВечером того же дня от Царицына луга вдоль Дворцовой набережной скакал всадник. Копыта жеребца цокали подковами по тротуару, выбрасывая ошмётки грязного льда и снега. Случайные прохожие жались к стенам, закрывая лица согнутыми руками.
– Можно! – орал наездник отчаянно-весело. – Можно! Теперь всё уже можно!
Одним из последних указов Павел Петрович запретил быструю езду по городу, запретил и конным въезжать на редкие ещё тротуары. Один из первых же запретов положен был на фраки и круглые шляпы. Разумеется, почувствовавший свободу ездок размахивал именно шляпой, той, якобинской формы. И фалды крамольной одежды свободно свешивались с крупа животного.
У Зимней канавки всадник остановился, махнул шляпой в сторону дворца, прокричал нечто невнятное, повернул коня и приготовился было снова пустить его резвым аллюром. Но сильная рука ухватила поводья:
– Зачем скачешь? Зачем людей давишь-пугаешь?
Всадник пригнулся к гриве:
– Да кто ты такой? Знаешь, с кем говоришь?
Он ударил шляпой наотмашь, но промахнулся и сам получил болезненный тычок в бок. С яростным воплем спрыгнул с коня и двинулся на того, кто осмелился стать на пути:
– Я – граф Бранский!
– Прапорщик Мадатов, лейб-гвардии его императорского величества Преображенского...
– И чем же недоволен прапорщик лейб-гвардии Преображенского?
– Нарушаете указ, граф Бранский!
– Чей указ, прапорщик?!
– Императора Павла...
От неожиданности граф опустил уже занесённую руку.
– Вы что, прапорщик, с неба свалились? Сутками спите?!
– Почему я должен вам отвечать?
– Да потому, что я – поручик того же самого лейб-гвардии Преображенского!
Мадатов, не торопясь, оглядел противника сверху вниз. Тот был чуть ниже и лет на пять старше. Круглое лицо налилось красным от водки, ветра и ярости.
– Не вижу на вас мундира.
– Ты ещё учить меня будешь!..
Бранский снова замахнулся, но чьи-то широкие плечи закрыли Мадатова от разъярённого графа.
– Лейб-гвардии Преображенского штабс-капитан...
– Да знаю тебя, Бутков!
– Ия тебя знаю, Бранский.
Особенной радости от встречи старые знакомые не испытали. Однако граф чуть успокоился, расслабился и отступил. Бутков, не глядя, завёл руку за спину и сжал запястье Мадатову, потянувшемуся было к эфесу шпаги.
– У вас претензии к моему офицеру, граф?!
– Он сдёрнул меня с коня!
– Скачете опрометью по тротуару. Нарушаете указ, ваше сиятельство.
– Чей указ? – Лихой наездник опять попробовал вспетушиться.
– Императора...
– Какого?!
– Государства Российского, – твёрдо и уверенно отрубил Бутков.
– Ваш подчинённый, кажется, до сих пор уверен, что он присягал Павлу.
– Я... – Мадатов попытался было ступить вперёд, но Бутков подвинулся в сторону и перекрыл ему путь:
– Прапорщик Мадатов исполняет мои приказания. В сей тяжёлый и неудобный для отечества день он следит за порядком и тишиной на улицах российской столицы. И вам, граф, как хотя и бывшему, но офицеру-преображенцу должно бы ему помогать, а не препятствовать. Что же касается его императорского величества, то сегодняшним утром мы с прапорщиком, как и весь полк, присягнули государю Александру Павловичу. Однако замечу, что указов императора Павла Петровича он ещё не отменял...
Размеренная речь Буткова пронизала и отрезвила графа ещё пуще невского ветра. Он выдернул поводья у Мадатова и поднялся в седло. Проехал несколько шагов и оглянулся:
– Лейб-гвардии... – Далее ветер донёс выражения совершенно неуставные.
Мадатов кинулся было следом, но Бутков сгрёб его в охапку и почти понёс, потащил вдоль канавки. Прапорщик пробовал отбиваться, но руки старшего офицера держали его лучше стальных цепей.
Так, в обнимку оба преображенца добежали до Миллионной, пробрались к дому, где размещался первый батальон полка, тот самый, что нёс караульную службу в Зимнем. Прошли мимо часового и поднялись на первый этаж. Собственно, все осмысленные действия совершал штабс-капитан Бутков, прапорщик же, побарахтавшись поначалу и сообразив неравенство сил, мрачно подчинился почти неизбежному.
Бутков впихнул Мадатова в свою комнату, посадил на кровать и отскочил к двери:
– Хочешь – ударь, хочешь – убей. Но для начала, прошу тебя, выслушай!
Валериан подумал пару секунд, отпустил шпагу и опустился на одеяло.
– Государь Павел Петрович – мёртв, – начал Бутков. – Крепко мёртв государь. Сам видел. Ходил с графом Паленом и другими преображенцами... Мёртв курносый! – повторил он со скрытым и не до конца понятным слушателю удовольствием. – Так что теперь, Брянский прав, многое опять можно. И слово курносый можно выговорить, и козу Машкой назвать тоже вполне безопасно. Присягнула гвардия теперь Александру. Какой из него император получится, я не знаю. Ну да мне и дела нет до того. Я, Мадатов, так рассуждаю: нам с тобой, как нижние чины говорят, – что ни поп, то и батько.
Валериан вскинулся.
– Спокойно, Мадатов. – Бутков поднял ладонь, останавливая сослуживца. – Успеешь ты меня изувечить! Выслушай пока старшего. По чину, по возрасту, по уму!
– Государя убили! – буркнул Валериан.
– Убили, – спокойно согласился штабс-капитан. – Хорошо, что только его одного. Ты, я слышал, за императрицу вступился. Не дал отравить Марью Фёдоровну. Значит, понимаешь, как такие дела могут делаться. Насмотрелся у себя на Кавказе.
Валериан вспыхнул:
– Я за Кавказом живу. Жил, – поправился он мгновенно. – Мальчиком насмотрелся и наслушался, как люди за свои владения бьются. Мой дед своего брата убил. Всю семью его уничтожил. Хотел сам князем-меликом стать... Ханы, беки соседние тоже на своё кресло немного боком садятся. Но я думал, что здесь Россия! Не ханство Карабахское, не Персия и не Турция.
– Что Россия, Мадатов? Жаль, ещё никто истории страны нашей не написал. А то бы послушали, узнали, как и у нас во все века трон поливали кровью. Да что там Россия? Думаешь, в Европе государи до старости доживают? Английскому королю голову отрубили, французскому – машинкой оттяпали. Ну у нас императора шарфом задушили – велика ль разница, если подумать. Правда, отцу его тоже не довелось много поцарствовать, – Бутков размашисто перекрестился. – Зато матушка была хороша...
– Я присягу давал, – ворвался в паузу неугомонный Мадатов.
Бутков оживился:
– Напомни-ка мне, как ты там обещался: его царского величества государства и земель его врагам, телом и кровью... Так кто же тебе мешает? Имя? Ну не всё ли тебе равно, прапорщик, кто там во дворце восседает – Пётр, Павел, Александр, Екатерина? Твоё дело – от старшего приказ получить, младшему передать. И не кланяться – ни пулям вражеским, ни собственному начальству. Для этого другие характеры предназначены. Как этот Брянский.
– Кто же он?
– Бывший поручик наш. В девяносто седьмом вышел в отставку, неудобно ему, видишь, стало при Павле служить. Караулы, разводы, эспантоны, косички, букли. А теперь, должно быть, назад попросится. Теперь, думает, можно.
Он вдруг подскочил к постели и схватил Мадатова за плечи. Дохнул суровой смесью водки и лука:
– Ему – можно. Запомни, прапорщик, таким как он – можно! Всё и всегда! А нам с тобой – только иногда и отчасти... – Снова отошёл к двери и прислонился плечом к косяку. – Я тебе скажу, парень, в дела дворцовые и не пробуй соваться. Обещал нести государеву службу, так и тащи её до самой до смерти. Дело наше ты любишь, а стало быть, и научишься. Кому же на самом верху сидеть, пускай о том генералы наши заботятся. А таким, как мы, и без того заботы хватает. У нас рекруты, увальни деревенские, ни шагать, ни смотреть никак не научатся. Наше дело с тобой, Мадатов, из походной колонны боевые шеренги строить. Сейчас пока тихо, друг мой, но через год, через два большие дела начнутся. К этому нам и надо готовиться. Солдат учить, самим учиться. Чины хватать, но под картечью, не на паркете...
Подошёл к столу, забрал шляпу, брошенную небрежно. Надел, надвинул на парик, поправил угол над бровью:
– Я в Зимний. Наш караул там стоит... А смотри-ка, из полка кто там ходил в Михайловский? Аргамаков, полковой адъютант, Марин-поручик... Нет, он по службе там обретался... Ещё, может быть, двое, трое, в крайнем случае четверо... Так что пятна, может, и не останется. Но и славы не прибавится, это точно.
– А вы? – спросил Валериан. – Вы?
Бутков усмехнулся:
– Врать не буду. Участвовал. Только не напрямую. У меня свои счёты были с курносым. На разводе два года назад он меня древком задел. Эспантон вырвал, якобы я темп пропустил. Показал, как надобно делать, да, отдавая, двинул древком. Нарочно, по голени. Офицера и дворянина!.. Как же мне быть прикажешь? В отставку подать – другого дела не знаю и не хочу. На поединок императора вызвать? Проще самому в крепость прийти и в каземат попроситься. Так вот сочлись.
Бутков умолк. Вспомнил подробности ночного дела, о которых он, конечно же, был наслышан, и сжал челюсти. Мадатов тоже молчал.
– Но я от них всё же отстал, – заговорил снова штабс-капитан. – Нельзя на такое пьяным ходить. Сказал, что за людьми пригляжу, чтобы штыки не в ту сторону не повернули. Так что я и за тобой посмотрю. Ты человек горячий, ты можешь сегодня даже очень просто попасться. Так что прошу тебя, оставайся пока у меня. Даже нет, не прошу, а приказываю. Приказываю вам, прапорщик Мадатов, – считать себя под арестом. Наказание сие отбывать в апартаментах штабс-капитана Буткова, коему всю грядущую ночь быть в карауле при его... при их... в общем, при всех, а главное – при дворе. Не шучу я, Мадатов. Из этой комнаты только до ретирадного места и сразу назад. Это приказ!
Уже толкнув створку двери, вдруг обернулся:
– Шёл сейчас по городу – кареты скачут. Богатые и знатные радуются, как этот граф. Дворец стоит тёмный, холодный. Как сейчас там государь новый с женой, братьями, матерью?.. Уж даже не знаю. Не хотелось бы видеть, да придётся идти, смотреть, слушать. Но народ петербургский живёт как ни в чём не бывало. Может быть, половина и слышала, что император сейчас другой. Существуют люди, пекут, варят, торгуют, любятся, будто бы ничего не случилось. Так что же нам-то с тобой горевать да печалиться?! Прощай, Мадатов. Утром увидимся...
Бутков плотно притворил дверь, но Мадатов всё равно слышал, как стучат его каблуки, удаляясь к лестнице.
Он отстегнул шпагу, положил её на столешницу. Снова сел на кровать. Обхватил голову руками.
– Бедный Павел, – прошептал по-армянски. – Бедный, бедный Павел, – повторил тут же по-русски.
Во всём холодном, заснеженном Петербурге, кажется, он один оплакивал покойного императора...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
IДень выдался на удивление жаркий. К полудню не только маршировавшие усердно солдаты, унтеры, офицеры, но и батальонный командир, стоявший на небольшом взгорке, обливались потом, словно бы в русской бане.
Последним приказом он построил из каре колонну повзводно и отправил людей в лагерь. Ряды остроконечных палаток белели в полуверсте. Сам взобрался в седло и поехал вдоль строя.
– Поручик Мадатов!
Валериан шагнул влево, стал у стремени. Гнедая кобыла всхрапнула недовольно, выгнула шею – оглядеть незнакомого. Валериан не удержался, присвистнул тихо, чуть повышая тон. Подполковник и не услышал, а чуткое животное успокоилось, опустило голову, прячась от нестерпимого зноя.
– После обеда батальон займётся делами хозяйственными. Вам же надлежит составить команду из новобранцев и заняться с ними ружейными приёмами дополнительно. Ротные командиры отправят с вами самых неудачников, из рекрутов этого года. Погоняйте как следует. Так, чтобы, знаете, всё было слитно, уверенно, громко...
В два часа пополудни двадцать пять рядовых выстроились двумя шеренгами на плацу. Мадатов медленно прошёлся вдоль фронта, кому-то поправил локти, кого-то несильно ткнул кулаком в брюхо...
Сержанта Сивкова поставил на середину, шагов на пять впереди, лицом к строю. Расправил плечи, набрал полную грудь воздуха...
– Слушай команду! Ружья – на караул!..
Валериану нравилось возиться с солдатами, с новобранцами. Его не удручала их тупость, не раздражала неповоротливость. Он слишком хорошо помнил свои первые дни в полку, начальные уроки стоек и приёмов с оружием. Сам он проскочил эту науку быстро, но не кичился своим умением перед вчерашними крестьянами.
Валериан привык к оружию с детства, так что же было равнять с собой парня, не державшего до сих пор в руках даже кинжала. Напротив, ему нравилось ощущать своё действие на эту серую несмышлёную массу, видеть, как постепенно выпрямляются сутулые спины, как всё чётче слушаются ноги при поворотах, как проворно руки перехватывают ствол, приклад, ложе, исполняя бесчисленные приёмы...
– Ружьё – от дождя! Взять!..
Через несколько темпов все ружья повисли стволами вниз, прикладом под мышку... Нет – не все. Костистый, мрачный рядовой в задней шеренге держал вроде бы правильно, но – курком по-прежнему вверх. Так затравочная полка вымокнет даже при слабом дожде... Мадатов прошёл к рекруту, поправил ружьё. Подумал и приказал ему одному повторить упражнение. Другие с удовольствием отдыхали...
На четвёртый раз и этот, последний, схватил и запомнил нужные движения. Всё было бы хорошо, но раздражало постоянное бряцание металла. С павловских времён ещё повелась эта мода – ослаблять винты, скрепляющие стальные части, чтобы бились они друга о друга при любом шевелении. Любителям чёткого строя эта музыка казалась слаще полкового оркестра. Но зачем этот стук при атаке неприятеля, Мадатову оставалось пока неясным. Да и прицельной стрельбе ходящий по ложу ствол не способствовал.
Впрочем, стрелков из преображенцев тоже никто не собирался готовить. На каждого солдата выдавали в год три учебных патрона. Наверное, решил Валериан, чтобы не пугались выстрела и отдачи. На смотрах начальство требовало одно: слитность действий если не батальона, то, во всяком случае, – роты.
– Откройте полку! – крикнул Валериан и прищурил глаза, чтобы усмотреть левый фланг задней шеренги; воздух нагрелся так, что дрожал, покрывшись мелкой рябью, будто поверхность пруда, по которой прошелестел ветер из рощи...
– Насыпьте порох на полку!..
Он вспомнил бой с конницей Саддык-хана. Тогда ему никто не напоминал о полке, о порохе, о заряде...
– Закройте полки... Оберните ружьё к заряду!..
Он стоял на коленях за большим валуном. Камень защищал его от персидских пуль и хорошо удерживал длинный ствол мушкета...
– Достаньте заряд из лядунки!..
Двадцать зарядов в патронной сумке у рядового. Может быть, даже много. Тогда, в ущелье, он успел выстрелить раз десять, не больше...
– Заряд в ствол!..
Сам он заряжал ружьё раза четыре. Потом ему помогал один из дружинников дяди, большой и косматый парень. Его ранили в ногу, он сидел, привалившись спиной к камню, кусал ус, чтоб не кричать от боли, и заряжал ружья, которые отдавал Ростому. Тогда его ещё звали Ростом...
– Шомполы в стволы... Шомполы из стволов... Шомполы на прилежащее место...
Если бы они так сражались в ущелье, конники Саддык-хана снесли бы всем головы, не дождавшись и первого залпа. Какой-то же должен быть скрытый смысл во всех перестроениях и приёмах. Воюют же русские с теми же персами, турками и побеждают...
– Приподнимайте мушкеты!..
Тяжело держать такое ружьё на весу. Тот камень, Валериан помнил, пересекала такая удобная трещина, точно нарочно приготовленная под ствол. Она шла чуть правей и ниже самой высокой точки, навстречу налетавшим всадникам в высоких заломленных шапках...
– Ухватите левой рукой под правую!..
Двоих тогда он сбил точно. Третий скатился с седла чуть раньше, чем его могла ударить пуля Ростома, так что, наверное, ему достался свинец, выпущенный соседом. Но скакал он прямо на камень, за которым притаились они с косматым; зачем другим брать его цель, когда своих было более чем достаточно...
– Мушкет на караул!..
Трижды приступали сотни Саддык-хана к цепочке камней, которыми завалили они ущелье. Трижды поворачивали назад. На четвёртый раз дядя Джимшид крикнул, чтобы те, кто ещё может, уходили быстрей...
– Прикладывайтесь!..
Вот, пожалуй, и всё. Тринадцать темпов позади, и можно целиться. На четырнадцатый можно отдать команду «стреляйте», если бы в стволе были настоящие пули...
Там-то, в горах, пули были настоящие и сабли с ножами тоже. Напарник крикнул, чтобы Ростом уходил. Он может скакать, он не ранен... Валериан стиснул зубы, вспомнив, как резво бросился он к коню. Страшно ему стало, так страшно, как никогда не было в жизни... Два десятка человек из полутора сотен осталось их, тех, что смогли подняться в седло. И они настёгивали коней, улетая вверх, по каменистому руслу высохшего к лету ручья...
– К ноге!
Пусть передохнут, подумал Валериан, а потом повторим ещё раз все темпы. И ещё раз, если останется время...
А будь у него в том ущелье хотя одна рота преображенцев, он поставил бы солдат в три шеренги. И пока вторая стреляла, третья заряжала бы ружья, сама готовясь к стрельбе. А первая – стояла бы, уставив штыки, и не нашлось бы у Саддык-хана и десятка жеребцов, что сумели бы перелететь такую преграду...







