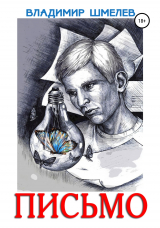
Текст книги "Письмо"
Автор книги: Владимир Шмелев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Мы бегали меж дедовских построек, возились возле стога на заднем дворе, выдергивая из него сухие жесткие стебли конского щавеля, из которых делали стрелы для лука. Спускались к прохладной реке, строили шалаши в зарослях «бамбука», гоняли кур, таскали с грядки маленькие арбузики и огурцы и своим мельтешением всегда злили дедовских пчел, которыми сочились переполненные ульи, этакой маленькой деревенькой занимавшие добрую четверть всей территории, самую середину двора: между гаражами, земляным погребом, собачьей конурой, пристройками и летней кухней – с одной стороны, и «черной» баней, дровенником – с другой. И мы всегда старались быть начеку, а, например, застрявший в волосах одной из сестер сердито жужжащий комочек наводил на остальных желание не приближаться ближе, а на нее саму почти истерику и бесполезное желание куда-то убежать. Пчелы были повсюду: они летали по воздуху, копошились на цветках, кружились на кухне над плошками с вареньем и даже, уже совсем потерянно, сидели на их краешке. И при всех предосторожностях, надо сказать, что жалили они нас нещадно – за десяток укусов на каждого за лето, а еще были осы и даже неуязвимые шершни, которых невозможно было раздавить, жившие двумя гнездами в скворечниках, устроенных под самой крышей главного дома.
Однако, благодаря пчелам, мы все ели много меда, пережевывая лопающиеся от золота соты. Мед был так хорош, что в нем оживали безголовые мухи и все те же пчелы. А в огороде, который через забор спускался от самого дома вниз, к речке, была очень мягкая земля (в ней мы обычно и хоронили птенцов) – и было особым восторгом и удовольствием бежать сверху вниз, перелетая через высокие картофельные кусты, обламывая им хрупкие верхушки, едва поспевая ногами за полетом тела, и чувствуя, как жирная земля проходит сквозь пальцы. И захватывающее дух ощущение: что вот-вот упадешь и что невозможно остановиться!
И скорее всего именно в то время я в первый раз ощутил рядом с собой что-то тревожное, может быть, уже свое одиночество, может, что-то еще. Уже тогда я в чем-то не походил на братьев и сестер, даже и тем, что был бледнее. Порою там я сам жаждал тишины и покоя, волнуясь о том, чтобы меня не нашли и стараясь угадать тот момент, когда меня могут начать искать взрослые. Правда убегать особо было некуда, потому что чем дальше я был от тех, кто составлял мне мир, тем более я растворялся в окружающих деревьях – вплоть до полной смерти.
Затем мы перестали туда ездить, и постепенно почти всякая родственная связь прервалась. Теперь мы не общаемся вообще. Иногда только приходят от них какие-нибудь общие новости, когда вдруг одна или другая из трех теток моих решит позвонить или написать нам, раз, может, за год-два. Да и того реже. Все обходятся друг без друга, у каждого своя жизнь. И мне уже тоже все равно, что происходит с ними, пусть хоть поперелопаются!
Впрочем, отчего же начинал походить на желавшую спрятаться мышь? Я был беззаботен и весел, но однако – неужели предчувствовал, что скрыться будет невозможно, а оставаться – так губительно!? Мог ли я загодя догадываться, что опасность, походя на тонкий ледок, уже стягивает озеро моей жизни. О чем я думал там, сидя один? Или уже тогда я обращался в тень, на которую могли наступить – и в особенности те, кого я был умнее и лучше, кого в глубине души я так ненавидел. Да, самое начало – живой сок уже тогда течет из меня и по мне, испаряясь в сладковатый пар, а все вокруг идет своим чередом.
…Иногда безумно пугают некоторые вещи. Так, что на секунду останавливается сердце, а потом отдается в груди раскатами. Дверь распахнется от сквозняка, или шелест в комнатной темени среди тишины; или огромная моль выпрыгнет из клавиш прямо на пальцы. Последние – моль и клавиши – в особом роде страшнее всех остальных, ибо похожи на сон – сочетание несочетаемых вещей… Или все не покидает несколько минут невозможная мысль, что сейчас кто-то заглянет снаружи в окно и, прильнув к стеклу, замрет и будет смотреть. Все это похоже на болезнь, или на какое-нибудь болезненное расстройство, которое есть царь этих крохотных и так безжалостно меня, пусть всего лишь миг, терзающих событий. Он остается в стороне, но имеет все их черты.
Порою мне совсем не просто отсекать лишнее; оттого, бывает, я долго взвешиваю и измеряю что-либо, прежде чем произнести. В особые моменты меня не покидает мысль, что я делаю преступление. И этому нельзя найти однозначных причин. Возможно, что их много, но они все еще для меня туманны, потому что я в них не сознаюсь себе; или таких причин вовсе нет, и все о них надуманно. Боюсь быть несправедливым к тому, к чему только прикоснусь, однако знаю, что это даже будет неизбежно – от того, что неистребимо.
Я, словно, один в комнате в невероятной тишине, которая нарушена только моими движениями; а вокруг по стенам – рванье и сырость, следы того, что здесь многое время никто не был, и место это забытое. Мне не холодно, и я не испытываю голода, но именно вид и ощущение того, что все здесь забыто, словно парализует, даже мысли не могут, будучи легкими от природы, сопротивляться воздействию, будто сами по себе – не идеальны, а плотские.
Мои чернильные мазки становятся в тягость – потерпите. Чернильная кровь еще не струится по венам реками – это от того, что я еще не нашел сердца. И не возможно не найти его, иначе его движение поддержать будет некому, его терпкий трепет остановится и вместо ребенка родится мертвец. Главный смысл и цель лежат у меня в голове мучительной картинкой, как католические красно-синие витражи; замысловатая тропка петляет к ним, но невозможно провести вас по ней, пока вы не поймете, кто я.
Я согласен с тем, что хочется того, чего нет. Обратное – почти ложь. Мысль о недостижимости делает почти всякого несчастным. Такая мысль есть яд. Мечты – безликие старушки – рассыпались незаметно. Просто в одно прекрасное утро их уже нельзя было отыскать при желании, а сами собой возникшие еще раньше сомнения в их путеводности сгладили потерю этакой привычкой бесполезного наличия. Но это было все потом: несчастие как беспричинное состояние накроет мою мать только гораздо позже, я сам буду, может быть, полуживой частью накатившихся на ее солнце облаков – и это будет не моя воля и даже против моего искреннего желания. Но в тот момент ничто не отвлекало небо от ясной погоды – вначале, хотя и не сразу, а мучительно, моя мать – энергичная, умная и совершенно непоколебимая женщина – заняла место главы одного из департаментов (как они сами называли подразделения городской мэрии), а затем по стечению обстоятельств, заслуг и воли стала, по сути дела, заместителем городского мэра, приготовляясь в дальнейшем заслуженно сменить его через выборы, чего, однако, так и не произошло.
У меня нет и никогда не было ее сил. Она любила меня, это бесспорно и так очевидно, но привыкнув поступать в отношении меня определенным образом, уже не изменяла этой привычке. Бывали моменты, когда я поддавался собственному заблуждению о том, что она ненавидит меня; легко уступая гневу, мать предавалась невольному безумию, возводившему колья, о которые я бесчисленно раз пропарывал себе неокостеневшую грудь.
Было хуже, когда я стал чуть старше. И более всего я мучился именно от того, что некуда было деться. Мое самолюбие, избитое и изнывающее, ясными глазами смотрело на меня, напрасно ожидая, и я, отражаясь в этом взгляде, ничего не мог поделать для него. А мысль о том, что я преувеличиваю значение этого взгляда суть неверна, потому как моя жизнь до сих пор простирается и еще будет длиться вдоль этого взгляда и всегда помнит о нем – не как о памяти, а словно о постоянно присутствующем подле, как о собственном свойстве. От его прохлады моя душа облетала подобно роняющим листы деревьям в самом начале осени – еще редко, но однако неудержимо. И, вместе с тем, я продолжал привязано любить, не имея никого ближе; и, не смея плакать, все хотел прижаться к теплу и согреться, сказать о себе нечто важное и безотлагательное, которого не понимал… но, как понимаю теперь, так и не согрелся – не умея обнять. И как минутами я отчаянно ненавидел! Так отчаянно, что почти можно было потрогать руками эти рваные сгустки, которые, вылетая с моим дыханием, прибивались к стенам, медленно оседали на пол, цеплялись за выступы и растворялись в воздухе моей комнаты лишь спустя дни.
Я предчувствовал и как-то сопротивлялся, всякий раз однако убеждаясь, насколько мал и беспомощен. Так или иначе мне часто говорили об этом – и, боюсь, я однажды поверил. Точка необратимости, когда яд достиг моего сердца и легких, размыта в тех годах, но она без сомнения была, тайно существовала, будучи мною пересечена, а неясность ее проистекает из ее временной ширины и откровенной невидимости, которые вовсе не смогут затмить ее реальности.
Тогда же появилось на свет и соображение о том, что с позором и чужим презрением можно вполне примириться и что главное даже не избежать их (ведь зачастую это невозможно), главное – скрыть все от остальных непосвященных. Я не люблю и, даже будет вернее, беспомощен, когда вокруг множество людей, особенно праздных. От скуки им в голову может прийти мысль взглянуть на меня, и в таком случае я обязательно не найду, что ответить и, скорее всего, совсем растеряюсь. Но когда незаметен, я смотрю на них, на то, как они говорят и смеются, как смотрят и как полны их глаза, как на лицах их сменяются эмоции, собственные, неподдельные, как дети; невластные, невозмутимые, только родившиеся, живые. Для меня это недостижимая роскошь. Порою, глядя на чужие лица, я совсем не представляю своего или оно кажется мне бледным. Глядя на них, я ясно вижу, что все они красивее, как они сильнее и совершеннее. И это так для меня стало явно, что смотреть в глаза им – невозможно. Я это впитал хромосомами, отрава так глубоко проникла, что мне и невозможно вытравить неверия.
О моей беспомощности прознали одноклассники – презлой народец. Мои попытки быть одним из них удавались далеко не всегда да и с каждым разом все меньше. Мне словно не верили и от того разоблачали. Не смотря на мои протесты, по большому счету, я был безобиден и от того часто делался развлечением некоторых особ. И как я не старался сразу же обо всем забывать, как не убеждал себя, оправдывая свою слабость – истинный свет моего положения нельзя было скрыть прежде всего от себя. Школа с того момента быстро стала для меня адом. Заплакать было нельзя, я переносил все молча; пожаловаться, сказать обо всем матери, что я слаб – невозможно. Мысль признаться ей в этом была отчего-то ужаснее всего. Мать решила бы все проблемы, но мое положение стало бы безжалостно публичным, произнесенным вслух. Эта перспектива наводила на меня просто невероятную оторопь. Я был обязан все разрешить сам, и в то же время ничего не мог поделать, от меня ничего ровнехонько не зависело, ибо мои товарищи были злее, изворотливее, увереннее и, одним словом, полноценнее.
А я старательно готовил домашние уроки – чтобы отвлечься, чтобы испытать триумф хорошего ответа. Этакая сублимация. Не имея особых способностей, я даже преуспевал в учебе, но тоже до поры. До того момента, когда появлялись учителя, которые не считали меня способным к их предмету – и я правда становился глуп и ужасно недогадлив, несмотря на все старания.
Однако, справедливости ради, надо сказать, что педагоги относились ко мне весьма сносно и, некоторые из них, как я уже сказал, были мною довольны. Что же они думали на мой личный счет – я не знаю.
Мое самопонимание все тверже вставало на ножки.
Так что однажды совершенно ясно, глядя как-то на групповую фотографию своего класса, которая вобщем-то была откровенно неудачна, ибо фотограф делал свое дело и менее всего, будучи не художником, помышлял о красоте; я оценил и увидел, и это было как окончательное откровение, свою отличительную незрелость. Глупыми карикатурами на снимке были практически все, но в глаза мне бросалась только моя собственная глупость. Я смотрел на маленького, растерянного белобрысого зверька с простудой на губе, терявшегося в дальнем от объектива ряду среди остальных. Одноклассники были мужественнее, и глаза их выражали совсем, как мне казалось, другое; девушки же несмотря ни на что являли черты самодостаточной красоты – среди всех я был зеленоватым пятном. Весьма вероятно, все так и обстояло.
Долгое время мне вообще не приходило в голову, что девочки из класса могут быть не только одноклассницами. А когда проводили школьные вечера, на которых мы все, парни, сидели вдоль стен стесненные, изображая разговоры, не решаясь танцевать, в отличие от наших противоположностей, то в моих сверстниках уже было то томление, помимо просто угловатости и неловкости, которого не было у меня. Я просто стеснялся движений, они же стеснялись еще и желаний, которых у меня не было. Я должен это признать.
Но, пожалуй, мне надо быстрее. Я все приближаюсь к главному, к тому, о чем хочу говорить. Я старательно произвожу нить и, как старательный паук, плету свою паутинку, на которую чуть погодя сядет роса, прохладная, способная блестеть от утреннего солнца, и прилетающие мухи будут сбивать ее вниз, на сонные цветы, на павшие листья, на землю, усыпанную травинками и муравьями.
После десятого меня перевели в другую школу. Все из-за моей неважной успеваемости.
В новой школе были совсем маленькие классы – всего по семь-восемь человек, а не по три десятка; и каждый в отдельности был особенно на виду и занимал свое, особенное место. И это доброе внимание стало для меня волшебным. Никому даже не приходило в голову усмехнуться надо мной или моими заслугами. Меня легко пропустили вперед, и я быстро стал лучшим. За одним исключением все педагоги единогласно отвели моей на тот момент скромной персоне ту ступеньку, которая была чуть выше, чем у остальных, потому что кто-то обязательно должен занимать такое место, а мои новые одноклассники с этим согласились. Я был немного прилежнее, иногда чуть более сообразительнее и даже в чем-то умнее, нежели остальные, – так действовала на меня живая не душная атмосфера новой школы. И мы были внимательнее друг к другу. Я вдруг стал расцветать в этом воздухе, так что мой друг, с которым потом мы навсегда разорвались, испытал откровенную зависть ко мне. Однажды он посчитал, что я удачлив несправедливо. Потом, когда он хотел примирения, я обидел его. На том наша дружба навсегда пресеклась.
Между уроками мы пили чай в небольшой буфетной комнате, где стояли несколько высоких столов, микроволновая печь, висела посуда на белых прутьях сушилки и всегда сидела женщина, гревшая нам чай и булочки. Мы разговаривали, и никто не сомневался в уместности наших друг к другу слов. Нас было мало, как я сказал, не более восьми – единственный одиннадцатый класс. Каждый невольно в центре внимания, на нас смотрели все: от первоклашек до учителей. Может кто-то и был пресыщен этим вниманием, но не я. Я походил на пчелу, брошенную в мед.
И я действительно преуспевал. И были невероятные для меня успехи. Я участвовал в нескольких учебных олимпиадах и занимал там не последние места, даже по тем дисциплинам, которые никогда мне не давались. Химия уже не казалась мне чем-то непотребным, я даже полюбил ее. Никто не мог назвать цепочки этих углеродных связей вернее меня, и я наслаждался химической логикой. Я решал физические задачи с упоением, зная, что они мне покорятся. Я читал поэтов и классику – как никогда. Алгебра, геометрия, английский – во всем была прелесть, самозабвение. Я даже стал выносливее и сильнее, сдавая без проблем все установленные программами нормативы. Я до сих пор помню всех своих учителей, их старания, их деликатность…
Насколько вышло верным – смотреть только на себя, не видя чужих успехов. Как благотворно для меня внимание! Но я все же я не возьму до сих пор в толк, откуда у меня были силы быть планомерным и почти за всем поспевать? Меня конечно поддерживали, однако неужели мое честолюбие проявилось так не свойственной мне неутомимостью!?
Здесь тоже были школьные вечера, на которые собирались все. Так было хорошо! Чего только стоят затеи с “почтой”, когда каждому на грудь крепился номер в виде кружка или ромба – адресат. Потом все писали друг дружке короткие письма, а почтальоны с приятной для всех периодичностью разыскивали получателей. Я почти не писал (исключая выпускной вечер, где я осмелел настолько, что даже не скрывался под своими словами и комплиментами к одноклассницам), но сам получал до четырех-пяти таких записок за вечер, в нескольких были даже признания. С каким невидимым для остальных блаженством я путешествовал по округлостям незнакомого почерка или задерживался взглядом на уголках нестройных литер, упиваясь тем смыслом, который они несли. Чаще всего о писателе строк можно было только догадываться. Только раз было признание от девушки, с которой одно время я сидел за одним столом. Я почти сразу подумал о ней, несмотря на то, что она также не подписалась, – по однажды брошенному на мой номер взгляду, когда она просто штамповала на низком столике, сидя на корточках, десятки таких писем. В отношении меня она это делала то ли из интереса, то ли из желания сделать мне, как и многим остальным, приятно, то ли просто забавляясь. В ее чувства ко мне я, отчего-то, не поверил бы никогда.
А потом все вместе радостные шли домой, говорили о собственных планах, мыслях о будущем и впечатлениях.
В конечном итоге мои выпускные баллы были для меня идеальны – три четверки, все остальное на “отлично”. Это был один из лучших аттестатов в городе. Были отличники и лучше меня, медалисты, но большинство из них очень даже посредственно сдали вступительные экзамены в свои не самые сложные для поступления ВУЗы, подтвердив свою дутость. Мне же, запаса самоуверенности и зародившегося превосходства хватило, чтобы при помощи подготовительных курсов опрокинуть барьеры в лице дисциплин по биологии, анатомии, химии, литературе и языку. Двадцать баллов из двадцати. Университет, медицинский факультет. Как же я был горд и в самой глубине – высокомерен. Естественно, было и везение, простое и подвернувшееся под руку, но только на него нельзя всего списать. Для провинциального выпускника школы мой уровень был высок, экзаменаторы видели через общую неуверенность мое горевшее желание, а мои попытки судить о предмете невзирая на скованность, которая в той или иной мере была на каждом отвечающем, производили на них приятное впечатление; но кроме того, мне ставили высшую оценку, потому что большинство других абитуриентов были хуже. Я стоял на олимпе, с которого открывался совершенно новый, горящий искрами путь, уходящий еще дальше наверх.
Но мое триумфаторство длилось не долго. Привычки мне едва хватило на первый семестр: я не тратил зря денег, не просыпал, потому что ложился спать рано; так же прилежно учил. Однако, постепенно остановился. Подтолкнуть же меня было некому. Здесь, в университете, все было другим: информация, уровень и люди. Мое самомнение распылилось в первые же недели, оставив неприятный честолюбивый привкус. Я действительно старался изо всех доступных сил, как и остальные, но на меня, помимо учебы, навалилось много прочего, о чем ранее я знал, но к чему не привык. И все же моя самостоятельность вполне справлялась с этим неповторимым напряжением первокурсника, и даже здесь, хотя и медленнее и сложнее, но тем более ценно, я стал преуспевать – до тех пор, пока ветерок свободы наконец не влетел однажды в мое окошко, именно так, что я почувствовал его вкус. С этим искушением я не справился, в том числе и от непривычки. Зачем же заставлять себя, если можно не заставлять? После этого сначала медленно все стало расползаться в разные стороны, на все стало не хватать глаз и времени. Время понеслось, и как мне показалось, все наступило мгновенно.
И все равно я долго держался, прежде чем попал в замкнутый круг, который так и не сумел после покинуть, хоть и осознавал его, как мне казалось, от начала и до конца, все его петли, что не торопясь опутывали меня с ног до головы, пока я не упал, так же и в прямом смысле слова. Я не мог его разорвать, как не пытался, видя, как мне казалось, его истоки – это мучило меня, истязало, а мое бессилие выводило меня из себя, но ровно ничего я не мог поделать.
Дотянув до летней сессии, я невероятно слабо сдал экзамены. Преследуемый явной неудачей, я получил низкие оценки по всем трем экзаменационным дисциплинам с чем и вышел на каникулы. Лето дома, казалось, вовсе не пошло впрок – ни сон, ни трехразовое разнообразное питание почти не прибавили сил. С тем я уехал обратно в Город.
Я снова стал пропускать лекционные часы и занятия. Последние, когда был особенно не готов отвечать. Поначалу преподаватели еще верили мне, соглашаясь с моими мнимыми недомоганиями, но потом мои прогулы приняли нещадный характер, так что мой оправдательный лепет тонул в водовороте, состоявшем из лиц профессоров, рьяных педагогов, моей невозможности что-либо усвоить, ожидания санкционных вестей из деканата и страха появиться на очередных «парах» без оправдательных петиций, где меня, несомненно, уже поджидали, чтобы приколотить к месту аршинными гвоздями и высосать весь дух. От этих интонаций и обещаний несладкой жизни мне было не по себе круглые сутки, потому что я уже чувствовал, к чему все идет. Становилось страшно, но я старался гнать от себя всякого рода подобные мысли.
Бодрствование и ночь необъяснимо перемешались. Помню, что я бесконечно почти всегда хотел спать, и утром не было такой силы, которая бы сумела меня растормошить. Нет, я просыпался, но, понимая все возможные последствия, отключал будильник, думая о том, что идти сегодня куда-нибудь совершенно невозможно, и отворачивался от комнаты в утренней темноте, которая быстро разбавлялась и сползала с дремавших предметов. Теплое одеяло и покой я не был в состоянии поменять ни на что и проваливался снова в радужные сновидения – подобие того мира, в котором я хотел остаться. В них я, бывало, тратил деньги, летал, встречал красивых знакомых и совершенно неизвестных девушек и женщин, купался в чистой пронизанной солнцем воде, удивительно ловко нырял, наслаждаясь чуть темной глубиной; смотрел, как плещутся дельфины; совершенно беззаботно смеялся, радовался и часто с удивлением открывал в себе новые свойства и качества, порою и таланты, о которых до сих пор и не подозревал. Порою, правда, и там была своя оборотная, тревожная сторона, заставляющая меня волноваться. Я тогда безмерно верил в сны, со всею внимательностью разгадывая значения только что виденного, особо скрупулезно выискивая и припоминая те знаки, которые бы неоспоримо несли благое и успокоительное. Но порою было так, что всякая буква сулила зло, и я в волнении ожидал неприятностей наяву.
Тем временем академическая задолженность моя росла. Докладные пачками дремали на столе заместителя декана, выдавая меня с потрохами. Они были как пригласительные билеты, от которых я не мог отказаться, я ощущал их каменную тяжесть на своей студенческой шее. Какого же мне стоило труда и душевного излома входить в эту печь из двух комнат – деканат, или в ту каморку поодаль – обитель «замдекана по младшим курсам», строгого, остроглазого человека с темной бородкой в неизменном белом халате, который всякий раз невозмутимо раскладывал компьютерный пасьянс, сидя спиной к входящему! Каждый раз приходилось гадать-думать о том, какие новости унесет моя голова отсюда на этот раз. Бывало, я не решался постучать и войти в течение часа и все бродил в невидимой огромной сфере, центром которой была белая маслянистая дверь этой каморки или узкие бряцающие врата деканата, не имея возможности уйти прочь, как кролик перед змеей. Я слонялся по всему корпусу, все ближе и ближе, с кем-то здоровался, делал вид какой-то занятости, сам трепеща от своей заколдованности, от которой мечешься против воли у края, порываешься уйти, но все равно сваливаешься вниз.
Будто ничего страшнее в мире не было этих дверей! Так я трепетал перед ними… И до трагичного, было совершенно ясно, что чем дальше так будут идти дела, тем только будет хуже, и я все больше и больше походил на стороннего зрителя.
Бывало, проспав несколько часов занятий, я, стыдясь еще не пришедших с учебы соседей по комнате, вставал, умывался и уходил скитаться по городу, стараясь не думать о плохом, чувствуя слабость и, как будто предчувствуя неясную свою будущность. Потом я приходил и снова ложился спать от усталости, а пробудившись под самый вечер, не мог уснуть до утра – читал, смотрел в фосфорицирующий черно-белый маленький экран переносного телевизора; сжигал сигареты без счета, и уже глубокой ночью все чаще начинал погружаться в состояние, когда мутнеющие глаза цепляются за какую-нибудь возможно даже и не несуществующую точку, и неподвижно висел в этой дымке, пока зевота, неожиданно вздувавшаяся на моем языке, не раздвигала упруго мои челюсти, словно как самсоновскому льву, заливая веки слезами.
Вначале часто, но затем все реже и реже, такими ночами я пытался учить до нескольких тем сразу, чтобы назавтра попытаться сдать их и тем закрыть хоть отчасти свое постоянное отсутствие на учебных парах. Но ничего, в конечном счете, не выходило, после трех ночь начинала лететь галопом, я не успевал, а лишь все сильнее хотел уснуть. Бывало так, что я шел после таких ночей на занятия, мечтая поскорее вернуться и провалиться в кровать. На такое мучение меня гнало скорее отчаяние и страх, тихая истерика. Я весь день ходил черным совенком, ощущая в голове парные разливы, а когда приходил наконец домой, то, повалившись в кровать, тревожно висел меж сном и явью несколько часов или, бывало, до полуночи и снова потом не мог спать. И на следующий день уже точно никуда не шел, стараясь опять не думать, чем все для меня обернется.
Мои соседи иногда шутили надо мной, положа руку на сердце, беззлобно. Серьезно они обсуждали меня наедине. Я им мешал своими ночными блужданиями и шелестом.
Писать домой я совсем перестал, а звонить было мучением – у меня не хватало фантазии так врать. Я сам отчетливо слышал, что мои вечерние рассказы матери о прошедшем дне однообразны и напрочь лишены событий. Мне, честно сказать, становилось все равно, только бы от меня отвязались.
Я пристрастился бродить по темноте в городе, стараясь не попасться на глаза редким знакомым, с кем пришлось бы перекинуться словами. Часто сидел в компьютерном клубе, стреляя в многочисленных врагов. Тогда впервые я ощутил себя брошенным на воду поплавком, нахлебавшимся сквозь невидимую щелку воды и от того отяжелевшим. Я читал «Бесов». Смысл их смутно доходил до меня, но я все же не мог оторваться, и словно поглощал страницы маленькими кусочками, и вместе с тем не мог долго читать и уставал. Но эти образы шлялись передо мной, как перед полуослепшим, махали руками, разговаривали…большая часть их устремлений оставалась мне непонятна, но все равно они нравились мне, и я упорно продолжал за ними следить.
Я специально писал ободряющие стихи и такие, которые были совсем безнадежны, смотрел абсолютно все футбольные матчи; ходил в кино один, отчего-то стыдясь брать в кассе билет именно потому что я один. И никого близко не знал…
Таким образом я заработал свое нервное истощение. Слабосильная худоба, блестящие глаза с тенями, розовые угри на постоянно жирной, посмуглевшей за последнее время коже, обострившийся гастрит и вовсе прохудившаяся память – вот он я.
Таким полупризрачным я отбыл в академический отпуск, выбитый всеми средствами моей матерью. Но, таким образом, выходило, что жизнь продолжается. У меня было больше полугода времени, чтобы все рассудить и выставить на места, отдохнуть. Вскрылось мое печеночное расстройство и большей частью оправдало меня. Я продолжал учиться, мне как будто предоставлялся новый шанс, и я даже повеселел от всего этого.
2.
Нет сейчас ничего важнее, чем правильно класть краску. Неосторожность, неверное движение (кабы я еще знал меру этой верности) испортит сотню существующих и еще только будущих мазков. Смажет в отчаянную грязь, от которой на руке останется невыносимый след, все это множество самых чутких, на которые я только способен, прикосновений. Свет прекратится, замрет и так и не станет переливаться в гранях; и после – не будет слепить мне глаза радостный, быть может, предназначенный только для меня, восход…, все обернется неудачной фотографией – другими словами, иного измерения не выйдет. И потому, замирая теперь над холстом из собственной кожи, я почти не дышу и чувствую, как сдерживается, боясь расплескаться, мое осторожное сердце. Я так жажду, чтобы вы меня поняли, и вместе с тем также сильно хочу, чтобы вы меня не понимали…
Остаток зимы и весну я безвылазно провел дома, в своем городке. В мечтах о Городе. Спал, смотрел телевизор, читал, иногда выходил гулять на улицы, но чаще совсем в противоположную сторону, на окраины и затем к огромному озеру. Бывало, натянув свои прогулочные штаны поверх сапог, я пробирался среди замерзших кустов через метровый сугроб, скопившийся вдоль дороги, на которой рыхлой коричневатой массой трагично умирал от соли снег – иногда мне приходило в голову, что мое состояние похоже на него, по-крайней мере цветом – непередаваемый болезненный оттенок топленого молока, пропитанного жженным сахаром.
Выбравшись с дороги на большую заснеженную поляну, я принимался делать солнечные часы: вытаптывал на снегу, который доходил здесь всего до верха сапог, круг, в центр которого втыкал сосновый высохший сук, и тень от этой тянущейся к небу руки начинала медленно ползти от одного деления к другому. Я мог несколько часов просидеть на поваленной сосне, среди ее сучьев. Лицом к невидимой дороге, спиной к молчаливым рельсам за полоской леса. Слева из снега начинали подниматься на десяток метров вверх темные, покатые, обросшие кустарником скалы – туда я забирался, когда пришла окончательно весна; справа же торчал сухой камыш, потряхивая от ветерка желтыми изогнувшимися колосьями. Обычно всю поляну заливало солнце, и мои следы и часы бросались в глаза тем, что нарушали эту чуть матовую, слегка искрящуюся застывшую поверхность – как отдельное мгновение жизни несуществующего озера, запечатленное таким удивительным образом неизвестно кем и с какой целью. Эта радость и очарование струившиеся через меня потерялись, когда сошел в конце концов снег, и несдерживаемые ничем сюда могли забрести люди, даже дети со своими велосипедами или ищущие уединения влюбленные. Они бесцеремонно выгнали меня, даже не заметив. Безраздельным владельцем я был только несколько месяцев, когда никому в голову не пришло оспаривать моих прав на эту великолепную комнату с потолком из неба, под которым, сидя в объятиях звонких, мною же и обломанных ветвей, я читал Новый Завет и дышал воздухом. Довольно часто в следующий визит сюда я находил дорожки следов от белок и еще более мелких петляющих созданий, один раз ночью или утром поляну перебежал заяц, и однажды рядом с моим деревянным троном появились широкие следы неспешно прошедшего существа, которого я с восхищением стал считать небольшим медведем.








