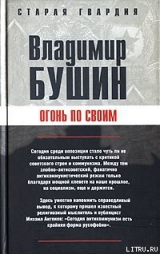
Текст книги "Огонь по своим"
Автор книги: Владимир Бушин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Да, много было в этой женщине таинственного, говорил Солоухин. Еще и умерла в тридцать лет. Надо же! Ну кто из порядочных людей с чистой совестью умирает в таком возрасте! И в подтверждение загадочности Солоухин опять цитировал Н. Мандельштам: «Мне не верится: неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу?» Действительно, обыкновенный тиф косил тогда тысячи и тысячи обыкновенных людей, но тут-то была необыкновенная красавица! Известно же, что на них, на таких красавиц, абсолютно не действуют ни тиф, ни чума, ни сибирская язва, а может, и атомная бомба. И совершенно ясно, что Лариса Рейснер нарочно, целенаправленно умерла, мерзавка, чтобы унести в могилу тайну смерти Блока и ответственности за нее Ленина; а может, и Луначарского. Пастернак, у которого Андрей Вознесенский перенял склонность к погребальным одам, писал о смерти Ларисы:
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Мне хорошо в твоей большой тени.
По-моему, первая и последняя строки тут вполне вразумительны.
Теперь вернемся на землю и обратимся к документам. Так вот, сперва не Горький писал Ленину о Блоке и не Луначарский перехватил письмо да наплевал на него, как уверяет А. Бобров, а сам Луначарский еще 8 июля 1921 года направил письмо наркому иностранных дел Г. В. Чичерину, в Особый отдел ВЧК В. Р. Менжинскому и управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбунову. Сразу по трем высоким адресам! Поскольку обвинения Боброва слишком тяжкие, придется дать это письмо достаточно полно: «Общее положение писателей в России чрезвычайно тяжелое. Вам, вероятно, известно дело об отпуске за границу Сологуба и просьбы о том же Ремизова и Белого; но особенно трагично повернулось дело с Александром Блоком, несомненно, самым талантливым и наиболее нам симпатизирующим из известных русских поэтов. Я предпринимал все зависящие от меня шаги, как в смысле разрешения Блоку отпуска за границу, так и в смысле его устройства в сколько-нибудь удовлетворительных условиях здесь». Из последних слов видно, что это письмо не первая попытка Луначарского помочь поэту.
Дальше: «Блок сейчас тяжело болен цингой и серьезно психически расстроен, так что боится тяжелого психического заболевания. Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его <…> Я еще раз (еще раз! – В.Б.) в самой энергичной форме протестую против невнимательного отношения ведомств к нуждам крупнейших русских писателей и с той же энергией ходатайствую о немедленном разрешении Блоку выехать в Финляндию для лечения» (там же, с. 22). Интересно знать, писал ли когда-нибудь Бобров с такой же энергией подобные письма хотя бы в райком партии. Ведь дело не в должности, а в любви к родной культуре, в желании защитить ее…
Через два дня, 11 июля, Луначарский направил письма по этому же вопросу еще выше – уже в ЦК и лично Ленину: «Поэт Александр Блок, в течение всех этих четырех лет державшийся вполне лояльно по отношению к Советской власти и написавший ряд сочинений, учтенных за границей как явно симпатизирующие Октябрьской революции, в настоящее время тяжело заболел нервным расстройством. По мнению врачей и друзей, единственной возможностью поправить его является временный отпуск в Финляндию. Я лично и т. Горький об этом ходатайствуем. Бумаги находятся в Особом отделе ВЧК. Просим ЦК повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле» (там же, с. 24).
В этот же день Ленин, прочитав письмо Луначарского, пишет на нем: «т. Менжинскому! Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом» (там же). Солоухин в своем пронзительном изыскании о мышьяке особенно подчеркивал то обстоятельство, что Ленин запросил не Наркомздрав, а именно ВЧК, Менжинского: они, мол, травили, они и знают, когда наступит конец, и, значит, сколько надо еще помурыжить с решением, чтобы дождаться кончины поэта здесь, а не за границей. Баловень фирмы Belka писал крупными буквами: «БОЛЕЗНЬ БЛОКА ПРОХОДИЛА ПО ВЕДОМСТВУ МЕНЖИНСКОГО. Другого объяснения этому (письму Ленина в ВЧК) нет». О такой простоте нельзя воскликнуть: «О, святая!» А дело-то действительно простое: тогда ВЧК, как позже КГБ, принимала участие в решении вопроса о выезде граждан за границу, в том числе – всех писателей. Что же до Наркомздрава, то обращаться туда не было никакой необходимости: Ленин верил Луначарскому и Горькому, что Блок болен.
В этот же день Менжинский пишет Ленину: «Уважаемый товарищ! За Бальмонта ручался не только Луначарский, но и Бухарин. Блок натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории» (Там же).
На другой день, 12 июля, Политбюро решило: «Ходатайство тт. Луначарского и Горького об отпуске в Финляндию А. Блока отклонить. Поручить Наркомпроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока» (там же, с. 25).
Понять такое решение нетрудно, ибо незадолго до этого, 19 апреля, Дзержинский докладывал в ЦК: «До сих пор ни одно из выпущенных лиц (как, например, Кусевицкий, Гзовская, Гайданов, Бальмонт) не вернулись обратно, некоторые – в частности Бальмонт – ведут злостную кампанию против нас <…> ВЧК просит Центральный комитет относиться к этому вопросу со всей серьезностью» (там же, с. 15). А через месяц, 18 мая, секретарь ЦК В. М. Молотов получил новое сообщение из ВЧК: «Из числа выехавших за границу с разрешения Наркомпроса вернулось только 5 человек, остальные 19 не вернулись, 1 (Бальмонт) ведет самую гнусную кампанию против Советской России» (там же, с. 18). Действительно, стоит лишь вспомнить, как пламенно Константин Бальмонт даже здесь, на родине, прославлял тех, кто покушался на Ленина и убил Урицкого:
Люба моя мне буква «К».
Вокруг нее сияет бисер.
И да получат свет венка
Борцы – Каплан и Канегиссер!
Как известно, оба покушения произошли в 1918 году, тогда же были написаны и эти стихи. Так что А. Н. Яковлев вводит в заблуждение читателей, публикуя комментарии к приведенному выше документу, в которых утверждается, будто Бальмонт «проявлял лояльность к Советской власти вплоть до кронштадтских событий марта 1921 года, когда поэт выступил с резкой антибольшевистской статьей» (там же, с. 734).
А что вытворяла в Варшаве, Берлине и Париже дружная трехчленная семейка Мережковского – Гиппиус – Философова, удравшая на Запад безо всякого разрешения… «Царство Антихриста!» – в три глотки вопили они на всю Европу о Советской России.
Наконец, 28 июня Молотов получает новое письмо из ВЧК, где говорилось:
«В ИноВЧК в настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Венгеровой, Блока, Сологуба – о выезде за границу.
Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями – ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства» (там же, с. 20–21).
Из процитированных документов видно, что поначалу Советская власть давала разрешение на выезд за границу довольно просто, но реальность, увы, заставила ее стать строже. Именно в этом конкретном историческом контексте и следует рассматривать вопрос об отказе Блоку. Впрочем, на том же заседании Политбюро почему-то было дано разрешение Сологубу.
И Горький и Луначарский не прекращают своих усилий. Первый пишет Ленину то самое большое письмо, о котором упомянул Бобров: «Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу Совправительства, А. А. Блок умирает от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в санаторию. Его – не выпускают, но, в то же время, выпустили за границу трех литераторов, которые будут хулить и клеветать – будут. (Имелись в виду Ф. К. Сологуб, К. Д. Бальмонт и, вероятно, М. П. Арцибашев. – В.Б.). Я знаю, что Соввласть от этого не пострадает, я желал бы, чтобы за границу выпустили всех, кто туда стремится, но я не понимаю такой странной политики: она кажется мне подозрительной, нарочитой. Невольно вспоминается случай с Щпицбергом, „коммунистом“ и следователем ВЧК по делам духовенства. Этот Шпицберг во времена царского режима был мелким гнусненьким адвокатом по бракоразводным делам. Человек темный, он даже в Духовных консисториях вызывал презрительное отношение к себе. После Октября он объявил себя „богоборцем“ (как ныне вчерашние богоборцы объявляют себя воинами Христа. – В.Б.), выступал на митингах с А. В. Луначарским, редактировал с Красиковым журнал „Церковь и революция“, наконец – проник в ВЧК и, работая там в качестве следователя, совершил бесчисленное количество всяких мерзостей, крайне вредных для престижа Сов-правительства. Я слышал, что его, наконец, выгнали из ВЧК, да, кстати, и из партии. Это – хорошо, но не осталось ли там еще одного Шпицберга?» (там же, с. 26).
Сохранилась записка Ленина: «Из ЧК выгнали: Шпицберг выгнан из партии месяца три назад (Сволочь определенная)» (там же, с. 734). А на вопрос Горького, не осталось ли в ЧК еще одного Шпицберга, увы, приходится ответить, что не только осталось, но там со временем шпицберги невероятно еще и расплодились.
А что Луначарский? 16 июля он опять пишет в ЦК РКП:
«Решения ЦК по поводу Блока и Сологуба кажутся мне плодом явного недоразумения. Трудно представить себе решение, нерациональность которого в такой огромной мере бросалась бы в глаза. Кто такой Сологуб? Старый писатель, не возбуждающий более никаких надежд, самым злостным и ядовитым образом настроенный против Советской России, везущий с собой за границу злобную сатиру под названием «Китайская республика равных». И этого человека, относительно которого я никогда не настаивал, за которого я, как народный комиссар просвещения, ни разу не ручался (да и было бы бессовестно), о котором я говорил только, что поставлен в тяжелое положение, ибо ВЧК не отпускает его, а Наркомпрод и Наркомфин не дают мне средств его содержать, этого человека вы отпускаете. Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды, вместе с Брюсовым и Горьким главное украшение всей нашей литературы, так сказать, вчерашнего дня… Человек, о котором газета «Таймс» недавно написала большую статью, называя его самым выдающимся поэтом России и указывая на то, что он признает и восхваляет Октябрьскую революцию.
В то время как Сологуб попросту подголадывает, имея, впрочем, большой заработок, Блок заболел тяжелой ипохондрией, и выезд его за границу признан врачами единственным средством спасти его от смерти. Но вы его не отпускаете. Накануне получения вашего решения я говорил об этом факте с В. И. Лениным, который просил меня послать соответствующую просьбу в ЦК, а копию ему, обещая всячески поддержать отпуск Блока в Финляндию. Но ЦК вовсе не считает нужным запросить у народного комиссара по просвещению его мотивы, рассматривая эти вопросы заглазно и, конечно, совершает грубую ошибку. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высоко даровитый Блок умрет недели через две, а Федор Кузьмич Сологуб напишет по этому поводу отчаянную, полную брани и проклятий статью, против которой мы будем беззащитны, т. к. основание этой статьи, т. е. тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению.
Копию этого письма я посылаю В. И. Ленину, заинтересовавшемуся судьбой Блока, и тов. Горькому, чтобы лучшие писатели России знали, что я в этом (пусть ЦК простит мне это выражение) легкомысленном решении нисколько не повинен» (там же, с. 28).
Не знаю, сбылось ли предсказание о статье Сологуба, но Блок умер именно через две недели…
Прошло 82 года, и один из лучших писателей России на страницах одной из лучших газет России твердит: «виноват Луначарский!».
Через несколько дней член Политбюро Л. Б. Каменев писал Молотову: «Я и Ленин предлагаем:
1. Пересмотреть вопрос о поездке за границу А. А. Блока. На прошлом ПБ «за» голосовали Троцкий и я, против – Ленин, Зиновьев, Молотов. Теперь Ленин переходит к нам» (там же, с.29). Судя по всему, Ленин изменил свою точку зрения под влиянием именно Луначарского.
На заседании 23 июля Политбюро постановило: «Разрешить выезд А. А. Блоку за границу» (там же).
Так что Андрей Турков ошибается, уверяя, что «попытки Горького и др. добиться разрешения на выезд поэта за границу для лечения остались безрезультатными» (Русские писатели XX века. М, 2000, с. 98–99). Другое дело, что Блоку было уже так плохо, что воспользоваться разрешением он не мог. 7 августа 1921 года поэт умер. Ему было сорок лет.
Луначарский умер в 1933 году. Ему было пятьдесят восемь. Александр Бобров, слава Богу, благополучно здравствует. Ему скоро шестьдесят…
В предвидении того, что я могу быть приглашен на юбилей Боброва, заранее дарю ему на память еще один драгоценный факт из жизни Луначарского – его «весьма срочное» письмо В. И. Ленину от 13 января 1922 года. Анатолий Васильевич писал:
«Дорогой Владимир Ильич, тов. Енукидзе вчера сказал мне, что на последнем заседании Политбюро вновь решено закрыть Большой театр <…> Я протестую самым категорическим образом <…> Центральный Комитет собирается внезапно, не уведомляя меня ни одним словом и не заслушав ни одного компетентного лица, делает жест, который, как я сейчас докажу Вам, является компрометирующим его абсурдом.<…> Я формально протестую против решения Центрального Комитета, принятого без меня, и категорически требую пересмотреть это решение по заслушивании моих аргументов против него. Об этом я посылаю заявление и секретарю ЦК» (В. М. Молотову).
Письмо длинное. В нем автор рассмотрел и эстетическую сторону вопроса, и экономическую, и чисто человеческую: «Мы лишили бы куска хлеба полторы тысячи людей с их семьями, быть может, уморили бы голодом несколько десятков детей. Вот что значит закрытие Большого театра».
Кончалось письмо так: «Если законы конституции не распространяются на ЦК, то законы разумности безусловно распространяются. Как тут быть и кому жаловаться?
Уверенный в том, что Вы, Владимир Ильич, не рассердитесь на мое письмо, а, наоборот, исправите сделанный промах, крепко жму Вашу руку».
Луначарского энергично поддержал, возможно, по его просьбе, председатель ВЦИК (как бы президент) и член ЦК Михаил Иванович Калинин. Накануне окончательного рассмотрения вопроса в Политбюро его членам была роздана записка, в которой тверской крестьянин вразумлял партийных интеллигентов: «Мне кажется, прежде чем разрушать огромную, накопленную целыми поколениями культурную ценность в лице оперных и балетных артистов, их профессиональную спаянность – необходимо предварительно решить: кто же должен занять их место, т. е. какой вид искусства займет место уничтоженных оперы и балета. <…> Разве этот вид искусства несовместим с Советским строем? Или зрительные залы бывают пусты?.. Большой театр, несомненно, играет не меньшую воспитательную роль для своих посетителей, чем публичная библиотека. Неправда, что Большой театр посещают одни спекулянты. <…> Я надеюсь, что Политбюро пересмотрит и отменит свое решение» (там же, с. 735).
И что же? Политбюро пересмотрело свое решение и отменило его.
И невольно приходит на ум: а что было бы, если наркомом просвещения тогда работал культурный революционер Швыдкой, а президентом – лошкарь Ельцин?
P.S. Между прочим, мать Луначарского – Александра Яковлевна Ростовцева, дворянка, отец – Александр Иванович Антонов, действительный статский советник, то бишь гражданский генерал. А фамилию он носил Василия Федоровича Луначарского, статского советника, с которым мать состояла в официальном браке, и даже отчество у него взял. Анатолий Васильевич был человеком огромной культуры, пользовался в стране большим уважением и авторитетом. Он никогда не мог бы, например, как некоторые нынешние его ненавистники, стихи Алигер приписать Эренбургу, да еще обвинить того в плохом знании русского языка.
Это был человек стасовского кругозора, стасовских интересов, стасовского темперамента. Он писал об искусстве прошлого и современности – и о литературе, и о живописи, и о ваянии. Если вспомнить хотя бы наиболее крупные имена русской литературной классики, блиставшие под пером Луначарского, то это будут Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Некрасов, Достоевский… Из его современников, из советских писателей – Короленко, Горький, Блок, Маяковский, Есенин, Леонов, Фурманов, Шолохов, Фадеев… Из мировой классики – Шекспир, Свифт, Гёте, Шиллер, Флобер, Диккенс, Золя, Ибсен, Франс… Я думаю, что нынешний «нарком просвещения» иные из этих имен и не слышал… В 1930 году Луначарский был избран действительным членом Академии наук, – не той, «Славянской», что сгондобил энтузиаст Исхаков, а которую с 1917 года двадцать лет возглавлял Александр Петрович Карпинский, знаменитый основатель русской геологической научной школы, академик еще с царских времен, с 1896 года.
Как неутомимому защитнику русской культуры Луначарскому давным-давно надо бы поставить памятник. И если Союз писателей поручит при его открытии произнести речь Александру Боброву, который к радости сфер так обильно уснащает свои публикации именами отцов церкви, святых и великомучеников, то, надеюсь, он исправит свою ошибку и вспомнит, что это памятник одному из мучеников, который смело шел на святой подвиг сбережения русской культуры.
«Патриот», № 45–46, ноябрь 2003 г.
СОБЛАЗН ПРОКУКАРЕКАТЬ ПЕРВЫМ
(С. Куняев)
Недавно в «Правде» Станислав Куняев объявил, что стоит на консервативных позициях. Очень хорошо. Я тоже консерватор. Может быть, даже мракобес. Предполагаю, что именно так меня и понимают, допустим, М. Шатров и Е. Евтушенко. Ну как же! Ведь я против столь любезных им бесконечных революций, тем паче, если революцию возводят в квадрат и радостно сообщают с пригорка: вот вам «революция в революции», ликуйте! Не могу ликовать… Я против бесчисленных встрясок во всех областях жизни. Я, постепеновец, за осмотрительность и взвешенность, за сбережение ценностей, добытых народом веками. Как же не мракобес! Словом, вроде бы мы со Ст. Куняевым соседи, стоим рядом, и даже плечом к плечу. И должен бы я, как мракобес мракобеса, во всем его понимать и поддерживать. Должен. Но…
Вот недавняя его статья «Человеческое и тоталитарное». Не имея намерения давать ей здесь общую характеристику, не могу пройти мимо некоторых суждений и оценок критика в главе «О революционной законности и большом терроре». В ходе своих изысканий в данном вопросе автор в частности заявляет: «Не будем делать из Бухарина крестьянского заступника, чем занимаются сегодня многие средства массовой информации. Не случайно, что именно Бухарину, своему единомышленнику по отношению к русскому крестьянству как реакционной силе, М. Горький в 1925 году пишет письмо-совет или даже письмо-инструкцию со следующим содержанием…» Максима Горького критик рисует в образе главного ненавистника русского крестьянства, дающего инструкции своим подручным в Политбюро. К тому же инструкции тайные, поскольку письмо имело личный характер и 65 лет не публиковалось.
Вот текст этой тайной инструкции, почему-то не зашифрованный: «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, даже неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы лишь вредна, заострила бы мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика – и нещадная – этой идеологии должна быть теперь же.
Талантливый трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которой требует время и его задачи, огромность которых невообразима».
Отношение Горького к деревне вопрос очень сложный. Кое в чем весьма существенном великий писатель был здесь не прав. Пока отметим только для никогда не ошибающихся дистиллированных праведников, что это отношение определялось во многом тревогой за малочисленный тогда русский рабочий класс. В письме от 23 июня 1925 года тому же Бухарину он писал: «Нет, дорогой Николай Иванович, я не боюсь, что „мужик съест“. Однако же когда представишь себе всю огромность всемирной русско-китайско-индусской деревни, а впереди ее небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры, русского коммуниста, то, всматриваясь в соотношение сил, испытываешь некоторую тревогу». Горький был обеспокоен не вообще работой писателей-крестьян, не произведениями о деревне как таковыми, – писатель считал нужным выступить против «возрождающегося сентиментализма» в изображении деревни, против попыток представить ее безмятежным «раем»; против бездумного поклонения идеализированному мужику, – идеализация вредна и опасна в любом деле. В только что цитированном письме Горький продолжал: «И когда я вижу, что о деревне пишут – снова! – дифирамбы гекзаметром, создают во славу ее „поэмы“ в стиле Златовратского, – это меня не восхищает. Мне гораздо более по душе и по разуму солененькие рассказы о деревне старого знакомого моего Пантелеймона Романова».
В письме, превращенном С. Куняевым в «инструкцию», как и во втором, речь шла о вопросе чисто идеологическом, и важно подчеркнуть, что Горький считал совершенно недопустимой всякую цензуру в отношении авторов чуждого ему направления. И как бы то ни было, а идейное расхождение в литературе, конфликт, самое резкое противостояние он, в отличие от некоторых тогдашних и нынешних «прорабов», считал возможным решать только средствами критики, то есть спора, дискуссии, а не печатной угрозы, допустим, при встрече съездить литературному противнику по салазкам, как мы видим это в наши дни. (Смотри «Московский литератор», № 42, 1989.) Нельзя не отметить и того, что, считая в ту пору лирику Есенина несвоевременной, Горький тем не менее давал ей высокую оценку. Много ли может указать нам С. Куняев подобных жестов в наши дни?
Все эти непустячные достоинства позиции писателя не заинтересовали Ст. Куняева, он продолжает высвечивать роль Горького в «большом терроре», пока – идеологическом: «Жаль, что это письмо опубликовано лишь сегодня („Известия ЦК КПСС“, 1989, № 1), иначе давно стало бы ясно, что Бухарин в „Злых заметках“ с вдохновением выполнил пожелание Горького». Почему же пожелание? Инструкцию!
Об этих «Заметках» Ст. Куняев писал в 1989 году так: «В них Бухарин издевается над поэзией Тютчева, над расстрелянными дочерями (девочками!) последнего царя («которые в свое время были немного перестреляны, отжили за ненадобностью свой век») и, в первую очередь, над великим русским народным поэтом Сергеем Есениным: «Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого „национального характера“, все это наше рабское историческое прошлое, еще живущее в нас, воспевается, возвеличивается, ставится на пьедестал лихой и в то же время пьяно рыдающей поэзии Есенина»; «с мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин»; «причудливая смесь из „кобелей“, „икон“, „сисястых баб“, „жарких свечей“, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии… и т. д. – все это под колпаком юродствующего квазинародного национализма – вот что такое есенинщина». Да, все это в бухаринской статье есть. И вот теперь Ст. Куняев уверяет, что вдохновителем всего этого был не кто иной, как Максим Горький…
Нашего критика не смутило ни то, что между письмом Горького и статьей Бухарина пролегло полтора года; ни то, что изображать Бухарина простачком, жившим чужими мыслями и легко управляемым тайными «инструкциями», значит, ничего не знать о Бухарине; ни то, наконец, что не прошло и двух месяцев после статьи «Злые заметки», напечатанной в «Правде» 12 января 1927 года, как пятого марта в «Красной газете» появился знаменитый очерк Горького о Есенине, пронизанный такой болью за его судьбу и таким восхищением его поэзией!.. Ст. Куняев, стремясь убедить нас в полном единомыслии и четкой согласованности действий Горького и автора «Злых заметок», порой прибегает к неосновательным намекам и слишком вольным допущениям: «не случайно»… «понятно» и т. п. Но ему почему-то не пришло в голову, что, может быть, очерк Горького появился не случайно, может быть, это сознательный и намеренный ответ на «Злые заметки».
Вспомним хотя бы несколько фраз из этого очерка: «его размашистые яркие, удивительно сердечные стихи»… «изумительный рязанский поэт»… «Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью»… «Взволновал он меня (чтением монолога Хлопуши. – В.Б.) до спазмы в горле, хотелось рыдать. Помнится, не мог сказать ему никаких похвал»… «Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой „печали полей“, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком»…[4]4
Слова о милосердии к человеку дают богатую пишу для размышления с связи с тем, что ныне так часто ставятся в вину Горькому слова его персонажа: «Жалость унижает человека».
[Закрыть] И этот влюбленный почитатель, так писавший о Есенине, под пером моего единомышленника предстает ныне как инструктор и организатор разносных статей против поэта, как вдохновитель его посмертной травли!
Но читаем статью дальше: «Весьма любопытно, что «нещадную критику» крестьянской литературы Горький считает по плечу лишь двум идеологам – Троцкому и Бухарину, признавая их настоящими «мужикоборцами».
Ни о каких «мужикоборцах» в письме не упоминается. И неизвестно, откуда автор знает, что писатель рассчитывал лишь на двоих. Может, он подобные тайные инструкции рассылал во все концы страны пачками? Но гораздо важнее то, что здесь до предела выправлены и упрощены отношения Горького не только к Бухарину, но и к Троцкому. Напомним лишь один эпизод.
Горький вскоре после смерти В. И. Ленина опубликовал в «Русском современнике» (№ 1, 1924 г.) воспоминания о нем. Троцкий, который в это время сам работал над книгой о Ленине, немедленно отозвался в «Правде» статьей «Верное и фальшивое о Ленине». И для тона и для сути статьи характерно сочувствие, с коим автор вспоминал слова какого-то безымянного «питерского рабочего», который-де когда-то предлагал «без слезливой сентиментальности» в случае чего «подвезти под Петроград динамиту да взорвать все». Видя в этом «настоящее отношение к культуре», Троцкий, по его словам, смотрел на динамитчика «любящими глазами». И революционером именно такого толка, «революционером без оглядки», он пытался представить Ленина. И потому язвительно иронизировал над тем, что писатель видел в жизни Ленина «подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости», посмеивался над словами о том, что Ленину приходилось иногда «держать душу за крылья». В Институте мировой литературы хранится письмо Горького, где в частности сказано: «Суждение Льва Троцкого по поводу моих воспоминаний о Ленине написаны хамовато по моему адресу и с неожиданным для меня цинизмом демагога». Сказано точно, а дальше – и прозорливо: «Не хочет ли Троцкий, рисуя Ленина таким топором, таким „революционером без оглядки“, взвалить на него всю тяжесть ответственности перед историей за „разбитые горшки“?.. Похоже. „Революционер без оглядки“ – это был тип, презираемый Ильичем, враждебный ему». И, наконец: «Если бы я хотел, я мог бы возразить Троцкому, опубликовав письмо Ильича о Зиновьеве: там очень веско говорится о людях „без оглядки действующих со страха“, о „лакеях революции“ и вообще о лакеях».
Готовя очерк для отдельного издания, а позже существенно перерабатывая его, Горький игнорировал все суждения и претензии Троцкого. Что касается упомянутой книги Троцкого о Ленине, то она вышла в мае 1924 года. В письме Горького А. И. Рыкову из Сорренто 24 декабря 1924 года упоминается о ней: «Книгу его я не читал, эмигрантская печать обрадована ею, как жирной купеческой милостыней за упокой родителей». Между прочим, в том самом номере «Известий ЦК КПСС», на который ссылается Ст. Куняев, об этой книге Троцкого сказано: «В ней была искажена роль В. И. Ленина в Октябрьской революции. Даже меньшевистский «Социалистический вестник» отметил, что Л. Д. Троцкий «издевается над памятью В. Ленина». Вот такие случались эпизоды между Горьким и Троцким. О некоторых других упомянем ниже.
Всего этого Ст. Куняев либо не знает, либо не желает принимать в расчет. И продолжает искать о Горьком что-нибудь еще поскосительней. И представьте себе, находит! Притом опять в сфере «большого террора», но уже не идеологического, а террора в прямом смысле: «Понятно (так и видится мне, как автор при этих словах потирает руки. – В.Б.), почему при таких убеждениях (по крестьянскому вопросу. – В.Б.) десятилетие спустя М. Горький не заступился ни за Клюева, ни за Клычкова, ни за Платонова, ни за Павла Васильева».
Выказанная здесь «понятливость» изумляет и удручает. Да неужели сам Куняев, имея на то возможность, не попытался бы помочь в лихой беде, допустим, своему литературному противнику, но все же тезке Ст. Рассадину? Не могу поверить. Я лично помог бы. Хотя он мне совсем не тезка, и не раз писал про меня нечто весьма прискорбное. Или вот В. Лакшин. Я не раз спорил с ним, и он отвечал мне достаточно резко. Но в журнале «Москва» могут подтвердить, что в одной статье за участие в создании цикла телепередач о Чехове я предлагал выдвинуть его на Государственную премию. И сделал это, право, не только потому, что мы тезки. Увы, статью М. Алексеев не напечатал… Сократили эти строки и в «Коммунисте Вооруженных сил». А ведь здесь-то речь шла совсем не о лихой беде! Если будет за что, с легким сердцем выдвину я и Рассадина.
Да, не могу поверить, что Ст. Куняев отрицает приоритет общечеловеческих ценностей. И непонятно мне, откуда эта убежденность в том, что всемирно прославленный и влиятельный писатель не пожелал спасти от гибели младших собратьев по литературе исключительно только из-за расхождений во взглядах по крестьянскому вопросу. Черт с вами, мол, пусть вас сажают и расстреливают, коли вы со мной не согласны! Так, что ли?
В куняевском обвинении непонятно мне и еще многое. Например, как оказались у критика в «крестьянской литературе» и даже в числе «писателей-крестьян» П. Васильев и А. Платонов? А принимает ли автор в расчет, что все названные им писателя пережили Горького, кто на год-полтора, кто лет на пять, а кто и на все пятнадцать? И как можно ставить в один ряд, на одну доску, допустим, того же П. Васильева, который действительно был расстрелян в 1937 году, и А. Платонова, литературная судьба которого была очень трудной, но все-таки уголовным репрессиям он не подвергался? Ну, а ведомо ли автору, что П. Васильев был арестован в 1937 году весной, а С. Клычков – в ночь на первое августа 1937 года, когда Горького уже год с лишним не было в живых? Или ныне, в эпоху всеохватных разоблачений, можно и покойника обвинить в том, что он из могилы не помог живому?






