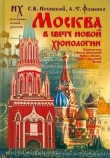Текст книги "Москва в лесах"
Автор книги: Владимир Ресин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Между Прокофьевым и Лужковым произошел такой драматический диалог:
– Предлагаю немедленно явиться ко мне для получения инструкций, сказал Прокофьев в категорическом тоне приказа, чего себе прежде никогда не позволял по отношению к Лужкову.
– Не понимаю, чем вызван такой тон...
– Слышал, что произошло? Так вот, все должно измениться. Предлагаю приехать немедленно.
– Я договорился о встрече с Ельциным...
– К Ельцину ехать не надо, иначе об этом пожалеешь.
– Юрий Михайлович, – сказал вслед затем доверительным тоном Прокофьев, перейдя с "ты" на "вы", – не будьте безумцем. Игра сделана. Вы сейчас против этой мощи не попрете. Давайте приезжайте ко мне и будем думать, как быть дальше.
На что Лужков ответил:
– Мне у вас делать нечего. Мы примем все меры, чтобы вас поставить на место, и я поеду к президенту!
– Но это безумие. Вы не доедете до него, и даже жизнь вашу гарантировать нельзя...
На этом разговор закончился.
– Юрий Михайлович! Зачем вы так резко с ним поговорили, ведь он же хотел, видимо, из дружеских побуждений вас оградить от опасности, – сказал я.
И решил позвонить Прокофьеву, чтобы не только снять возникшее напряжение, но и предостеречь его самого от неверных шагов.
– Юрий Анатольевич! Вы человек умный, но совершенно неправильно себя ведете, не с теми находитесь. Время скоро покажет, вы ошибаетесь...
Время показало вскоре, кто был прав в том противостоянии. Но в те минуты мы не знали, чем все кончится, что с нами самими будет в ближайшие часы. Ситуация выходила из-под контроля правительства Москвы, надо было ее удержать в руках.
Не успели мы остыть после разговора со Старой площадью, как раздался телефонный звонок с Лубянки, из Комитета госбезопасности. На связь вышел генерал, управлявший по линии этого комитета Москвой. Он предложил Лужкову "прилично вести себя", дав понять, что немедленный арест ему не угрожает. И в покровительственном тоне, как большой начальник, изрек:
– Продолжайте работать, товарищ Лужков!
– Мы и не собираемся никому передавать власть в городе, нас москвичи избрали, – ответил ему перед тем как повесить трубку Юрий Михайлович.
За полгода до путча при тайном голосовании москвичи избрали Гавриила Попова и его подавляющим числом голосов перед всеми другими претендентами на посты мэра и вице-мэра.
* * *
Мы начали работать в чрезвычайном режиме. Для меня лично та опасная для всех ситуация усугубилась тем, что я неожиданно сильно заболел. Как выяснилось позднее, начала кровоточить язва. Но я этого не знал и думал, что у меня обычная ангина. Поэтому уйти из кабинета не захотел, иначе все бы подумали – струсил! Да и как залечь в палату больницы, думать о своем здоровье, когда речь пошла о жизни и смерти народа, Москвы. По ее центральным улицам грохотали танки!
В больницу меня увезли на "скорой", когда путч был подавлен, после того как я потерял сознание и упал. Со мной случился обморок.
До этого думать о себе было некогда.
Чем мы могли противостоять танковой дивизии? Танков у Москвы нет. Но во множестве наличествуют бульдозеры, бетоновозы, тяжелые краны на колесах, КАМАЗы, мощные строительные машины. Из них нельзя стрелять. Но преградить путь они могли любым наземным боевым машинам.
"Смело, инициативно действовали строители, используя арсенал своей техники", – такую оценку сделал Юрий Михайлович в книге о тех днях под названием "72 часа агонии".
Мы организовали колонны строительных машин и направили их на главные улицы, к "Белому дому" в качестве щита.
Таким образом, мощь строительного комплекса Москвы противопоставили путчистам. Мы вывели строителей в оцепление вокруг здания правительства России, куда прибыл президент. Наши походные столовые задымили на Краснопресненской набережной, чтобы покормить москвичей, тех кто окружил живой стеной "Белый дом", хорошо мне знакомый.
Одним словом, правительство Москвы, аппарат перешли в режим чрезвычайного положения. Мы чувствовали себя как на войне, работали, не считаясь со временем.
В те же самые 72 часа, пока шло противостояние ГКЧП и правительства России, работа на строительных объектах Москвы не прекращалась. Люди выполняли свой долг! Я тогда позвонил маршалу Язову, члену ГКЧП, и попросил его не снимать солдат со строительства школ. Через несколько дней начинался новый учебный год. Мы, как всегда, сдавали городу двадцать зданий средних школ.
Тогда же позвонил командующему Московским военным округом генералу Калинину, которому ГКЧП передал власть в Москве, убеждал его не бряцать оружием.
Чем закончилось путч – всем известно.
* * *
Спустя три дня, 22 августа, когда, казалось бы, все в городе успокоилось, вечером звонят домой и сообщают: на площади Дзержинского вокруг памятника собралась громадная возбужденная толпа. Люди собираются сносить статую!
Ужин остался на столе.
Приезжаю на площадь Дзержинского. Статуя стоит на месте, на пьедестале, но на шее с петлей, скрученной из троса. Люди пытаются повалить монумент, не представляя, что вручную это сделать практически невозможно. И опасно. Если дело пустить на самотек – все может кончиться трагически и для тех, кто пытается свалить монумент, и для городских подземных коммуникаций. Они могли пострадать при падении многотонной глыбы с высокого пьедестала на землю, пронизанную кабелями, ведущими к зданию Комитета госбезопасности.
На площади происходил стихийный митинг. Круглый каменный цилиндр-пьедестал, на котором стояла бронзовая фигура Феликса Дзержинского, весь был испещрен надписями типа: "Палач", "Подлежит сносу!"
Юрий Михайлович вышел из машины и встал рядом с выступавшими. Толпа вокруг монумента ему, как и мне, была не по душе. Об этом хорошо Юрий Михайлович написал в упомянутой выше книге:
"Хотя люди, находившиеся на площади, осознавали себя победителями, было заметно отличие этой человеческой массы от той, что ждала наступления танков у "Белого дома". Даже если предположить, что это те же самые люди... Но там было братство, тут – толпа. Там настоящая опасность – тут торжествующая агрессия. Там все стремились бережно и внимательно относиться друг к другу: жесты были осторожны и добры: взаимообращение родственное, братское. Здесь господствовал размах разрушения. Это была недобрая масса, решившая мстить".
Нужно было срочно сбить накал страстей, подавить агрессию, взять ситуацию под контроль, управлять озлобившейся массой, способной наделать бед.
Лужков в этой "ситуации сшибки", когда сходятся огонь и пламя, когда невозможно ни сделать, что нужно, ни оставить, как есть, принял еще одно свое подлинно управленческое решение – объявить о намерении правительства города немедленно демонтировать монумент. Но не руками толпы, а специалистов.
Для этого срочно потребовалось вызвать монтажников и технику, они могли выполнить это решение быстро и профессионально.
Я дал команду, чтобы на площадь Дзержинского немедленно прибыли мощный кран "Главмосинжстроя" и монтажники.
Толпа после решения Лужкова успокоилась, стала ждать приезда монтажников, никто больше не предпринимал усилий свалить вручную обреченный на казнь монумент.
Больше никто не пытался и ворваться в здание КГБ, после того как одна из дверей серого дома приоткрылась и в лица нападавшим ударила струя газа.
В то время, когда мы ожидали монтажников, к Лужкову подошли молодые люди и представились "защитниками Белого дома". Они потребовали технику, чтобы демонтировать не только памятник Дзержинскому, но и бронзовые памятники Свердлову и Калинину. Первый запятнал себя кровавым "расказачиванием", второй преступным "раскулачиванием". Премьер пошел им навстречу.
В полночь убрали статую Свердлова на площади Революции. Спустя час осталась без монумента глыба камня на проспекте Калинина, ныне Воздвиженке.
Той же ночью была решена судьба памятника Ленину на Октябрьской площади. И там собралась толпа, но не такая агрессивная и плотная, как вокруг Дзержинского. Пыл людей угас, хотя у многих желание еще раз повторить пройденное – осталось.
Мэр Москвы Гавриил Попов, как мне показалось, готов был пожертвовать и этим самым крупным в городе монументом Ильича. "Оставим это занятие!" решил Лужков. И я его решительно поддержал, был такого же мнения, не хотелось подчиниться слепой силе.
Памятник Ленину я строил вместе с известным архитектором Львом Кербелем за несколько лет до августа 1991 года. Знал, какой он тяжелый, знал, что нет в Москве ни одного крана, ни одного механизма, который мог бы демонтировать огромную статую так, как это произошло на площади Дзержинского.
– Не надо сносить памятник! – обратился я к Гавриилу Попову. – Это вандализм! Если уж так необходимо приступать к сносу, то предварительно надо составить проект демонтажа, заказать специальный кран. Сейчас ночью мы это сделать при всем желании не можем. И потом, если уберем памятник, испохабим площадь, оставим ее без доминанты. Ленин вписан в пространство площади по законам архитектуры. Она единственная на Садовом кольце полностью завершена...
Так Ленин остался на прежнем месте. С тех пор никто на него не покушается.
Полностью солидарен с Лужковым, памятники – часть нашей истории. Его позиция выражена в таких словах: "Я против переписывания истории. Какой бы непривлекательной она ни была, она должна оставаться при нас".
Это и моя твердая позиция. Нам не к лицу повторять преступления большевиков, сломавших в Москве все памятники "царям и их слугам" по декрету, подписанному Лениным в 1918 году. Тогда не стало памятника генералу Скобелеву на площади перед домом на Тверской, 13, где сейчас работает правительство города. Снесли два замечательных изваяния скульптора Опекушина, автора памятника Александру Пушкину в Москве. Он выполнил для города бронзовые статуи Александра II, освободителя крестьян от крепостного права, и Александра III, освободителя славян от турецкого ига. Нет этих памятников ни в Кремле, ни на площади перед храмом Христа, где они стояли.
Перед нами возник вопрос, что делать с поверженными монументами Дзержинскому, Свердлову, Калинину. Первый из них создан знаменитым скульптором Вучетичем, специалисты единогласно считают статую выдающимся творением. Не переплавлять же бронзовые фигуры соратников Ленина на металл, как это делали большевики, круша памятники и обрушивая церковные колокола.
Вот тогда Юрий Михайлович предложил собрать их и выставить на людном месте, как памятники минувшей эпохи, событий августа 1991 года. Такое место им нашли в парке, разбитом на Крымской набережной перед новым зданием Третьяковской галереи.
Эта позиция Лужкова проявилась позднее, когда решалась судьба еще одного памятника советского времени. Напротив храма Христа, у стрелки Пречистенки и Остоженки, установлен монумент Фридриху Энгельсу. Не так давно его чтили как вождя мирового пролетариата, друга и соратника Карла Маркса. На этом месте настойчиво предлагают построить новое здание, которое бы заполнило пространство, образовавшееся после сноса старинного "дома с лавками" в 1972 году. Тогда по Москве, которая готовилась принять президента США, прокатилась волна разрушений. На пути следования высокого гостя: на Большой Якиманке, у Боровицких ворот, на Волхонке и здесь, у Пречистенских ворот, сломали много обветшавших зданий. Обрушили их для того, чтобы они своим жалким видом не портили настроение американскому президенту. То была варварская акция, вызвавшая волну возмущений москвичей. С ними тогда не посчитались в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.
Поэтому мэр Москвы не желает повторения ошибок прошлого, не дает сносить Фридриха Энгельса, хоть тот никогда не был в нашем городе и не имеет никакого отношения к Пречистенке и Остоженке. Почему-то здесь, где они сходятся, нашли место бронзовому вождю мирового пролетариата.
Сегодня снесем Энгельса, завтра придет желание демонтировать Маркса, потом произойдут опять какие-то изменения... Так у нас ничего не останется. Во Франции не снесли памятник Наполеону, хотя с его именем связаны не только победы, но и поражения, взятие в 1814 году Парижа русской армией и войсками союзников.
По этой же причине нельзя, я убежден, демонтировать установленные на фасадах зданий Москвы мемориальные доски в честь Ленина, его соратников, "выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства". Какие-то трусливые чиновники в угоду демократической власти убрали две доски с дома на Кутузовском, 26, где жили Брежнев и Суслов. (На мемориальную доску Андропова на том же фасаде дома рука у них не поднялась...) Зачем это сделали? Двадцать лет Брежнев без особых потрясений управлял страной, заключил Хельсинский пакт, договоры с США о прекращении испытаний ядерного оружия. При нем прошли Олимпийские Игры в Москве. История воздаст ему должное, потомки дадут объективную характеристику этому деятелю. Да и у каждого из нас, современников, есть своя оценка построенному под его руководством "развитому социализму", оставленному нам в наследство вождями КПСС. Зачем стирать из памяти имена, забывать, что в одном доме обитали Брежнев, Суслов и Андропов, переставшие после смерти Сталина быть жителями Кремля?
* * *
Итак, мы начали жить без КПСС. Свобода и демократия победили. В Мраморном зале заседал Московский Совет, где большинство составляли демократы. Сотни рассерженных мужчин, собираясь вместе на Тверской, 13, не желали отдавать никому исполнительную власть, вмешивались постоянно в повседневные дела, доставляя огорчения мэру Гавриилу Попову, премьеру Юрию Лужкову и нам, его заместителям, министрам.
Другую головную боль причиняли приверженцы радикальных экономических решений, "обвальной приватизации". Их стратегия перехода к рынку состояла в том, что нужно сломать немедленно устои социализма до основания, приватизировать всё и вся.
Да, приватизация необходима. Но зачем разрушать при этом то, что в целом неплохо функционировало, например, наш комплекс, состоявший из заводов стройматериалов, домостроительных комбинатов, строительно-монтажных управлений, трестов разного профиля? Каждый год они давали Москве по три с лишним миллиона квадратных метров жилой площади, не считая всего остального. Да, эта сложная задача выполнялась в трудных условиях. Значит, у людей есть возможность работать лучше, мы обязаны избавить их от трудностей! Но зачем лишать работы вообще?!
Никто не спорит: демократическое государство должно всем и каждому дать политическую и экономическую свободу. Но это не значит – бросить миллионы людей, не знакомых с правилами игры при капитализме, рынке, на произвол судьбы. Но именно так в Кремле поступили, позволив ограбить народ всяким "Олби-дипломатам" и "Дока-хлебам", "Тибетам" и "Властилинам", "Чарам" и "Горным Алтаям". Им доверчивые люди отдали ваучеры и сбережения. Где они теперь?
Первым почуял грозившую опасность нашему строительному комплексу Юрий Михайлович. На заседании правительства в начале 1992 года он дал неожиданный для многих прогноз:
– К маю вы потеряете всех своих заказчиков. Им просто нечем будет платить. Благоприятная пока еще ситуация перевернется. Вы привыкли, что заказчик бегает за строителем, уговаривает, соглашается на любые условия. Теперь вы станете бегать за теми, у кого есть деньги...
Он ошибся на месяц. Комплекс залихорадил в апреле. За рычаг экономики суверенной России взялась команда молодых реформаторов во главе с Гайдаром и Чубайсом. Они спешили сломать устои социализма, не особенно заботясь, что вырастет на руинах. Они говорили красивые слова и ратовали за либеральные свободы. На деле им была безразлична судьба людей, занятых в народном хозяйстве.
Но мог ли я безразлично отнестись к судьбе моих товарищей, с которыми проработал всю жизнь в "Главмосстрое", "Главмосинжстрое", "Главмоспромстрое"?
Можно ли было допустить, чтобы такие многочисленные армии строителей на рынке труда остались без работы? Можно ли было допустить, чтобы наши управления и тресты, предоставленные сами себе, начали бы делать только то, что им выгодно? Например, менять профиль деятельности, превращать цеха в склады или ремонтные базы, как это случилось в таксопарках.
Таксисты, окружив муниципальными "Волгами" Тверскую, 13, подстрекаемые радикалами, сулившими им блага, добились обвальной приватизации. Каждый водитель стал собственником машины. Но что произошло дальше? Распорядиться этой частной собственностью владельцы машин не смогли, у них не оказалось денег на ремонт, покупку запчастей, на приобретение новых машин. Москва и москвичи остались вскоре без такси. А таксисты без "Волг". Современной службы такси у города нет. Роль таксиста играет каждый автовладелец, все кому не лень. Сломать старое оказалось легко, создать новую систему трудно.
Зайдите, например, под Калининский мост у "Белого дома". Там в бывшем таксопарке функционирует автосалон и техцентр. "Волг" с зелеными огоньками здесь больше нет, остались одни ремонтники частных машин....
Могла Москва остаться и без строителей, как это случилось в других городах России. У нас бы мог развалиться стройкомплекс, как в Ленинграде-Петербурге, где строительство на много лет захирело при губернаторе-демократе, воспользовавшемся рецептами "реформаторов".
Как и предсказал Лужков, в начале 1992 года отлаженный механизм строительного комплекса начал давать ощутимые сбои. От нас стали уходить люди, опытные специалисты. Им было куда податься. В городе на законном основании возникли строительные кооперативы, которые более длинным рублем переманивали монтажников, механизаторов, инженеров...
Но дома с бесплатными квартирами для очередников кооперативы не воздвигали, не строили школ, больниц, заниматься этим неприбыльным делом им было не выгодно...
Что сделало тогда радикал-либеральное правительство? Оно отпустило цены! И понеслось. Цемент и железобетон вздорожали. Кирпич возрос в цене. Стоимость всех процессов выросла непомерно. У города денег при таких расценках не хватало. Башенные краны замирали, стройплощадки одна за другой пустели. Мы потеряли тогда 75 тысяч специалистов, шестую часть персонала. Могли бы потерять больше, если бы, как все, пошли по пути реформ, которые нам диктовали выученики западных экономических школ, ждавших как манны небесной инвестиций из Европы и Америки.
Вот тогда я увидел на близком расстоянии, что значит роль личности в истории. Гавриил Попов строительством не занимался. Он решал политические задачи, добивался у парламента предоставления особого статуса для Москвы. В знак протеста мэр Москвы подавал прошение об отставке, не желая следовать неверным курсом. Президент пошел ему навстречу, издал несколько указов, дал столице право идти по пути реформ своим путем, не следуя установкам Гайдара – Чубайса.
Но, когда перед правительством Москвы открылся стратегический простор, неожиданно для нас первый свободно избранным москвичами мэр столицы подал еще раз прошение об отставке. На все наши уговоры Гавриил Попов ответил решительным "нет". Сил для борьбы у него больше не оказалось. Он предложил президенту утвердить на его место вице-мэра Лужкова. Что и было сделано в июне. Таким образом, Юрий Михайлович стал совмещать две обязанности – мэра и премьера.
Всю тяжесть наших проблем взвалил на себя Лужков. Сам себя он, как все знают, причислил к "хозяйственникам". Но этот практик, технарь, химик, специалист по управлению, кроме прагматики, по его словам, видит в каждой проблеме "эмоциональную привлекательность". Работа его вдохновляет. Самая трудная задача, за которую он берется, вызывает у него не только непреодолимое желание добиться результата, но и достичь идеала, красоты!
Эту красоту он сотворил, как мы знаем, даже в овощехранилищах, где совершил "первый подвиг Геракла", очистил их без помощи 20 000 москвичей. Огромную массу людей райкомы ежедневно мобилизовывали на базы, отрывая от учебы, работы по месту службы.
Этой красоты Лужков стремился добиться и в сфере строительства, когда даже мне казалось: не до жиру, быть бы живу!
Строительство (я это увидел при первой встрече на овощной базе, за несколько лет до избрания мэром) вызывало у Лужкова радость. Не будучи профессиональным строителем, он понял: строить – значит побеждать! Без созидания вся политика шла насмарку.
– Если столица не обновляется, значит, хана не только Москве, но и стране, – говорил тогда мне Лужков.
И созвал экстренное заседание правительства, где мы решили несколько стратегических задач, удержали комплекс от развала. Вот какие приняли тогда меры.
Раз у нас появилось много "незавершенок", доставшихся в наследство от советской власти, бывших министерств и ведомств, продадим их тем, у кого появились деньги! Это даст городу средства и, стало быть, работу строителям.
На деньги городского бюджета будем сооружать муниципальные объекты жилье, поликлиники, сады, школы. Продолжим строить дома жилищно-строительных кооперативов, а это пятая часть жилищной программы. Попросим у правительства России на это дело немного средств, остальные дадут москвичи, изыщет правительство города.
Отказываемся от всех лимитчиков, с которыми при социализме безуспешно боролся на посту первого секретаря МГК Ельцин, сохраним рабочие места для москвичей. Повысим расценки, улучшим бытовые условия строителей, дадим им льготы на квартиры, чтобы они окончательно не разбежались по кооперативным углам.
Концепция наша состояла в том, что припадаем к другому, неведомому при социализме источнику, берем деньги не у государства, не из российского бюджета. Берем у тех, у кого монеты зазвенели в кармане в результате приватизации, свободной торговли, реформ. На эти средства строим хорошие дома, помещения магазинов, офисы, чтобы их... продать подороже!
Берем под гарантию правительства Москвы на двадцать миллиардов рублей кредит в коммерческих банках на покупку материалов, транспорт и зарплату. Строим, строим, строим как можно больше! И продаем! На аукционах, тем, кто больше заплатит!
Этот невиданный нами прежде аукционный механизм сдвинул с мертвой точки, казалось бы, потерявший способность к движению громадный строительный механизм. На торгах уходило с молотка не только жилье, магазины, но и "незавершенка", "долгострой", проклятье эпохи социализма.
Мы стали сооружать не только серийные дома с типовыми квартирами, но и дома с квартирами эксклюзивными, по индивидуальным проектам. Начали делать впервые после 1917 года коттеджи, особняки на одну семью.
Весь этот выброшенный на рынок товар пошел с таким успехом, что через несколько лет мы отдали все банковские кредиты. Успех продаж на аукционах превзошел самые радужные ожидания.
Люди платили намного больше того, что мы ожидали. Потому что в стоимость жилья они включали "столичный фактор", желая жить в Москве рядом с лучшими театрами, музеями, школами и институтами, рядом с лучшими адвокатами и врачами. У них при покупке квартир не требовали справки о прописке и наличии санитарной нормы на каждого члена семьи.
Лужков предложил при продаже жилья ввести муниципальную 30%-ную наценку. Полученные средства отдать на возведение квартир для тех, кто стоит в очереди на жилье, у кого нет денег, чтобы купить квартиру.
Вот почему раньше, чем в какой-либо другой сфере народного хозяйства, строительный комплекс воспользовался плодами победы августа 1991 года. И, преодолев кризис, заработал на всю мощь, набирая обороты после недолгого реального застоя, произошедшего по вине радикальных реформаторов.
Тогда только нам удалось до конца и повсеместно применить вожделенный монтаж "с колес", избавить стройплощадки от складов стройматериалов и мусорных свалок. Никто не запасался впрок на годы вперед "дефицитом". Не стало дефицита!
Я так скажу: в новое общество мы входим через строительство, которое активизирует другие отрасли, производство строительных материалов, грузовых машин, кранов, бульдозеров. Строительство обеспечивает занятость и вообще дает зримое ощущение перемен.
Снова, как прежде, на стройплощадке главной фигурой стал архитектор, отодвинутый давними решениями времен Хрущева на задний план. Ведь платил теперь тот, кто заказывал музыку. А сочинял-то ее зодчий, строитель лишь исполнял партию, получив в руки ноты-чертежи. Так строительство, стоявшее десятки лет на голове, снова встало на ноги.
Когда все пошло-поехало, набирая скорость, когда изменилась философия поведения всех участников строительного процесса, когда все увидели результаты истинной перестройки комплекса, мы услышали от Юрия Михайловича в свой адрес:
– Работает система. Интересно! Красиво!
В этих словах – весь Лужков, его принцип управления. Системный подход не им придуман. Но не знаю ни одного другого руководителя, который бы в эту рациональную систему включал "эмоциональную привлекательность", составляющую красоты, радости жизни, экстаза!
"Разве кто-нибудь может с отвращением смотреть, как рождается новая картина, мелодия? Так вот, тот экстаз, то наслаждение, какое испытывает творец при рождении произведения искусства – точно такое же чувство ощущает строитель, когда начинает работать по-современному..."
Это сказано Лужковым в адрес московских строителей в 1992 году. Такая оценка придала нам силы в постоянной борьбе с твердью и хлябью земли, морозами и жарой неба.
* * *
Суть каждой революции не в шумных митингах и демонстрациях, а в переделе собственности. Так было в 1918 году, когда частная собственность стала государственной, муниципальной. Так произошло в 1991 году, когда общенародная собственность стала приватизироваться. Никто не спорит, делать это было надо. Но только как?
На этот вопрос отвечают по-разному. По этой причине ушел из правительства СССР Юрий Михайлович Лужков, недолгое время служивший там после августа 1991. (Его возмутила практика "прихватизации" бывшей общесоюзной собственности.) По этой причине ушел из большой политики наш первый мэр Гавриил Попов.
Лужков не последовал за ним, решил бороться с "чубайсизацией", приватизацией по методу бывшего министра финансов. Боролся не один, вместе с командой, правительством Москвы. Команду составляли не только демократы. За одним столом по вторникам собираются вот уже несколько лет на заседания и демократы, отличившиеся при захвате зданий ЦК и МГК, и бывшие секретари РК и МГК партии. И хозяйственники, как я, всю жизнь вкалывавшие в системе Моссовета.
В "Записках президента" Борис Ельцин о первых шагах нашего правительства пишет так:
"Постепенно, шаг за шагом новый мэр Москвы заставил работать исполнительную власть в московском регионе. Рядом с ним и молодые заместители, которым только исполнилось по тридцать, и опытные, такие как Владимир Ресин, который знает Москву десятки лет. Лужков доказал, что не демократическая власть виновата в тяжелых проблемах посткоммунистического периода. Нормально функционировать муниципальные структуры могут и при новом устройстве общества".
В отличие от Ленинграда-Петербурга, где полностью сменили весь состав исполкома, в Москве не произошло такого произвола. Там отправили в отставку прежних опытных руководителей города, на место которых пришли люди с передовыми идеями. И губернатор слыл демократом, иронизировавшим над "мэром в кепке".
История предоставила возможность провести чистый эксперимент, дала двум великим городам возможность проявить себя в новых рыночных отношениях, начав дистанцию с одного старта – августа 1991 года. Результаты первого забега у всех на виду. Кто бывал несколько лет тому назад и в Москве, и в Петербурге, тот видел, на берегах Москвы-реки – громадная стройка. На берегах Невы – тишина. Потому что строительный комплекс Ленинграда развалили! Теперь его приходится поднимать новому губернатору.
Наш реформированный строительный комплекс – сохранился. Поэтому Москва возрождается даже при всеобщем политико-экономическом кризисе в стране. Пойди Россия тем путем, каким в 1991 году пошел Лужков, и другим городам не пришлось бы пережить стагнацию, уныние и разруху.
Оказалось, передовых взглядов мало, чтобы управлять столицей, провести умело приватизацию магазинов, парикмахерских, прачечных, тысяч муниципальных предприятий. В их число входят организации строительного комплекса. В нем занято было в августе 1991 года 500 тысяч человек! Сделать 500 тысяч тружеников безработными – катастрофа не только для этих людей, их семей, но и для всей системы городского хозяйства Москвы. Катастрофа для сотен тысяч москвичей, стоявших годами в очередях за квартирами, обещанными давным-давно советской властью.
Как удалось спасти от развала строительный комплекс Москвы? Этот вопрос часто задают не только журналисты, но и руководители регионов. К тому, что сказано выше, хочу добавить вот еще что. Мы вошли в рынок. Но приватизацию позволяли делать, не нарушая технологической цепочки строительного комплекса! И если при этом нарушалась такая связь – не давали согласия на акционирование, куплю-продажу. Сохранялась непременно единая ответственность за конечный результат всех участников процесса строительства дома. Никто – ни фундаментщики, ни монтажники, ни отделочники – не мог выпасть из этого круга. Например, отделочники имели право стать свободными, самостоятельными собственниками, акционерами. Пожалуйста! Но они не могли, став свободными, сказать: "Мы не хотим работать в Москве, нам это невыгодно, хотим поехать на заработки в Тулу". Вот этого они сделать не имели права.
Мы не разрешали механизаторам менять профиль. Выбирай любую форму собственности! Но задача у тебя прежняя. Вози железобетонные детали и бетон, а не телевизоры и компьютеры. Из отделочника ты не можешь превратиться в продавца отделочных материалов!
Не можешь использовать базу механизации под склад обуви. Более того, не имеешь права превратить автобазу, которая вывозила грунт из котлованов, в автопарк грузовых такси.
Так мы не дали растащить комплекс. А приватизация по Чубайсу это допускала. Поэтому у нас не произошло того, что случалось в других городах, когда монтажники собирали коробку, а отделывать ее было некому.
Все в нашей системе стали собственниками, но продолжали делать то, что прежде. А ведь у нас даже "Главмоспромстрой" хотели растащить! Там теперь 24 процента собственности осталось за городом, остальное у акционерного общества. Но и сегодня это элитная строительная фирма. Ни традиций, ни кадров, ни перспективы она не потеряла.
Рычаг управления стройкомплексом – городской заказ – в руках мэра Москвы. Главная угроза для любого руководителя заключается не в словах: "Партбилет – на стол!" Главная угроза в другом: "Заберем заказ!" Есть и другая мрачная перспектива: "В Москве строить не будете!"