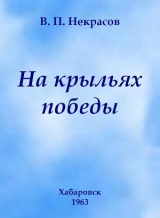
Текст книги "На крыльях победы"
Автор книги: Владимир Некрасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Дни шли за днями, а мы по-прежнему ничего не знали о Саше. Наконец к исходу второй недели стало известно, что он приземлился где-то на нашей территории. Но его до сих пор не могут обнаружить. Что с ним? Жив ли он? Тяжело ранен? Трудно мне, очень трудно! В душе все жарче закипает ненависть к врагам...
Закончен наконец ремонт моего самолета. Накануне полетов я никак не мог заснуть и вышел на улицу. Ночь была холодная. В темном небе плыла полная луна, перемигивались крупные звезды. Я прислонился к стене дома и смотрел на яркую Полярную звезду, на Большую Медведицу, что уперлась своим ковшом в горизонт, и какие-то бессвязные обрывки мыслей бродили в голове.
– Не спится, товарищ командир? – неожиданно раздался тихий голос. Я оглянулся. Подле меня стоял механик Сашиного самолета.
– Да, не спится. А ты что бродишь?
– Ходил смотреть самолет, как сохнет ланжерон, который днем клеили, – ответил механик. – Проверял зажимы. Не отошли. – Он вздохнул, помолчал, с надеждой спросил: – Ну, а как мой командир?
– Вернется. Скоро вернется! Вот сегодня лейтенант Гура тоже не возвратился. Но нам известно, что он сел в пяти километрах от линии фронта на вражеской территории. Выбраться оттуда трудно, а мы знаем, что он непременно вернется. – Я говорил с каким-то упрямством, точно спорил с кем-то, кого-то убеждал...
Становилось все прохладнее, и мы разошлись. Весь следующий день лил дождь, и только к вечеру немного прояснилось. Это позволило заместителю командира эскадрильи Лобастову облетать мою машину. Я с волнением следил, как самолет взмывал в небо, как выполнял фигуры высшего пилотажа, проходил бреющим полетом над посадочной полосой. Лобастов до войны был летчиком-инструктором, и техника пилотирования у него была безукоризненной. Все, кто находился на аэродроме, любовались точностью и красотой его полета.
После посадки Лобастов выбрался из кабины, плоскогубцами подогнул триммеры[2] 2
Триммер – металлическая пластинка на задней кромке рулей самолета, служащая для регулировки устойчивости в полете.
[Закрыть] на левом и правом элеронах[3] 3
Элерон – руль крена.
[Закрыть] и сказал мне:
– Завтра сам проверишь. Немного кренится влево машина, а так все нормально.
Наш разговор прервал подбежавший механик Руднев:
– Гура пришел! Ночью через линию фронта перебрался!
Мы поспешно направились в первую эскадрилью. Там было шумно и многолюдно. Товарищи окружили Степана, засыпали вопросами, поздравляли с возвращением. Я жадно смотрел на высокого, красивого летчика и думал о Саше. Вот Гура вернулся, а где ж Саша?
Вдруг я заметил, что в лице Гуры появилось что-то новое. Что же? Присмотрелся внимательнее. Лицо похудело, глаза ввалились, а от виска к виску вокруг головы лейтенанта шла широкая полоса седины. А ведь еще сутки назад у Гуры, который всего на два года старше меня, не было ни одного седого волоска.
Степан, радостный и взволнованный, рассказывал о случившемся.
В бою, где четверо наших истребителей дрались с восемью «мессершмиттами», самолет Гуры подбили, и Степан сразу же вышел из боя. Используя высоту, он стал планировать и оказался над полем, изрытым воронками. Садиться на шасси было рискованно, и Гура довольно удачно сел на «живот». Он проехал фюзеляжем по полю и остановился перед широкой воронкой. Выбрался из кабины, осмотрелся. Вокруг никого не было. Обследовал машину. Она оказалась совершенно целой, лишь с правой стороны в моторе было несколько пробоин.
Поднять самолет было нельзя. Тогда Гура принялся отвинчивать радиостанцию. Но в это время начался артиллерийский обстрел – где-то недалеко были вражеские позиции, и наша артиллерия вела по ним огонь. Некоторые снаряды стали падать на поле, где приземлился самолет. Степан побежал к ближайшей воронке, скатился на ее дно и лег вниз лицом. Сила обстрела все нарастала. Дрожала земля. От мощных взрывов болели барабанные перепонки. В воронку заползал удушливый дым, вызывая кашель. Но вдруг все кончилось так же неожиданно, как и началось. Наступила тишина. Оглушенный, Гура несколько минут лежал не двигаясь, потом осторожно выглянул из воронки. По всему, что предстало перед глазами, догадался, что здесь прошел вал огня наших «катюш». Степан поискал глазами свой самолет, но на его месте заметил лишь груду догорающих обломков. Гура вновь скатился на дно воронки и лежал там, собираясь с силами. Как же ему быть дальше? Что делать? Тут он забылся и пришел в себя от какого-то разговора. Прислушался и понял, что вблизи беседуют два немца. Летчик вытащил пистолет, взвел курок. «Буду отбиваться до последнего патрона. Последний – мне».

Немцы говорили о чем-то очень долго, потом их голоса стали стихать. Подождав немного, Гура выглянул из воронки, предварительно сняв шлемофон, и увидел спины удалявшихся гитлеровцев. Он мог уложить их обоих, но боялся, что выстрелы привлекут внимание других немцев. Затем Степан стал восстанавливать в памяти курс, по которому летел, и составил себе приблизительный маршрут возвращения к своим. Решил идти только ночью. Карты у него не было, но был компас. Когда совсем стемнело, Степан выбрался из воронки и направился на восток по обгорелой, изрытой земле. Слева и справа темнел лес, но Степан боялся углубляться в заросли – там могли оказаться немецкие механизированные части. Шел, часто останавливаясь и прислушиваясь. Несколько раз ложился на землю, но ничего, кроме глухих ударов, не мог разобрать. То ли вдалеке рвались снаряды, то ли где-то бомбили. Все время сверялся по компасу, боясь сбиться с пути. На каждом шагу его могли встретить или окликнуть фашисты. Но в этот раз счастье сопутствовало ему. Внезапно Гура вспомнил, что в полночь должна показаться луна, и его охватила тревога: он будет далеко виден. Ускорил шаг, прислушиваясь к каждому шороху. Лес миновал благополучно и оказался перед глубоким оврагом. Это вселило в него уверенность, что идет он в нужном направлении, так как еще с самолета он заметил этот овраг. За ним уже невдалеке должна начинаться наша освобожденная земля. Гура пополз по-пластунски и хотел опуститься на дно оврага передохнуть, но тут услышал немецкую речь. Гура быстро, но осторожно отполз к темневшему кустарнику и здесь прилег...
– Когда я садился на поле, – продолжал Степан свой рассказ, – то думал, что до линии фронта не более четырех-пяти километров. Значит, сейчас я находился на передней линии немецкой обороны. Тут в воздух стали взлетать ракеты – красные, зеленые, белые. Они прорезывали черное небо, рассыпались яркими вспышками и освещали все вокруг. Я, прижимаясь к земле, стал отползать туда, где было темнее. Вскоре я поднялся во весь рост и пошел прямо по полю, между двумя оврагами. В одном из них стояли немецкие танки. Немцы развели костер и грелись. Вблизи стоял часовой. Он окликнул меня, но я пошел от него к другому оврагу. Впереди что-то зашевелилось. Я крепко сжал рукоятку пистолета и чуть уклонился в сторону. Шел напролом – другого выхода не было. Возможно, это меня и спасло. Ракеты теперь взлетали справа и слева. Значит, я был на линии фронта, на передовой. Овраги разошлись, и я вышел на ровное место, поросшее травой...
Неожиданно почти навстречу Гуре полетели красные вспышки выстрелов. На них ответили немецкие пулеметы, и летчик понял, что находится между двумя огнями – он на нейтральной зоне. Спасение близко, но нужно быть особенно осторожным. Гура снова лег на землю и пополз. Внезапно правая рука потеряла опору, и он покатился куда-то вниз. Степан подумал, что оказался в глубоком овраге, но, ощупав гладкие стены, сообразил, что находится в противотанковом рву. Чей он?
Выбраться никак не удавалось. Тогда, спрятав пистолет в кобуру, Гура принялся ножом вырезать в глинистой стене ступеньки и через час вылез из неожиданной западни. Хотя ночь стояла холодная, ему было жарко, по лицу и спине катился пот. Из-за леса выплывала огромная желтоватая луна, а сзади продолжали взлетать цветными фейерверками фашистские ракеты.
Степан лежал на краю рва и отдыхал. Хотелось закрыть глаза и погрузиться в забытье, но он поборол заманчивую, обволакивающую сонливость и пополз на восток. Жесткая, вспаханная разрывами снарядов и вспоротая пулями земля забивалась в нос, рот, слепила глаз, царапала руки, из-под содранных ногтей сочилась кровь.
Гура часто останавливался и бессильно застывал, приникнув щекой к холодной земле. Но тут же обжигала тревожная мысль: а что если где-то близко немцы? Тогда он вновь стремительно рывками полз вперед. Потом пришло убеждение, что немцев уже рядом нет. Степан поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел во весь рост. Не успел сделать и нескольких шагов, как услышал суровый окрик:
– Стой! Кто идет?
«Свои! Русская речь!» Гура от радости не мог произнести ни слова. Рядом с ним выросли две человеческие фигуры с автоматами.
– Свои! Братцы! – воскликнул Степан. В его голосе были такие нотки, что один из автоматчиков уже более дружелюбно спросил:
– Кто такой?
...Я слушал Гуру, моего товарища, моего друга, а сам не сводил глаз с его седины.
Все в полку были обрадованы благополучным возвращением Степана. Но вскоре наша радость была омрачена печальным сообщением: из очередного полета не вернулся летчик Петров, который был инструктором. Как сообщили, его самолет подбили во время воздушного боя, и Петров совершил вынужденную посадку на занятой врагом территории.
Жив ли он? Не попал ли в плен? Сможет ли, как Степан, добраться до своих?
Снова в воздухеЯ получил разрешение подняться в воздух! Что может быть радостнее для летчика!
Наши шестнадцать истребителей, оставшиеся в полку, идут прикрывать штурмовиков, которые должны вылететь на станцию Мокрая, что сейчас находилась в нескольких километрах от фронта. Станция была для отступающих фашистов важнейшим железнодорожным узлом по переброске войск и техники.
Я иду в четверке с Костецким, Колдуновым и Митрофановым. С удовольствием слежу за приборами, за обстановкой и испытываю прилив хорошего, теплого чувства к друзьям. Опять я с ними, опять иду громить врага!
Боевая задача предстояла сложная – это стало ясно еще во время подготовки к полету. Я с товарищами находился в ударной группе, которую возглавлял командир нашей эскадрильи капитан Егоров. Одна пара истребителей шла выше нас, а шестерка первой эскадрильи – в группе непосредственного прикрытия. Эта «вертикальная этажерка» (эшелонированное построение) говорила о том, что мы воевали все лучше, применяли новые способы ведения боя, более прочно захватывали господство в воздухе. Приближался час расплаты. Горе тебе будет, гитлеровская банда, когда придется держать ответ за все твои злодеяния! На память пришли строчки из где-то прочитанного стихотворения:
Родина! Кровью фашистов вымой
Глаза Европы, ослепшей от слез!..
Да, мы, советские люди, бьемся не только за свободу и независимость нашей Родины, но и за свободу всего человечества...
К станции подошли на большой скорости со снижением, несмотря на густой огонь фашистской зенитной артиллерии. Он был настолько мощным, что моментами нам казалось, будто воздух состоит из сплошных разрывов.
Проскочив огневой заслон, наши штурмовики перестроились для атаки. В это время справа показались «мессершмитты». «Проспали, господа», – усмехнулся я. По строю фашистов было видно, что они только взлетели и не успели набрать достаточной высоты и занять боевого порядка.
Восемь «мессершмиттов» приближались довольно уверенно. Ну да, они над своими войсками! К тому же вот еще восемь новых «мессеров». Плывут, словно селедки в косяке. Ну что же, давайте встретимся. И мы со всего хода врезаемся в строй вражеских машин.
Вначале наш бой шел организованно и мы наседали на фашистов, но вот на большой высоте появилась третья восьмерка «мессершмиттов» и навалилась на пару «яков», ходившую выше нас. Немцы использовали свое численное превосходство, и нам становилось все труднее. Теперь приходилось не только вести бой с ранее подошедшими фашистами, а и отбивать атаки сверху. Воздух прошивался путаницей разноцветных трасс.
Мы дрались. Кто же кого? Противник был умелый, опытный. И все же враги просчитались. Колдунов поймал в прицел фашиста, который гнался за Лысовым, и этого было достаточно. Оставляя за собой длинную струю дыма «мессершмитт» исчез внизу. Но тут задымил и самолет Лысова. Видно, его подбили основательно, потому что Лысов немедленно выпрыгнул из машины. Белый купол парашюта раскрылся, и к нему ринулись две вражеские машины, которые до этого гнались за Колдуновым. Мерзавцы! Мы никогда не расстреливали беспомощных вражеских летчиков, когда они болтались на стропах. Эти же звери, забыв о чести и достоинстве воина, отказавшись от боя, ринулись на одинокого парашютиста.
Я иду им наперерез – надо прикрыть Лысова. Ко мне присоединяется Колдунов, и мы кружим над парашютом Лысова. Фашисты куда-то исчезают.
Осматриваемся. Чуть в стороне на сближение с нами идет пара Костецкого. А где же станция? Вот она, справа от нас, – в горячке боя мы значительно отклонились от цели. Она вся окутана дымом и пылью, сквозь которые пробиваются желтые языки пламени.
Наши штурмовики, «обработав» станцию, выходят из боя. Они идут змейкой на восток, а над ними – четверка истребителей. Все! Только вот Лысов в опасности, но мы его не дадим в обиду.
Западный ветер пришел на помощь, и Лысов опустился в расположении наших войск. Возвращаемся на аэродром и узнаем о судьбе Лысова. Он обгорел в подбитом самолете и опустился на землю в тяжелом состоянии. Здесь его немедленно подобрали и отправили в госпиталь. Лечение прошло успешно, и он скоро вернулся в часть, где и сражался с нами до самого светлого дня – Дня Победы!
Во время этого боя были сбиты также командиры первой и третьей эскадрилий и летчик Макаров, которые, жертвуя собой, как более опытные, прикрывали и спасали молодых летчиков. Всех троих доставили в госпиталь. Но никто не выжил, все скончались от многочисленных ран и большой потери крови.
Такого горя у нас еще не было. Мы не смотрели друг другу в глаза: боль и одновременно стыд за то, что не сберегли командиров, владели нами.
По приказу собрались около КП. Поднялся командир дивизии. Он долго молча смотрел на нас, глаза его гневно горели. Как медленно и тягостно тянулось это молчание!
Наконец комдив заговорил. Он говорил о долге солдата – защищать командира ценой своей жизни, вспоминал капитана Белоусова... Мы стояли, опустив головы. Каждый из нас считал себя, именно себя виновником гибели командиров.
В тишине суровый голос комдива хлестал нас, как кнутом. А тут еще новая беда: нашего товарища, летчика Костецкого, обвиняют в том, что он бросил в бою командира своей эскадрильи. Костецкого отдают под суд трибунала! Мы были ошеломлены. Мы же видели, как вел себя в бою Юра, видели, что он был связан «мессерами». Костецкий приговорен к отправке на три месяца в штрафную роту! Это словно приговор всем нам, потому что Костецкий был виноват в такой же степени, как и любой из нас...
...Все тяжело переживали Юрино несчастье. Постоянно вспоминали о нем, гадали о его судьбе. Но не прошло трех месяцев – и вот Юра снова с нами. Он немного похудел, а на лице радостная улыбка. Его солдатскую гимнастерку украшают орден Красного Знамени и медаль «За боевые заслуги».
Юра не может вырваться из наших объятий. Мы безмерно рады, что он жив, что отличился в тяжелых боях, освобожден досрочно и вновь пойдет с нами в воздух! Костецкий снова стал летать и был по-прежнему хорошим, смелым истребителем.
Я хожу мрачнее тучи, стал раздражителен, вспыльчив, чего раньше со мной не было. Теперь Валя делает мне замечания, чтобы я держал себя в руках. О Саше по-прежнему нет вестей.
Как-то, вернувшись с полетов, я сорвал с плеч куртку, отшвырнул ее в сторону, сел на кровать. Летчики молчали. Кто лежал и смотрел в потолок, кто сидел, опустив голову на руки. Все находились под впечатлением недавней гибели командиров.
От нас в другой полк переведены Колдунов, Панов, Ремизов и еще несколько летчиков. Таяла наша боевая дружная семья.
– Ну чего вы головы повесили? – раздался вдруг неожиданный окрик, от которого мы даже вздрогнули. Это кричал Дима Митрофанов. Он стоял посреди комнаты. – Что, от этого легче станет? Командира ведь не вернешь.
– Не вернешь, – заговорил Паша Конгресско и тоже вскочил на ноги. – Я виноват так же, как Костецкий, а может быть и больше! Да, больше! И меня надо было отдать под суд! Я тоже бросил командира в бою! А Юра был со звеном...
– Спокойно, спокойно! – Митрофанов подошел к Паше и положил ему руку на плечо. – Ну чего психуешь?.. Не знаю, чем кончился бы столь невеселый разговор, но в этот момент в дверь раздался стук и к нам вошла – нет, не вошла, а влетела Валя и бросилась ко мне. С ее губ срывались отрывистые слова:
– Саша... Саша... нашелся... в госпитале... Бойцы видели...
Летчики окружили Валю, а она продолжала что-то говорить, то плача, то смеясь, не успевая отвечать на расспросы. Я закричал ей:
– Какие бойцы? Где они?
Валя молча показала на дверь, и я, схватив девушку за руку, выбежал с ней из домика. Саша жив! В госпитале! Скорее к нему!
Около землянки на бревне сидели и покуривали три солдата. Их о чем-то расспрашивали наши оружейницы – подруги Вали. Я подбежал и, задыхаясь, спросил:
– Вы видели младшего лейтенанта Некрасова?
– В полевом госпитале, где мы тоже латались, – ответил старший по возрасту солдат. – Его привезли дней двадцать назад. Мы узнали, что это один из братьев Некрасовых, о которых недавно писали в газете.
– Как он? Что с ним? – засыпал я бойцов вопросами.
Солдаты объяснили, что Сашу сразу доставили в операционную, а затем в хирургическое отделение, они же в это время выписались из госпиталя. Зашли они в наше село в свободное время, чтобы проведать родных своего однополчанина.
– Вот его, – кивнул отвечавший на солдата, что сидел рядом с ним и с грустным выражением лица, нахмурив брови, смотрел в сторону. Только мы его родных не застали. Немцы, когда здесь были, расстреляли их, а дом сожгли... Ну ничего, мы с фашистами посчитаемся!..
Я попросил солдат дойти до КП, возможно с ними захочет поговорить «батя». Мы с Валей шли так быстро, что солдаты едва за нами поспевали. Я стремительно влетел к Армашову, и он удивленно спросил:
– Что с тобой?
– Сашка нашелся! – воскликнул я.
Армашов сам расспросил солдат, записал кое-что. Пожилой боец добавил с несколько виноватым видом:
– Мы думали, что о младшем Некрасове известно в его части, а то бы сразу сюда пришли. Ведь как получилось. Сидим вот тут на бревне, курим и слышим – девчата о Некрасове говорят. Ну, мы и поинтересовались: о каком?
«Батя» поблагодарил солдат и отпустил их, потом повернулся к нам с улыбкой:
– Ну, вот и жив ваш Саша. Идите ужинайте и ко мне быстрее. Я пока созвонюсь со штабом армии.
Мы с Валей скоро снова были на КП. Армашов уже уточнил, где Саша, и вызвал санитарную машину с врачом. Ему командир полка приказал:
– Если состояние младшего лейтенанта Некрасова позволяет, то забирайте его к нам в лазарет. Среди друзей он скорее поправится.
Усаживаемся в машину, и она трогается. Фронтовые дороги были такие, что и метра ровного не найдешь – все в ухабах. Мы даже шутили, что на них очень легко, быстро и удобно делать из автомашин утильсырье. Нас бросало из стороны в сторону, подкидывало, трясло, но мы не обращали на это внимания. Говорили мы с Валей мало. Каждый из нас по-своему переживал предстоящую встречу. «Будет ли он еще летать, тяжелы ли раны? – думал я. – Как об этом написать отцу, матери?» Валя же, как она потом призналась, думала лишь об одном: только был бы жив. Она все терзалась опасением, что, пока мы доберемся до госпиталя, Саше станет хуже.
Дорога нам показалась необыкновенно длинной, и иногда даже мелькала мысль: а не заблудились ли мы? Наконец машина остановилась, и мы вышли. Вокруг – лес, а перед нами ворота. Нам навстречу вышел часовой, и начались такие продолжительные, нудные переговоры, что я стал терять терпение. В довершение начальник караула сказал нам, что надо ждать утра. С большим трудом мне удалось дозвониться до дежурного врача и уговорить его принять нас. До сих пор я не бывал в госпиталях и больницах, и сейчас мне казалось, что все тут делалось удивительно медленно, неторопливо.
Военврач выслушал меня и с неохотой дал разрешение на встречу с Сашей в столь неурочное время, но на просьбу позволить увезти его ответил:
– Надо обратиться к главвоенврачу. Я с ним поговорю.
И вот мы идем в сопровождении санитара в хирургическое отделение. У двери нас встретила сестра, шепнула, чтобы мы соблюдали тишину, и ввела в палату. Здесь было довольно светло от смотрящей в окно полной луны. Стояло всего три койки, на них неподвижно лежали раненые. Сестра молча указала на кровать у окна. Саша лежал на спине и ровно дышал. Мы подходили к нему тихо, осторожно, боясь разбудить его и других больных.
Свет луны падал на лицо брата, и оно показалось мне мертвенно-бледным. Валя неожиданно вскрикнула и бросилась к Саше. И тут же я услышал его голос:
– Вовка! Валя! Это вы?
Он рывком сел на койке. Я подбежал к нему. Так хочется обнять брата, прижать к своей груди, но вид его удерживает и меня и Валю. Саша весь забинтован, и, возможно, любое прикосновение доставит ему боль.
Сестра опустила штору светомаскировки, зажгла керосиновую лампу и поставила ее около Сашиной кровати. Мы увидели, что левая рука у него прибинтована к телу и торчит как-то неестественно. Валя и я опустились около койки на колени и жадно смотрели в сильно похудевшее лицо Саши. Валя, не выдержав, уткнулась лицом в жесткое одеяло и заплакала. А Саша, несколько растерянный нашим неожиданным появлением, твердил:
– Ничего, все будет хорошо, ничего...
Он то гладил Валю по голове, то пытался улыбнуться мне. Я спросил с замирающим сердцем, с тревогой, со страхом:
– Что с рукой?
– Открытый перелом, – Саша хотел ответить как можно спокойнее, но это ему не удавалось. – Но уже все в порядке. Все исправлено, и наложен гипс. Потом немного голова болела, теперь прошла. Ну, а как в полку?
Так, перебивая друг друга вопросами, мы вели сбивчивый разговор. Проснулись остальные больные и молча смотрели на нас, понимая наше состояние. Обо мне и Вале они уже знали из рассказов Саши.
Валя осторожно прикоснулась к гипсовой повязке на Сашиной руке и заботливо спросила:
– Больно?
– Нет, теперь не больно. Вот только бы правильно срослась, – в глазах Саши была тревога.
Я понимал его: если рука срастется плохо, то он больше не вернется в авиацию.
Наконец наша беседа стала более спокойной. В ней приняли участие соседи по палате. Валя задала вопрос, который все вертелся у меня на языке:
– Как тебя сбили, Саша?
На лице брата промелькнула гримаса. Видно, вопрос был ему неприятен, и я торопливо сказал:
– Об этом потом. Мы, Саша, приехали за тобой, «батя» послал нас. Лишь бы у тебя все было в порядке и ты бы выдержал дорогу.
– Все в порядке! Выдержу! – засуетился Саша.
Он был счастлив, что может вернуться в свою часть, и встал с койки. Валя осторожно помогла Саше спрятать руку под гимнастерку, я натянул ему сапоги. Простившись с товарищами по палате, пожелавшими ему счастливо летать в будущем, Саша вышел с нами.
Сестра, увидев нас в коридоре с Сашей, страшно возмутилась:
– Куда вы ночью уводите больного?
Она и слушать не хотела никаких объяснений. Но тут явился врач, и мы, получив разрешение, покинули госпиталь.
На улице было прохладно. Луна заливала мягким светом глухой, молчаливый лес. Саша глубоко вдохнул свежий воздух и взволнованно проговорил, смотря в ночное небо:
– Как хорошо...
Поддерживая его под руку, мы помогли Саше подняться в машину и с большим трудом уговорили лечь на подвешенные носилки. Это смягчало толчки на неровностях дороги. Шофер вел машину очень осторожно.
– Ну, а вот теперь расскажи все, что с тобой произошло. Как это тебя сбили, что никто не заметил? – спросил я.
Врач, которая все время молчала, нерешительно сказала:
– Может быть, об этом потом?
Саша вздохнул:
– Чего уж скрывать! – Он немного помолчал, потом быстро заговорил: – Когда мы увидели бой, увидели, как наши прижали «лапотников», я разинул рот. Ну, тут пара «фоккеров» и дала мне жару. Я едва успел резким скольжением выйти из-под их огня, крикнул по радио Ремизову, но моя радиостанция, как и часть приборов, оказалась разбитой. Я был метров на шестьсот ниже Алексея. Из перебитой трубки манометра начал хлестать бензин. Меня буквально заливало горючим, даже в сапоги налилось. Мотор стал давать резкие перебои, самолет шел на снижение. Ремизова я потерял из виду. Положение мое становилось все отчаяннее, и я решил выброситься на парашюте. Чувствовал, что вот-вот потеряю сознание от паров бензина. Едва отстегнул ремни, как увидел село, что расположено недалеко от нашего аэродрома. До него оставалось километров пятнадцать, и я решил дотянуть. Однако отравление парами бензина было таким сильным, что уже начало мутиться сознание. А прыгать было нельзя из-за маленькой высоты – до земли оставалось всего двести метров. Ну я и пошел на посадку. Последнее, что помню, так это что я взялся за подкос[4] 4
Подкос – место крепления прицела.
[Закрыть] прицела, надеясь, если скапотирую, избежать удара лицом о прицел. И все...
Саша замолчал. Мы тоже молчали, ожидая продолжения рассказа. Машина осторожно двигалась по разбитой дороге. Передохнув, Саша продолжал:
– В сознание я пришел в госпитале, на операционном столе. Рука была в гипсе. Голова словно разваливалась от страшной боли. Только в палате я узнал, как произвел посадку. Потом скоро уснул и открыл глаза лишь через сутки. В окно светило яркое солнце, я повернулся к нему, и резкая боль в руке напомнила мне обо всем. Так началась моя госпитальная жизнь. Позднее, в этот же день, врач рассказал, что я обязан своей жизнью сельским мальчикам. Ребята видели, как самолет очень низко пролетел над землей, потом задел правым крылом и встал на нос, весь окутанный пылью. Когда дети подбежала ближе, машина уже лежала на спине, одно колесо шасси быстро крутилось, другого не было. В самолете они тоже никого не обнаружили. Ребята обошли машину и увидели распластавшегося на земле летчика. Испугавшись, что он мертв, мальчуганы убежали в село, где стояла воинская часть. Оттуда пришла санитарная машина и увезла меня в госпиталь... Несколько раз спрашивал врача о руке. Он уверял, что кость правильно срастется и я снова смогу летать. – И тут же Саша спросил: – А мой самолет вывезли?
– Вот вернешься и расскажешь, где его искать, – сказал я.
– Так вы ничего обо мне все эти дни не знали? – удивился Саша.
Мы только пожали плечами.
Валя не выпускала из своих рук руку Саши. Она была счастлива, что он жив, что они рядом. Я рассказал Саше о новостях в полку. Он слушал и расспрашивал с такой жадностью, с такими подробностями, словно не был у нас несколько лет. Случай с Костецким произвел на него тяжелое впечатление.
– В нехорошее время я возвращаюсь. И каким? Калекой. Сейчас бы только летать.
– Будешь летать! – успокаивал я его.
– Ты думаешь? – быстро спросил он и тут же разочарованно добавил: – откуда тебе знать, Вовка? Ты же не врач.
– Вот посмотришь, что будешь летать, – сказал я с уверенностью и обратился за поддержкой к врачу. – Верно, товарищ военврач?
Она пробормотала в ответ что-то невнятное. Но тут машина остановилась и, фыркнув мотором в последний раз, затихла. Мы были в родном полку!








