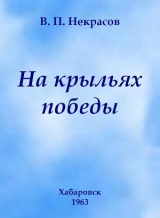
Текст книги "На крыльях победы"
Автор книги: Владимир Некрасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Я подумал, что Марков не слышит приказа, и решил ему помочь. Связался с ним и передал приказ полковника, но Марков и мне ничего не ответил. «У него барахлит рация», – решил я и, взяв связь на себя, развернулся перед носом машины Маркова, помахал ему крыльями: «Следуй за мной!»
В нашей группе только я и Марков имели право на радиопередачу. Я получил от «Березы-один» приказ следовать навстречу «фоккерам» и изменил курс полета. Марков последовал за мной, но своего командного места в группе не занял и стал набирать высоту.
«Что он делает?» – недоумевал я. Исправлять ошибку Маркова было некогда. Мы вышли к линии фронта и увидели восьмерку «фоккеров», которые штурмовали наш передний край. Я с ходу врезался в строй немцев, имея в виду, что Марков сверху прикроет нашу четверку. Однако этого не произошло.
Вражеские летчики приняли бой. Они набрали высоту и, имея двойное превосходство в количестве, быстро заняли выгодную позицию. Ох, как нам нужна была в это время помощь Маркова! Но он ушел с места боя на свою территорию, уводя своего ведомого Виктора Сергеева. Командир дивизии приказывал ему вернуться, но Марков молчал.
А у нас схватка с немецкими летчиками становилась все яростнее. Немцы во что бы то ни стало решили разделаться с нами, сковав наше маневрирование на вертикали. Они сейчас были хозяевами высоты и непрерывно нас атаковали, но успеха пока не имели из-за хорошей слетанности нашей четверки. Мы крепко держались друг друга. Это приводило немцев в ярость. Они наседали и наседали. Я был страшно зол на Маркова. Появись он со своей парой – и бой был бы нами выигран! Я непрерывно вызывал его по радио, но Марков молчал. Трус, подлец, предатель!
Какими только эпитетами я его не награждал! Но от этого было не легче. Бой шел пока вничью. Мы крутились до потемнения в глазах, с каждым кругом сближаясь с неприятелем. Первая же атака пары Маркова дала бы прекрасные результаты – один-два немца немедленно бы отправились к праотцам.
В этот момент два «фоккера» снова атаковали нас, но мы их пропустили вперед, избежали огня и не прекращали преследования четверки фрицев, на которых мы заходили в атаку.
Наша выдержка и умение, конечно, принесли бы нам хорошее завершение боя, правда, после трудной борьбы, но тут Вано Исмахамбетов спутал все мои расчеты. Он кинулся за уходящей парой «фоккеров», подставив себя под огонь других немецких летчиков. «Сейчас его собьют», – мелькнула у меня мысль, и я кинулся к нему на помощь, бросив тех фрицев, атака на которых предвещала нам успех.
Однако я опоздал. Вано с короткой дистанции сбивает одного «фоккера», но в ту же минуту сам окутывается огнем и дымом и идет к земле, а остальные вражеские машины на бреющем полете уходят на запад. Мы ничего не можем сделать. Самолет Вано, или, вернее, его остатки пылают на земле рядом с обломками им же сбитого «фоккера». Во время боя мы далеко ушли в глубь территории, занятой врагом. В воздухе нас осталось трое. Я снова смотрю на горящий самолет, прохожу над его останками и веду товарищей домой.
Солнце затянуто дымкой и кажется кроваво-красным. Оно точно подожгло нижние кромки облаков у горизонта... А может быть, это отблеск горящего самолета Исмахамбетова? Эх, Вано, Вано... Ведь погиб из-за своего же легкомыслия, из-за неоправданной горячности.
И я опять вспоминаю о Маркове. Будь он рядом, все могло быть иначе. И Вано был бы жив! А где же Марков? На аэродроме его тоже не оказалось. Едва я зарулил свой самолет на стоянку, как в наступающих сумерках неровной «походкой» подошел «як». Или машина повреждена, или летчик ранен? А может быть, и то и другое? На запросы по радио летчик не отвечал. Мы помогли ему сесть при помощи ракетниц, подсвечивая посадочную площадку. «Як» коснулся земли колесами, некоторое время бежал по полосе, потом правая нога шасси сложилась, «як» упал на крыло, взрыл землю и скапотировал. Летчики и техники бросились к машине и вытащили из кабины Виктора Сергеева, ведомого Маркова. Виктор, раненный в грудь и ноги, был весь в крови. Сознание вернулось к нему только в лазарете, где готовились его оперировать. Виктор медленно, тихим голосом рассказал, что произошло...
Когда Марков увел его от места боя, Виктор несколько раз пытался показать командиру, что надо вернуться к сражающимся товарищам, но Марков не отвечал. Оставить Маркова ведомый не мог. И вот они ходили над линией фронта под облаками, пока мы дрались с восьмеркой «фоккеров». Виктор порывался бросить Маркова и идти к нам, но дисциплина удерживала его на месте. Он страдал оттого, что товарищи сражаются, а он спасается.
– Это было предательство, – шептал Виктор, и по его лицу текли слезы.
Врач приказал Сергееву замолчать, но он упрямо продолжал и закончил свой рассказ.
На него и Маркова из-за облаков неожиданно свалилось четыре «фоккера». Марков хотел уйти от них в облако, Виктор кинулся на атакующих, прикрывая командира, но тут его прошила первая пулеметная очередь с вражеского самолета. У него была перебита правая нога, и машина уже плохо слушалась. Вскоре Виктора настигла вторая очередь. Он на какое-то время потерял сознание. Открыл глаза уже на высоте девятисот метров. Самолет падал. Виктор с трудом выровнял его и повел к аэродрому, чувствуя, как у него иссякают силы... Последние минуты полета он плохо помнит...
Марков так и не вернулся на аэродром. Он был сбит фашистами. «Пуля, что пчела: побежишь – ужалит», – подумал я. Бесславная и позорная смерть. Смерть труса и предателя. Ни у кого из нас не шевельнулось ни капли жалости к Маркову.
Но как мы все горевали, когда утром узнали, что Виктор Сергеев скончался от ран. Хоронили его в саду около КП. Над могилой заместитель командира полка произнес речь. Я смотрел на красивое лицо Виктора, которое даже смерть не могла исказить. Оно было спокойным, даже гордым. Так выглядят люди, когда погибают, выполняя свой долг перед Родиной.
Два самолета проносятся бреющим полетом над могилой Виктора Сергеева, отдавая ему последнюю почесть...
На запад, на запад!Доблестная Советская Армия, разгромив гитлеровские полчища под Москвой и на Волге, выходила к Балтике. Прорвавшись к Мемелю, наши воины отрезали большую группировку немцев на Курляндском полуострове, загнали их «в мешок», как когда-то любили выражаться фашисты.
Снова перебазировка. Перед вылетом командир полка поздравил Степана Гуру и меня с присвоением нам очередного звания – старшего лейтенанта.
Мы поднимаемся в воздух, делаем прощальный круг над аэродромом и уходим вперед, на запад! Это было рано утром. Вставало солнце, и мне оно казалось огромным знаменем близкой победы...
С ходу вступаем в боевую работу, едва осмотревшись на новом аэродроме. В эти дни мы прикрывали бомбардировщиков, которые наносили мощные бомбовые удары по Кенигсбергу и Мемелю.
Наконец-то я увидел море. Вот оно лежит – огромное, серо-синеватое. Наши бомбардировщики заходят над портом, где скопились немецкие корабли, и бросают в них бомбы. Они рвутся огненными фонтанами на причалах, в воде, поднимая бело-синие столбы. В этот момент появляются две четверки «фоккеров» и направляются к нашим бомбардировщикам. Мы вступаем с ними в бой, и фрицы уходят, не солоно хлебавши. Но тут зенитки подбили один наш бомбардировщик. У него задымил правый мотор, и самолет начал терять скорость. Мы с Симченко его прикрываем, и бомбардировщик спокойно добирается до своей базы.
После взятия Мемеля мы получили приказ идти в Курляндию. Предстояла сложная работа – блокировать все аэродромы немцев на их Курляндском плацдарме, наносить массированные удары по порту Либава, через который фашисты снабжали свои войска и вели эвакуацию. Недалеко от порта был аэродром Серава, имевший две посадочные полосы в виде римской цифры V. Нашему полку было приказано подавить огонь зенитной охраны аэродрома и не позволить ни взлететь с него, ни приземлиться здесь ни одному вражескому самолету.
На эту операцию вышло тридцать самолетов. Я командовал группой нижнего яруса. Мы незаметно подлетели к посадочным полосам раньше всех. Две четверки наших истребителей, которыми командовали недавно назначенные командирами звеньев Бродинский и Хохряков, сразу набросились на зенитные батареи. Я же со своей парой должен был не дать взлететь тем вражеским самолетам, которые попытаются это сделать. В месте расхождения посадочных полос стояло четыре «фоккера». Два сразу начали разбег для взлета. Я кинулся к ним. Немецкие самолеты успели оторваться от земли, но скорость у них была еще мала. Я открыл огонь по ведомому немцу, и он сразу же клюнул в землю. За ним последовал и второй. Как и почему разбился второй «фоккер», я не знаю. Может, я случайно задел его, может, у него что-нибудь испортилось. Но, в конце концов, это не столь уж важно. Главное, что два «фоккера» прекратили существование на своем же аэродроме.
А мои товарищи штурмовали зенитные батареи, подошедшие бомбардировщики громили стоянки самолетов. В горящие факелы превратились и оставшиеся на взлетной полосе два «фоккера». Разгром немецкого аэродрома был полнейшим. У нас потери небольшие – подбит один бомбардировщик. Экипаж его выпрыгнул на парашютах над нашими частями.
Ночью немцы решили взять реванш, отомстить нам за свой аэродром. Они, умело маскируясь, налетели большим соединением и начали такую бомбежку, что земля ходила ходуном. Мы сидели в щелях, потом я выбрался наружу. Ночь была ясная, звездная и холодная, земля уже подмерзала. Я с удивлением увидел, что немцы бомбят где-то в стороне от нас совершенно пустое место. И это при хорошей-то видимости! Очевидно, наш настоящий аэродром они принимают за фальшивый и бомбят предполагаемый «настоящий» аэродром. Немецкая разведка стала непрерывно давать осечки!
Я уже собрался вернуться в блиндаж, как увидел огонь в районе стоянки наших самолетов. Я крикнул товарищам и побежал на аэродром. Через десяток шагов я понял, что горит оружейная каптерка нашей эскадрильи. А в ней ведь хранится весь боекомплект на завтра. Мне стало так жарко, что я рванул ворот и пустился бежать изо всех сил. На пути к каптерке был довольно глубокий овраг. Я скатился на его дно, а выбраться в темноте никак не мог – доберусь до половины склона и обрываюсь вниз. Наконец кое-как, на четвереньках, выполз наверх, цепляясь за кусты, и снова побежал.
К каптерке я подоспел в тот момент, когда наша оружейница Зоя Мосина, выломав дверь (эта девушка в полку славилась своей огромной силой), вбежала в землянку, где уже бушевал огонь. Я бросился за ней.
В углу каптерки стоял ящик, куда бросали паклю после чистки оружия. Зоя схватила ящик и, не обращая внимания на едкий дым и огонь, бьющий прямо в лицо, крикнула:
– Посторонись, командир!
Едва я отшатнулся, как ящик с грохотом вылетел из землянки. Я выскочил на чистый воздух полузадохнувшийся от дыма и стал гасить паклю, чтобы огонь не привлек внимания немецких летчиков. Расправившись с. огнем, я спустился в каптерку и увидел, что Мосина спокойно сидит и причесывается. Окно завешено плащпалаткой, а на столе помигивает коптилка. В землянку вбежали несколько летчиков. Мосина встретила их сердитыми словами: – Вам бы спать надо! Я поддержал ее:
– Товарищи офицеры, тревога ложная. Можно отдыхать. Там, где сержант Мосина, все в порядке!
Летчики вышли из землянки. Было необычайно тихо. Но мы ошиблись, предположив, что бомбежка кончилась: над нами вдруг раздался такой вой, что по спине мурашки поползли. Немцы иногда применяли воющие бомбы, которые довольно эффективно действовали на людей со слабыми нервами. К тому же каждому казалось, что бомба падает именно на него.
Мы в это время были в овраге и бросились ничком на его дно. Огромный оглушительный взрыв потряс все вокруг, на нас полетели комья земли, барабаня по спинам. Закрыв головы руками, мы лежали под этим градом. Когда все стихло, направились к своей траншее, но не нашли ее. Во время взрыва бомбы траншею завалило.
Сегодня 7 ноября – двадцать седьмая годовщина Октябрьской революции. Праздник не только в наших сердцах – праздник в природе: день стоит удивительно солнечный, какой-то особенно светлый. Я и мои товарищи думаем о том великом событии, которое произошло в 1917 году, когда был взят штурмом Зимний дворец и над страной взвилось алое знамя свободы.
Сколько было пролито крови за нашу свободу! В дальневосточной тайге сражались с белыми и интервентами партизаны, среди них был и мой отец. Так неужели я мог бы дрогнуть, отступить? Клянусь именем отца, именем Родины, что буду до последнего дыхания защищать завоевания Великого Октября!
Вечером перед полковым знаменем выстроился весь полк. В торжественной тишине командование поздравило нас с великой годовщиной, призвало к новым боевым подвигам. А затем представитель дивизии вручил ордена и медали летчикам и техникам, которые отличились в последних боях. Я был награжден орденом Отечественной войны I и II степени за бои в Латвии и Литве. В тот же день командование части послало моим родителям письмо, в котором рассказывало о моей боевой работе.
Это письмо сохранилось в нашей семье. Вот оно:
«Многоуважаемые Петр Михайлович и Анна Дементьевна!
В день праздника, 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, примите пламенный фронтовой привет от личного состава части, где служит и воюет ваш сын Владимир Петрович Некрасов. Нам хочется рассказать о боевых делах вашего сына.
Более ста семидесяти боевых вылетов, десятки воздушных схваток и семнадцать лично сбитых фашистских самолетов – вот итог боевой работы Владимира Некрасова.
Свой долг и воинскую присягу он выполняет честно и добросовестно. Мы гордимся смелостью, храбростью, отвагой, умением и героизмом вашего сына.
За смерть брата Александра он мстит немецким фашистам беспощадно, и еще не один стервятник разделит участь тех семнадцати, которых так ловко вогнал в землю Владимир Некрасов.
Четырьмя орденами наградило его правительство. Гордитесь своим сыном. Желаем вам скорой встречи с Владимиром и доброго здоровья.
До свидания!
По поручению: майор АРМАШОВ,капитан ПЯТИГОРЕЦ,лейтенант ГУРА,старшина МИХЕЕВ.7 ноября 1944 года.Наш адрес: полевая почта 26349».
...Внезапно перебазируемся на аэродром в Эзеры, который недавно был отбит у немцев. Перед отступлением они взорвали его бетонное покрытие, но наши саперы сразу же взялись за восстановление посадочных полос. Пока полетов нет и мы отдыхаем. Стоит зима. За аэродромом, где у немцев проходила оборонительная полоса, из-под снега торчат вражеские трупы. Брустверы буквально засыпаны патронами. Как отчаянно ни сопротивлялись здесь немцы, но наши воины их выбили и отбросили далеко на запад!
Стоянки для самолетов мы оборудовали в лесу, около которого было создано временно летное поле. Маскировка оказалась идеальной. Мы начали разведывательные полеты...
Идем с Виктором Бродинским к станции Скрунда. Путь преграждает стена зенитного огня. Мы ее благополучно перескакиваем, но вновь натыкаемся на такой густой огонь, что, как говорится, и дохнуть нечем.
– Будь осторожней, – говорю я Бродинскому.
Совет советом, а обстоятельства – сами по себе. Самолет Виктора неожиданно резко идет вниз и скоро исчезает за линией фронта. Что с ним случилось? Запрашиваю Виктора. Он отвечает уклончиво:
– Тряхнуло! Да и рули, кажется, чуть-чуть заклинило.
– Домой, – приказываю я. – Буду прикрывать.
До аэродрома дошли благополучно. Я приземлился первым и, выпрыгнув на плоскость, следил за Бродинским. Он при посадке не выпустил одно колесо – шасси повредило осколком. «Как-то Виктор справится с посадкой? А может быть, он сам ранен?» – тревожусь я за друга. Вот самолет коснулся полосы одним колесом, пробежав немного, взрыл снег правым крылом и, быстро повернувшись вокруг своей оси, остановился. К самолету спешат летчики, техники, но впереди всех наш «батя». Из кабины вылезает невредимый Бродинский, и все облегченно вздыхают. «Батя» говорит Виктору:
– С посадкой справились хорошо!
Я рассказываю об этом случае потому, что он наглядно показывает, как возросло мастерство наших летчиков. Они всегда в самой тяжелой обстановке принимали правильные решения, думая прежде всего о том, как бы нанести больший урон врагу и сохранить технику. Ну, а если другого выхода не было, то шли на таран.
Вскоре, находясь на прикрытии штурмовиков, которые обрабатывали вражеский передний край бомбами и реактивными снарядами, одна наша машина была подбита и вспыхнула так ярко, что превратилась в огненное облако. Летчик, видимо раненый, направил горящий самолет на немецкие укрепления. Он врезался в них очень точно, погребая под собой не один десяток фашистов. Это был огненный таран.
Слава патриоту, слава герою!..
Последние схватки– Петров вернулся. Петров жив! – послышались громкие взволнованные голоса у нашей землянки.
Петров? Петров... Да это же наш летчик! Он был сбит под Запорожьем. Я выбегаю на улицу и вижу у крыльца толпу товарищей. Они окружили радостно улыбающегося Петрова, жали ему руки, что-то говорили, перебивая друг друга. Я сразу узнал его, хотя он очень изменился. В лице появились жесткие и, я бы сказал, гневные черточки. Глаза смотрели строго и как-то задумчиво, как это бывает у много переживших людей.
Мы засыпали его вопросами, а сами не давали ему говорить. Наше волнение было понятно: вернулся товарищ, которого мы считали погибшим. Когда все немного успокоились, Петров поведал нам свою историю.
Его сбили вблизи немецкого аэродрома. Все же ему удалось сесть. Опасаясь, что и самолет и документы могут быть захвачены гитлеровцами, Петров сжег их, а сам направился на восток, но набрел на немецкий патруль. Это произошло так неожиданно, что он не смог произвести ни одного выстрела из своего пистолета.
Связанного летчика привели на фашистский аэродром. Здесь четыре дня гитлеровцы уговаривали Петрова перейти на их сторону, помогать им в обучении молодых летчиков. Он отказался. Убедившись, что советский авиатор не станет предателем, его решили передать в руки гестапо. По дороге с аэродрома Петрову удалось бежать. Вслед ему немцы открыли автоматный огонь, пули срезали ветки вокруг, но он остался невредимым, лес скрыл его. Теперь дорога летчика шла к линии фронта. Он стал более осторожным – днем отсиживался в лесу, в глухих уголках, а ночью продолжал свой путь. Но как тяжело было ему, советскому человеку, прятаться на своей земле! Горело сердце ненавистью к врагу, когда проходил мимо разрушенных сел, мимо виселиц, где покачивались трупы русских патриотов.
«Скорее к своим, скорее в родную летную часть, чтобы мстить оккупантам», – это было единственной мыслью Петрова. Но у одной деревушки вблизи фронта он вновь был схвачен и несколько дней просидел в яме. Затем его погнали в тыл вместе с другими задержанными. Гнали голодных, оборванных, били прикладами, и если кто-нибудь падал, его сразу же пристреливали. Так погибло на глазах Петрова несколько стариков, женщин, раненых советских военнослужащих.
Группа пленных была в девяносто человек. За шесть дней, что шел с ними Петров, на дорогах и в кюветах осталось сорок трупов. На седьмой день Петров вновь бежал и пошел назад, к фронту. В течение месяца он прятался по лесам, в подвалах, где его укрывали честные советские люди. Эти люди переодели летчика в крестьянское платье, достали документы на имя шофера Иванова, который якобы направлен за получением запчастей для ремонта сельхозмашин.
Шаг за шагом лейтенант упорно приближался к фронту. И когда до своих было уже близко, советского летчика выдал предатель. На дороге возле одного села Петрова нагнала подвода, возница предложил подвезти его. У въезда в деревню им встретился немецкий патруль, и возчик, подозвав офицера, что-то сказал ему. Петрова арестовали, а возчик получил за свое предательство куль соли, которую в виде премии выдавали немцы тем, кто помогал им ловить бежавших пленных.
Над лейтенантом нависла страшная опасность: через несколько дней после его ареста под натиском советских войск фашисты были вынуждены начать отступление, и, чтобы им было легче «драпать», они получили приказ расстрелять большинство пленных. Утром Петрова и его товарищей по несчастью вывели из села, в котором они ночевали, и у какого-то рва приказали раздеться донага. Даже при отступлении фашисты оставались верными себе – обогащались за счет одежды расстрелянных.
Падали на землю рубашки, пиджаки, белье. В общую кучу швырнул и Петров свою нательную рубаху. Грязное, заношенное тряпье ворошил тростью офицер, отбирал для себя что получше, покрепче. На глаза ему попала нижняя рубашка летчика с клеймом «БАО». Офицер издал какое-то восклицание, и Петров получил приказ одеться. Его тут же посадили в автомашину и повезли прочь от места расстрела, где уже раздавались автоматные очереди и крики погибающих. Летчик хотел выпрыгнуть из машины, но его сбили с ног, прижали к днищу кузова. Почти потерявший сознание, он был доставлен в село, в разведку. Там его долго допрашивали, затем сфотографировали.
– Я все время настаивал на том, что я шофер Иванов, что шел за запчастями, – рассказывал Петров. – Неожиданно меня сильно избили и бросили в подвал. Через три дня вызвали на допрос. Я стоял на своем. Тогда офицер замахнулся на меня, но не ударил, а стал листать какой-то журнал. Из него он вынул фотографию и показал мне: «Вы?» Я увидел себя в летной форме. Отпираться было бесполезно, но я все-таки сказал:
– Это я сфотографировался ради шутки. Хотелось похвастаться перед девчатами, что, мол, я военный летчик. Они же любят военную форму.
– А эти тоже ради шутки сфотографировались? – и офицер стал показывать мне фотографии многих летчиков нашего полка. Я вначале растерялся, а потом меня охватило бешенство. Какая-то сволочь шпионит в нашем полку! Я не заметил, как выкрикнул эти слова, и выдал себя. Офицер был доволен и стал продолжать допрос, но я уже взял себя в руки и перестал отвечать даже на пустяковые вопросы, заявив, что в полк прибыл недавно и ничего и никого не знаю...
Петрова били, били нещадно, допытывались важных сведений. Истерзанного, но не сломленного летчика отвели в отдельную комнату гестапо. В коридоре, который выходил во двор, всегда находился часовой. Через несколько часов, под вечер, в комнату летчика вошла женщина с ведром воды и тряпкой и стала мыть пол. Часовой наблюдал за ней. Наконец это ему надоело, и он отошел. Тогда женщина шепнула Петрову:
– Когда услышите мой смех, бегите. Я задержу немца.
Женщина ушла. Что это – новая провокация? Но Петрову нечего было терять, и он решил поступить так, как ему советовали. Женщина, выходя, не закрыла дверь на ключ. Через несколько минут донесся женский смех, он становился все громче. Петров выглянул из своей камеры. Часового не было, а из соседней комнаты слышались возня и смех женщины. Летчик на цыпочках пробежал коридор, выскочил во двор, уже погруженный во мрак. Начинал накрапывать дождь. Не веря в свое освобождение, Петров перемахнул через забор, миновал какую-то улицу, оказался за селом и направился к линии фронта.
Побег удался...
Мы выслушали рассказ товарища, и, конечно, первый наш вопрос был о том, как фотографии летчиков полка оказались у немцев. Но сколько мы ни ломали головы, ничего узнать не могли. Ответ на это пришел позднее...
На другой день я, как обычно, сидел в своем самолете в боевой готовности: я своей четверкой должен был прикрывать «горбатых», идущих на обработку немецкого переднего края. Сегодня у меня ведомым молодой летчик, недавно прибывший в эскадрилью, – Миша Олейник. У Бродинского тоже новичок – Касьян. Неожиданно звонит телефон, установленный на плоскости моего самолета. Меня вызывают на КП. Я выпрыгиваю из машины, сбрасываю парашют и бегу к «бате». Оказывается, некоторое изменение задания: пойдем прикрывать «горбатых», которые будут штурмовать станцию Скрунда, – там идет выгрузка вражеских войск. Бегу назад к самолету, где механик уже держит парашют, натягиваю лямки на себя – и в машину.
Над нами проходят штурмовики. Наша четверка идет на взлет и пристраивается к ним. Я договариваюсь с их ведущим о предстоящей работе. Кажется, все в порядке.
Пройдя линию фронта под сильным зенитным огнем, мы подошли к станции Скрунда. Здесь нас встретил комбинированный огонь крупнокалиберной и малой зенитной артиллерии. Штурмовики пошли на станцию – и зенитный огонь неожиданно оборвался. «Что-то хитрят немцы», – подумал я и предупредил Бродинского:
– Смотри в оба. Затишье не к добру!
В разгар штурмовки я заметил появившуюся над нами четверку «фоккеров». Предупреждаю о ней Бродинского. Немцы не вступают в бой, чего-то ждут. Мы начеку. Что же будет дальше? Наши «горбатые» наносят второй удар по станции – и тут же под ними появляется еще четверка фрицев.
– Занимайся верхними немцами, нижних беру на себя, – сказал я Бродинскому и предупредил ведущего «горбатых»: – Закругляйтесь. Дело серьезное.
Ситуация действительно была серьезной. Ведь в нашей группе только два опытных истребителя, а два – еще новички. Немцев же восемь. Я с ходу даю пулеметную очередь, и нижняя четверка «фоккеров» отходит в сторону. Выше меня уже ведет бой Бродинский. Он начал заходить в хвост «фоккеров», но вдруг его обогнал его же ведомый и подставил себя под огонь фрицев.
– Куда! – закричал я, но было уже поздно. Молодой летчик Касьян делает ошибку и идет не вверх, а уходит в глубокую спираль.
Я пытаюсь ему помочь:
– Касьян! Идите с набором[5] 5
Идти с набором – набирать высоту.
[Закрыть]!! – говорю я и бросаю свой самолет наперерез «фоккеру», преследующему Касьяна. Но я был далеко. Бродинский, находившийся ближе, понимает мое намерение и кидается на врага, который пристроился к хвосту машины Касьяна. Бродинский рискует собой, так как подставляет себя под огонь другого немца. Но таков закон нашей жизни: сам погибай, а товарища выручай!
Вражеский летчик, преследующий Касьяна, и Бродинский, идущий за ним следом, открывают огонь одновременно. На плоскости самолета Касьяна рвутся снаряды, но и от «фоккера» летят осколки. Два самолета – наш и вражеский – обрывают полет и падают.
Гитлеровские истребители, бродившие внизу, пошли в атаку на наших штурмовиков. Я дал несколько очередей по немцам, и они отвернули. В это время к моему ведомому Олейнику пристроился «фоккер», заметив, что он еще малоопытный летчик, – это в воздухе сразу видно.
– А, младенцев бить! – обозлился я и, поймав фрица в прицел, нажал на гашетку пушки. Снаряды прошили вражеский самолет, и он, задымив, исчез внизу. Но, очевидно, перед своей гибелью немецкий летчик успел все-таки дать огонь по Мише, потому что его самолет «ковыляет». Долго ли он сможет продержаться?
В этот момент раздался крик Бродинского.
– Вовка, сзади фриц!
И не успел я отвалить в сторону, как длинная пулеметная очередь резанула по моему самолету. С приборной доски сверкающими брызгами разлетелись стекла приборов. Кабина наполнилась дымом. Я откинул фонарь и проветрил кабину. Самолет меня слушается. Осмотрелся. Два «фоккера» далеко от нас вверху, слева от меня самолет Олейника то и дело поклевывает носом, а около него Бродинский.
Мое внимание привлекает сильный запах горелого масла. «Мотор поврежден. Скоро сгорит!» Я иду со снижением в сторону солнца. Надо как можно дольше протянуть, оказаться над своими войсками. За моим самолетом остается шлейф дыма, а кабина превращается в какую-то дымовую душегубку. Дым не успевает вытягиваться, я задыхаюсь, глаза слезятся. Ко мне спешит Бродинский, но я ему машу рукой, чтобы он следил за Олейником. Приходится объясняться жестами, так как рация тоже разбита. Будь он проклят, фриц!
Где же я? Сколько нахожусь в полете? Часы разворочены пулей, ничего неизвестно. Вспоминаю, что бой шел в тридцати километрах от линии фронта. Перешел ли я ее? Надеваю очки, но они сразу же покрываются льдом. По-прежнему тяну на юг. Буду лететь, сколько смогу...
Было это 26 января 1945 года. Этот день явился тяжелым боевым крещением для Миши Олейника. Вот что с ним произошло. Как только очередь с вражеского самолета пробила его машину во многих местах, Мишу что-то тяжело ударило по голове и легло на шею так, что он не мог выпрямиться, и продолжал лететь с этой непонятной тяжестью на шее. Летел по приборам. Так как навыки у него были еще небольшие, то он, конечно, растерялся. Возможно, Миша погиб бы, если бы не присутствие Бродинского, который успокаивал его, убеждал, что все будет благополучно.
Как важно присутствие – да, даже только одно присутствие – товарища в тяжелую минуту! Миша успокоился, и нервная дрожь, которая била его, прекратилась. Он попытался сбросить тяжесть с шеи, но тут же получил новый сильный удар по голове. Что же там сзади? Посмотреть мешала меховая куртка, которая связывала движения в и без того тесной кабине.
Бродинский что-то говорил ему по радио, но Олейник не мог разобрать. Почувствовав, что до аэродрома он не дотянет, Миша чуть высунулся из кабины и стал присматривать площадку для посадки. Увидев неровный круг озера, начал заходить на него.
– Что ты делаешь?! – крикнул ему Бродинский. – До аэродрома уже близко. Протяни немного.
Но Миша плохо соображал. Голова болела, в ушах стоял звон. Он выпустил шасси, щитки и стал планировать на озере, на обнаженную ветрами полосу льда. И вот колеса коснулись ледяной поверхности. Олейник резко затормозил. Самолет встал у самого берега перед зарослями кустарника, занесенного снегом.
Миша с трудом выбрался из машины и смог осмотреть кабину. Несколько фашистских снарядов разбили бронестекло, прикрывающее голову летчика сзади. Крепление было сорвано. Бронестекло-то и ударило летчика по голове, а затем навалилось ему на шею. Миша выругался. Нелепая причина вынужденной посадки! Его самолет стоял на малой ледяной площадке, взлететь было невозможно.
Миша снял радиостанцию и часы, положил в парашютный чехол, сличил свой ручной компас с самолетным, закрыл кабину и побрел на юг. После нескольких десятков шагов остановился. Где же он? Может, на территории, занятой врагом?

На лбу его выступил пот. Вокруг лежала безмолвная белая пустыня, и среди нее – человек, он, Олейник, экономя силы, делал шаг за шагом в надежде, что выйдет к своим...
Бродинский, видя, что Миша пошел на посадку, взглянул на свои приборы и обнаружил, что стрелка бензомера стояла на красной черте. Горючее кончилось. Бродинский знал, что в пяти километрах от озера есть станция и около нее – посадочная площадка. Он направился к ней и благополучно приземлился. Здесь его заправили горючим, но взлететь не разрешили, так как наступал ранний зимний вечер.








