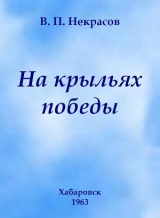
Текст книги "На крыльях победы"
Автор книги: Владимир Некрасов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Куда вы? Я атакую! Прикрывайте!
Оказавшись в двухстах метрах от немцев, я пошел в атаку. Маркова нигде не было видно. Немцы заметили меня только на расстоянии полсотни метров, но к этому времени один «фоккер» с разбитым хвостом (в него угодил мой снаряд) уже устремился к земле. Оставшиеся фашисты сделали левый разворот, я – противоположный, и между нами образовался большой разрыв. Осмотрелся. Маркова по-прежнему нигде не было. С наземной станции, где в это время оказался командир нашей дивизии, мне приказали:
– Тридцатый! Возвращайтесь домой! Хватит одного! Я снизился и пошел на аэродром. «Фоккеры» отстали. Я приземлился и с удивлением увидел, что самолета Маркова нет. «Куда же он девался?»
Марков появился минут через десять. Выбравшись из кабины на плоскость и потрясая кулаками, он во все горло кричал, что я трус, что я покинул его во время боя! Чего-чего, а такого нахальства я не ожидал! У меня даже не хватило сил на возмущение. В это время на аэродроме на «По-2» приземлился командир дивизии, который видел наш бой. Комдив ушел на КП, куда вскоре вызвали меня и Маркова.
– Кто первый атаковал фоккеров? – спросил комдив.
– Я, товарищ полковник, – гордо ответил Марков.
– На расстоянии двух километров открыли огонь? – полковник был зол. – Как же вы могли так поступить? А после атаки ушли, оторвавшись от своего ведомого и забыв о нем. И куда ушли? По Висле на юг! Скажите спасибо, что мы вас по радио вернули, а то, возможно, горели бы вы сейчас в обломках где-нибудь у немцев. Эх вы! Идите! Хвастун! И прекратите болтовню!
Строго отчитал комдив нашего Маркова и вкатил ему выговор. К этому времени нам доставили схему боя от штурмовиков, и тут уж позорное поведение Маркова перед всеми предстало наглядно. В некрасивом положении он оказался. Но с тех пор потерял свою спесь и стал тише воды, ниже травы.
Горько рассказывать об этом позорном случае, но, к сожалению, и такие были. И у нас находились люди, которые на земле храбрились, а в воздухе вели себя, как самые настоящие трусы. При таких качествах можно было и пятьсот вылетов сделать, а толку-то? Один лишь расход горючего и боеприпасов. Разоблачение Маркова, раскрытие его подлинного лица пошло на пользу всей части: мы еще больше сдружились. Был рад этому и «батя».
...Наша жизнь идет своим чередом. Мы много времени отдаем вводу молодых летчиков в боевой строй. Я и сейчас с удивлением думаю о той воздушной смене. Наступление Советской Армии, уверенность в грядущей победе вызывали у нас такой прилив сил, что молодые летчики гораздо быстрее, чем в свое время мы, осваивались в боевой обстановке.
Хорошие результаты показывают пары Соколов Даватьян и Хохряков – Хроленко. Они уже действуют самостоятельно. Особенно радуемся за Хохрякова и Хроленко, которые побывали уже во многих боях и обещают стать отличными летчиками-истребителями.
К сожалению, жизнь состоит не из одних приятных и радостных явлений. С тревогой слежу за Петром Прониным: он очень неохотно летает с Исмахамбетовым. Как-то Пронин сказал мне:
– Понимаешь, нельзя полностью доверяться этому парню. Забывает он в бою о товарищах и выкидывает такие трюки, что они до добра не доведут.
Большую тревогу вызывала пара Чистов – Шатохин. Они медленно и как-то неуклюже осваивали все тонкости летного дела. С ними мы занимались больше, чуть ли не круглыми сутками: днем проводили полеты, учебные бои над аэродромом и стрельбы по щитам, а вечером разбирали результаты занятий.
У меня забот прибавилось, и я с завистью смотрел на товарищей, которые играли в городки, сидели за книгами – словом, отдыхали. Мне же приходилось следить, как идет ремонт техники, присутствовать на совещаниях у командира полка, заниматься с молодыми летчиками, проверять службу нарядов...
Но как бы я ни был загружен, а все же всегда находил часок-другой для танцев. Нашими партнершами были веселые польские девушки. Они приносили с собой патефон, и мы так лихо исполняли замысловатые танцы, словно были прирожденными поляками. А когда девушки затягивали песни, мы дружно подхватывали и, конечно, коверкали язык, путали слова, что вызывало взрывы веселого смеха. В эти минуты мы забывали о войне. Молодость брала свое.
Да и дела на фронте шли хорошо. Это мы чувствовали на себе. Вылетая на разведку, на фотографирование позиций врага на западном берегу Вислы, мы реже подвергались зенитному обстрелу. Фрицы уже осторожнее расходовали боеприпасы. И с той и с другой стороны накапливались силы.
На эстонской землеПриказ о перебазировании. Место назначения еще неизвестно, но по всему определяем, что путь предстоит дальний. Готовимся целую неделю. Перелет открывает передовая команда, а за ней по порядку – штаб, летный эшелон, техсостав.
Маршрут пересекает Барановичи, Минск, Оршу...
...Подходим к Чудскому озеру. Вот оно, озеро русской славы! Где же Вороний Камень, с которого Александр Невский следил за битвой, за разгромом русскими воинами «железной свиньи», псов-рыцарей? Сколько вражеских костей лежит на дне озера! Такая же судьба ожидает и фашистов, потомков псов-рыцарей!
Настроение у меня приподнятое. Погода прекрасная, небо высокое, чистое. Озеро искрится под солнцем. Я вспоминаю картину «Александр Невский», ее отдельные кадры. Какой замечательный фильм, как он помог многим советским людям в их борьбе с фашистами!.. Иной раз слово писателя, игра артиста, кисть художника оказываются сильнее пушек и пулеметов!
Проходим Псков и вскоре приближаемся к поселку Выру, около которого вдоль опушки леса тянется посадочная площадка. В стороне от нее вижу несколько капониров и стоящие в них самолеты. Но они не нашего полка. «Видимо, уходят, в тыл на отдых и пополнение, – думаю я. – Мы их сменяем». Что ж, друзья, отдыхайте хорошо, набирайтесь сил, а мы продолжим вашу боевую вахту на эстонской земле! Иду на посадку...
Командир полка приказывает побыстрее устраиваться, обживать аэродром, так как можем вылететь на боевые операции в любое время.
На аэродроме идет обычная суматоха, которая бывает при перебазировании части. Садятся все новые и новые машины. Приближается вечер...
На ночлег устроились в небольшом домике. Хозяйка немного понимала по-русски. Это была совершенно седая, но на редкость подвижная, здоровая женщина. За все время, что мы жили здесь, я ни разу не видел, чтобы она отдыхала или сидела сложа руки. В работе она далеко обгоняла свою краснощекую семнадцатилетнюю дочь Эльзу. Девушка эта со светлыми, как лен, волосами по-русски не говорила. Но, несмотря на скудность словаря, мы хорошо понимали друг друга, скоро сдружились и жили мирно. Может быть, еще и потому, что мы часто помогали крестьянкам в их работе. А ведь известно: ничто так не сближает людей, как общий труд.
...Утром поднялись рано и долго в темноте искали столовую. За время войны мы привыкли к тому, что батальон аэродромного обслуживания часто преподносил нам всевозможные сюрпризы – то опаздывал с питанием, то угнетал однообразием меню. Ничего хорошего мы не ожидали и на этот раз и всячески изощрялись в насмешках по поводу работы БАО. Каково же было наше изумление, когда наконец мы нашли нашу столовую и вошли в нее. По правде говоря, мне показалось, что я еще продолжаю спать и вижу прекрасный сон: будто я стою в уютном, со вкусом убранном зале, где все сверкает чистотой и даже на окнах занавески, а молодые девушки-официантки – в кружевных передниках.
Смотрю на товарищей и хохочу: у них очень растерянный, смешной вид. Наверное, и у меня такой же. Вот так сюрприз! Впервые за все время нашей фронтовой жизни будем питаться в настоящей столовой, очень похожей на ресторан довоенного времени. Будто бы мелочь, а как улучшилось наше настроение. Обстановка подействовала и на аппетит: мы оказали должное внимание искусству поваров и с симпатией говорили о «бороде», как мы звали майора, командира БАО. Этот пожилой и молчаливый человек с окладистой бородой вложил всю свою душу в дело. Отличился он здесь не только организацией прекрасной столовой, но и созданием клуба. Казалось бы, что можно сделать из простого сарая? А «борода» превратил его в уютный уголок: побелены стены, настелен пол, на стенах портреты, лозунги. Все повеселели, шутили: «Так воевать можно». Теперь я понимаю, как до тех пор мы жили, в каком напряжении находились, если эти элементарные вещи так нас всех обрадовали...
В этот день меня ожидала приятная неожиданность. Направляясь к стоянке самолета, я увидел старшего лейтенанта. Шел он прихрамывая, опираясь на трость. Лицо его мне показалось знакомым.
– Лавренков?
– Он самый! – улыбался мой земляк-хабаровчанин.
Мы с ним учились вместе в аэроклубе. Вот так встреча! Я попросил кого-то из техников позвать Петра Пронина, а сам забросал Лавренкова вопросами. Конечно, самым первым был вопрос о том, почему он хромает. В это время подошел Пронин, и мы с ним выслушали удивительную историю, которая может показаться просто невероятной.
Идя как-то с задания на сильно подбитой машине, Лавренков получил от командира приказ оставить самолет, так как садиться на нем было невозможно. Лавренков сделал все, как положено. Создал крен, но промешкал в кабине и выпрыгнул с опозданием, ударился головой о стабилизатор и потерял сознание, не успев открыть парашют на высоте ниже пятисот метров...
Лавренков пришел в себя от боли в ноге и от воды, которой уже стал захлебываться. Он осмотрелся и увидел, что лежит в болоте. Начал выбираться. Это было очень трудно, так как мучила сломанная нога...
Теперь нога у Лавренкова срослась, и он скоро бросит трость.
– Так я читал об этом заметку в «Советском соколе», – вспомнил я. – Вот уж не думал, что герой этой заметки – ты!
– В рубашке родился, – заметил Петя, похлопывая Лавренкова по плечу. – Не каждый, прыгнув с высоты меньше пятисот метров, соберет кости и будет потом об этом спокойно рассказывать.
Посмеявшись и пошутив, мы расстались, назначив встречу в клубе. Но больше с Лавренковым нам не удалось увидеться – он улетел в тот же день.
Часа через два я, проверив готовность материальной части своей эскадрильи, направился домой. Вхожу во двор и с удивлением вижу такую картину: на крыльце сидит Петя Пронин и вслух читает книжку, а по бокам его пристроились хозяйка с дочкой и с восхищением, с восторгом смотрят летчику в лицо, следят за его губами и слушают, как зачарованные. «Так они же по-русски не понимают, – подумал я. – Что же тут происходит?»
Прислушался. Петя по-немецки читал стихи Гейне. Стихи нравились крестьянкам, и Пронин у них стал пользоваться особым уважением. Впервые в жизни эстонские крестьянкам читал стихи не кто-нибудь, а советский офицер-летчик. Для них это был большой почет.
После обеда товарищи решили пройтись погулять в лес. Меня тоже тянуло побывать среди густых зарослей, которые напомнили бы мне родную дальневосточную тайгу. Как я по ней соскучился, как бы хотел походить с ружьем или просто посидеть у таежного ручья, послушать его неторопливое журчание...
Но эстонский лес ничем тайги не напоминал, хотя по-своему был красив. Запахи сосны, тишина, зелень – все это успокаивало, как-то отдаляло нас от войны, и мы снова почувствовали себя подростками. Неожиданно гулявший с нами Ваня Рудов выхватил пистолет и, бросившись к сосне, выстрелил вверх. Я увидел, как по ветвям метнулся темно-рыжий зверек. Белка!
– Стой! – закричал я Рудову. – Не стреляй! Белку летом не бьют!
Он спрятал пистолет с виноватым видом, а мы стали наблюдать за зверьком. У нас на востоке белка летом черная, а тут – почти красная. Я об этом слышал, но видел впервые. Когда зверек скрылся, мы начали собирать грибы и очень скоро набрали целую гору. Как же донести их до дому? Петя стащил с себя гимнастерку, завязал рукава и ворот. Получился хороший мешок. Заполнив его грибами, мы двинулись назад, неся мешок на палке. В тот вечер мы лакомились жареными грибами, которые нам приготовили в столовой. Но большую часть грибов засолила наша хозяйка.
Другие летчики решили последовать нашему примеру, но начались страдные боевые дни, и грибы были забыты. Мы вылетали по четыре – пять раз в день, а иногда и чаше. Кроме полетов, мы сами готовили самолеты, таскали снаряды, набивали патронами пулеметные ленты, так как основной состав техников еще не прибыл. Каждый человек был на учете.
Шли обыкновенные воздушные сражения, производилась штурмовка немецких позиций у города Тарту. Здесь гитлеровцы создали мощную линию обороны вдоль железнодорожной линии Тарту – Валга, и нашим штурмовикам пришлось основательно поработать.
Как-то в эти дни Бродинский, Хохряков, Хроленко и я, находясь в обычном разведывательном полете, заметили пару «фоккеров». Наша группа шла со стороны солнца, и гитлеровцы нас не видели. Я по радио предупредил Хохрякова и Хроленко, чтобы они внимательно следили за мной, а сами в драку не вмешивались.
У нас было двойное преимущество: и солнце, и то, что мы находились выше фашистов. Это я и использовал, пойдя в атаку со снижением. Когда до «фоккеров» оставалось метров сорок, я с одной очереди расстрелял ведомого фрица. Ведущий же ни на выручку своему товарищу не пошел, ни в бой не вступил, а бросился удирать, войдя в резкое пике. За ним, с разрешения Бродинского, ринулся Хроленко, но погорячился, его огневая очередь прошла мимо фрица, и тот удрал.
– Эх ты, растяпа, – услышал я по радио недовольный голос Бродинского.
Хроленко виновато молчал. В это время с земли вызвали меня.
– Я «Изумруд-один»! Объявляю благодарность за сбитый самолет!
– Все понял! – ответил я.
Когда мы вернулись на аэродром, вокруг нас собрались все летчики, присутствовавшие на аэродроме, и стали обсуждать неудачу Хроленко. Над ним посмеивались, но тут же указывали, в чем его промах. Хроленко получил памятный урок и в дальнейшем никогда не допускал подобных ошибок.
Однако не на всех так действовала товарищеская критика. Одним из таких «трудновоспитуемых» был Исмахамбетов, человек горячий, с очень неуравновешенным характером, не умеющий себя обуздывать. В тот же день он, ведя звено на прикрытие наших войск, обнаружил четверку «фоккеров» и ринулся на них, бросив звено. Из этой атаки ничего не вышло. Немцы ушли, а Исмахамбетов понапрасну расстрелял все патроны.
Пронин, Хохряков и Чистов, которые были в звене, вернувшись на аэродром, возмущались. Я понимал, что Они правы, и решил серьезно поговорить с Исмахамбетовым. Вместе с Армашовым мы долго объясняли ему, к чему может привести горячка в бою. Он поклялся, что впредь будет дисциплинированным, и я подумал, что «батя» оставит его во главе звена, но он отстранил Исмахамбетова и был прав.
На следующий день я получил задание вытеснить неприятельские истребители из района Валги. Вылетели восьмеркой и шли на высоте тысячи метров. Над городком была сплошная облачность, и я, по приказу, держался под ней.
Уже почти над самой Валгой мы заметили четверку «фоккеров». Они нас тоже обнаружили и, прежде чем мы успели их атаковать, ушли в облака. Преследовать их было бессмысленно. Мы продолжали ходить четверками на встречных курсах, осматривая район боевых действий. К тому же на лобовых курсах мы всегда видели хвосты самолетов друг друга.
В это время пришли наши «горбатые» и начали штурмовку восточной окраины города. Немцы открыли сильный зенитный огонь, создав сплошную завесу. Очевидно, в этом районе у немцев было что-то важное, и они буквально неистовствовали. В этот день мы потеряли двух летчиков и три самолета.
Возвращаясь домой, я на своей территории увидел горевший самолет Пронина, а недалеко около него – санитарную машину. Она тронулась и, переваливаясь по ухабам, направилась в сторону нашего аэродрома. «Петя, Петя! Что же с тобой случилось?»
И снова бой...Есть люди, которые, рисуясь, говорили и говорят так:
– На войне привыкаешь и к смерти товарищей!
Ложь! Гибель каждого товарища мы, летчики, переживали очень тяжело, с глубокой сердечной болью. А у меня она усиливалась еще и оттого, что среди погибших были не только брат, а и мои земляки-дальневосточники. Землячество – сильное чувство, особенно на фронте. После смерти Пети Пронина у меня осталось лишь два друга-земляка: Витя Бродинский и Дима Хохряков. Наша дружба, наша забота друг о друге стали еще сильнее и как-то трогательнее.
Боль потерь приглушалась частыми сообщениями об успешном наступлении советских войск на всех фронтах. Наши воины вышли к границам Латвийской республики. Когда мы летали над ее лесами и полями, в лицо нам дышала соленым ветром Балтика. Так и хотелось направить машину к морю, посмотреть, какое оно, – ведь я никогда не бывал на море. Но надо было выполнять боевые задания.
Фронт проходил по реке Цесис. Наши саперы наводили через нее переправу. Гитлеровская авиация пыталась им помешать. Видя, что частые налеты маленькими группами не приносят ощутимых результатов, немцы изменили тактику: они стали вести штурмовку переправы реже, два-три раза в день, но большими силами – от двадцати пяти до шестидесяти самолетов.
...Меня вызвал командир полка. Он сидел за столиком и задумчиво барабанил пальцами по карте. Я смотрел на усталое, изрезанное морщинами лицо Армашова и прекрасно понимал, как тяжело ему отправлять на трудное и опасное задание своих «сынков».
– Сил у нас сейчас меньше, чем у врага, – сказал «батя», – и сдержать такое количество немецких самолетов вам будет трудно. Но надо!..
Мы вылетели навстречу фашистам на шестнадцати машинах. Десять самолетов вел лейтенант Гура, а я его прикрывал шестью.
За линией фронта мы обнаружили двадцать четыре «фоккера», которые двигались тремя группами. Видим друг друга, но боя не начинаем. Каждая сторона выжидает более удобного момента для атаки. Немцы ведут себя уверенно, не так, как обычно в последние дни. Ну еще бы, такое преимущество в самолетах! Да и находятся над территорией, занятой их войсками. Но вражеские летчики переоценивают эти преимущества. Главное все-таки в том, за что сражаешься!
Ведущий «фоккер» слишком рано начинает разворот. На какое-то время, правда очень короткое, немцы подставляют нам свои хвосты. Гура всей десяткой идет в атаку, и «фоккеры», не долго думая, пускаются наутек. Только три пары делают попытку задержать наших, но нервы и у этих фрицев не выдерживают – они тоже уходят в облака.
Одна пара немецких истребителей напоролась на мою шестерку. Я дал короткую очередь по первой немецкой машине, она вспыхнула и пошла вниз. Бродинский почти одновременно успел сбить второй вражеский самолет.
Бой как будто закончился. Казалось, что немцы больше не покажутся, заплатив двумя машинами за встречу с нами. Однако следовало все же быть настороже – врагу нужна наша переправа.
И действительно, немцы, набрав высоту, собрались над облачностью и прорвались незамеченными к переправе. Как черные коршуны, налетели они целой стаей, ведя густой огонь. Из пике выходили на очень низкой высоте и бреющим полетом удирали под прикрытием своих зениток.
Мы подошли к переправе, но немцы не обращали на нас никакого внимания и продолжали пикировать. Перехватывать вражеские машины на низкой высоте было невероятно трудно. Наши атаки не давали результатов. Тогда я, оставив пару Хохрякова для прикрытия ударной группы, с четверкой «яков» немедленно вышел выше облачности и преградил фашистам путь к переправе. Волей-неволей им пришлось вступать в бой. Он сразу же перерос в яростную схватку. На каждый наш самолет приходилось по три «фоккера». Я сообщил об этом Гуре, и он, оставив четверку «яков» для охраны переправы, поспешил с шестеркой мне на выручку. Друг пришел вовремя – разъяренные немцы наседали на нас. Видно, в машинах с клеймом свастики сидели опытные летчики. Все же мы их связали боем и спасли переправу. Завидев самолеты Гуры, немцы немедленно ушли.
День прошел спокойно, но к вечеру на переправу обрушилось двадцать немецких штурмовиков. Мы направились к ним восьмеркой. Едва наши истребители ворвались в строй вражеских машин, как немцы бросились наутек. Но мы отсекли две машины, они стали трофеями летчиков Даватьяна и Соколова. Я смотрел на два костра на земле и думал, что весь путь отступления врага отмечен такими огненными вехами...
– Тридцатый, я – сороковой, – послышался в шлемофоне голос Даватьяна. – Барахлит мотор. Разрешите уйти?
– Разрешаю. Соколову прикрыть ведомого.
Два наших самолета пошли на аэродром. Видимо, машина Даватьяна получила в бою повреждение. Вскоре и мы двинулись домой. Пройдя половину пути, я увидел на земле машину Даватьяна. Она лежала, высоко задрав хвост. Летчика нигде не было. Сделав два круга, я направился на аэродром, удрученный случившимся и беспокоясь за жизнь Даватьяна.
Он пришел на следующий день пешком, осунувшийся, с запекшейся кровью на щеке. Вид у него был смущенный. Пряча от меня взгляд, летчик признался, что, когда мотор, изрядно пробитый крупнокалиберными разрывными пулями, заглох, он пошел на вынужденную посадку с выпущенным шасси, что категорически запрещалось. Нужно было садиться на «живот». Колеса наткнулись на большую валежину, и самолет скапотировал, а Даватьян пробил себе щеку о прицел.
– Понимаешь, – горячился Даватьян, отчего у него особенно сильно становился заметен армянский акцент, – какой-то дьявол бросил там дерево! Загубил хорошее дерево. Безобразия! Я наткнулся. Я ругал того человека плохими словами!
Нельзя было без улыбки смотреть на этого симпатичного чернобрового человека, но все-таки пришлось «поставить его на коврик» и «разнести». На следующий день самолет притащили на аэродром, отремонтировали, и Даватьян совершил на нем еще много вылетов.
Немцы по-прежнему донимали своими налетами переправу. Они подвешивали к истребителям бомбы и сбрасывали их вниз. Численное превосходство фрицев не позволяло нам предупреждать все их налеты, но все же мешали мы немцам очень сильно, и они приносили переправе незначительный ущерб. По ней теперь непрерывно шли наши войска и боевая техника.
В эти дни мы мало спали, еще меньше отдыхали. Забыты были кино и танцы. Присмирели даже наши полковые шутники – Бродинский и Даватьян. Все чаще вспоминали погибших товарищей. Это было плохим признаком. Люди осунулись, помрачнели. Как-то я сказал Даватьяну:
– Слушай, друг кавказский. Говорят, у армян есть такая поговорка: «Человек перестал петь – перестал жить». Правда?
– Так, так, – обрадованно закивал Даватьян, любивший, когда говорили о его родине, о его народе. – Откуда знаешь ее? Зачем вспомнил? Хочешь петь?
– Хочу, чтобы ты товарищам пел!
Глаза у Даватьяна вспыхнули, он ударил себя в грудь ладонями:
– Понял тебя. Петь буду – жить будем!..
Вскоре я услышал приятный голос Даватьяна:
Нас было восемь «яков» быстрокрылых,
Мы шли туда, куда был дан приказ.
Мы смерть несли врагу на наших крыльях,
Мы шли туда, где смерть встречала нас.
За последнюю строчку я рассердился на Даватьяна. Что это он завел о смерти! Но каково было мое удивление, когда я увидел, как понравилась всем эта песня. Дальше Даватьян пел уже о грядущей победе. Вскоре эта песня стала чем-то вроде гимна нашей эскадрильи.
Положение между тем осложнялось. В полку оставалось все меньше машин. В нашей эскадрилье – пять, во второй – две, в первой – четыре. Многие летчики улетели за новыми самолетами. А изматывающие бои над переправой продолжались. С пресловутой немецкой точностью фашисты приходили на штурмовку. На каждого нашего летчика нагрузка возросла...
Как-то я с четверкой «яков» патрулировал после обеда над переправой. Небо было чистое. Неожиданно получил сообщение радиостанции наблюдения, что к переправе движется большая группа немецких самолетов. Что делать, какую тактику принять? Набрав высоту со своей четверкой, пошел навстречу фашистам. Пересекли линию фронта и направились в глубь оккупированной территории. Километров через двадцать показался целый косяк «фоккеров». Они шли восьмерками, которые сверху прикрывались парами. Таких групп я насчитал шесть. Значит, у врага в общей сложности шестьдесят самолетов, а у нас – только четыре. Ничего себе, веселая картина! По пятнадцать вражеских машин на каждую нашу!
Что же делать? Удирать? Этого еще не хватало! Нет, мы будем драться! Только по-иному. Надо заставить фрицев сбросить бомбы, не доходя до переправы. Я учитывал, что при бомбовой нагрузке «фоккер» значительно теряет маневренность и скорость. Знали об этом, конечно, и фрицы, поэтому они постараются уклониться от боя.
Я повел свои самолеты в атаку на первую десятку Фрицев с высоты тысяча метров над ними. Огонь решил не открывать, чтобы не увлечься боем. Когда до немцев оставалось около ста метров, они с переворотом пошли к земле. У меня от радости даже сердце забилось чаще. Поймались на удочку, фашисты! Раз пошли с переворотом, значит сбросили бомбы на свою территорию! Но долго предаваться радостному чувству просто не было времени. Десятки вражеских машин шли с интервалами в полтора – два километра. Я должен был максимально использовать эти интервалы. Сделал левый боевой разворот, так как пара прикрытия у немцев находилась с правой стороны. Пока она будет переходить на левую, я успею атаковать следующую группу с бомбами. Мысли у меня были ясные, как обычно бывает в минуту большого нервного напряжения.
Мои товарищи четко выполняют все приказы, а отличная слетанность позволяет производить сложное маневрирование. Атакуем вторую группу – и она бросает свои бомбы куда попало. Затем то же самое повторяется с третьей и четвертой группами...
Разъяренные немецкие летчики набрасываются на мою четверку. «Фоккеры» из первой группы лезут выше меня, чтобы атаковать сверху, но я тем временем атакую пятую группу с бомбами и поджигаю первого справа фрица. Вся группа вражеских машин падает вниз, бросает бомбы на головы своих войск.
Так, так! Бомбите своих! Громите их! Еще один удачный маневр – и операция немцев будет сорвана. Если же мы пропустим последнюю группу фашистских самолетов, то вся наша боевая работа может пойти насмарку – прорвавшись к переправе, вражеские летчики постараются сбросить на нее бомбы. Поэтому мы будем преграждать путь врагу, даже если для этого придется погибнуть!
В воздухе творится такая кутерьма, что немцам трудно подсчитать, сколько у нас самолетов. Мы же знаем количество их машин, и это дает нам преимущество. Волей-неволей немцы втягиваются в бой.
Клубок самолетов все-таки скатывается к переправе. Фашисты держатся крепко, бомб не сбрасывают. Видно, в этой группе у них летчики обстрелянные. Мы наседаем на них все сильнее. Огрызаясь огнем, фашисты идут к переправе. Что делать? Всем нашим идти на таран немцев? Но нас же в несколько раз меньше. Нет! Погибнуть мы всегда успеем. Надо заставить немцев сбросить бомбы! Я иду в новую атаку на ближнего фрица, и он сбрасывает свой груз в пяти километрах от переправы. За ним то же самое проделывают и остальные немецкие летчики. Как говорится, дурной пример заразителен!
Чувствую, что устал невероятно. Сказывается и физическое и нервное напряжение. Сквозь атмосферные разряды слышу приказ «бати»:
– Тридцатый! Я – «Изумруд-один»! Выходите из боя! Вам выслана помощь!
Выйти из боя потруднее, чем может показаться. Все наши пары распались, каждый действовал самостоятельно, и теперь мы были в окружении врагов. Как же выбраться из него? Пикировать к земле? Попытаться оторваться? Нет, немцы так легко меня не отпустят. Лучше всего войти в облачность и, прикрываясь ею, уйти к своим. Но до облачности полторы тысячи метров, незаметно от врага этого не сделаешь. Ладно! Мне поможет какой-нибудь фашист!
Я пристраиваюсь к одному «фоккеру» вплотную. Увидев так близко советский самолет, немец шарахается в сторону, – он же опасается, что я вот-вот открою по нему огонь. А мне только этого и надо! Я следую за «фоккером» в том же порядке. Фриц часто в страхе поглядывает на меня своими очками. Я не вижу его глаз, но знаю, что они сейчас расширены от ужаса.
Немец мечется бестолково, а мне же нужно в облака! Я жму на него, и вдруг неожиданно для самого себя грожу ему кулаком. Пытаясь уйти от меня, вражеский летчик тянет к облакам. Вот это-то мне и надо! Но тут ему на выручку спешат еще два «фоккера». Мое положение становится очень опасным. Я жмусь к «своему» фрицу так, что по мне нельзя открыть огонь, не попав в него. Фашисты пытаются зайти ко мне с другой стороны, но я ныряю под «своего» немца и снова прикрываюсь им, как щитом. Тут фриц, испугавшись, что его могут прикончить свои, пытаясь скрыться от меня, бросается наконец в облака, а вместе с ним и я. Пробив облачность, мы оказываемся один на один. Я подбираю газ, нажимаю на левую педаль и спокойно, с точным прицелом, как на учении, стреляю из пушки. «Фоккер» взрывается. Проводив взглядом его обломки, иду к Валге. Здесь меня ожидают две машины – Бродинского и Хохрякова. А где же Ваня Хроленко?
О его судьбе, о совершенном им подвиге узнаю на аэродроме. Он, как когда-то капитан Белоусов, заметив, что его ведущему – Хохрякову – грозит опасность быть сбитым, прикрыл его своим самолетом. Товарищи видели, как, объятый пламенем, самолет Хроленко ушел к земле... А вечером того же дня мы сжимали Ваню в своих объятиях. Он был жив, невредим и несколько смущен нашей горячей встречей. Оказывается, на горящем самолете Ваня приземлился все же на нашей территории.
Мы, как всегда, обсудили итоги этого боя и стали готовиться к очередным. На следующий день Советское Информбюро в оперативной сводке сообщило:
«Наша авиация господствует в воздухе и наносит бомбово-штурмовые удары по отступающим войскам противника. Разбито много орудий, более ста автомашин и повозок с грузами. Группа истребителей под командованием лейтенанта Некрасова, прикрывая наземные войска в районе Валмиера – Цесиса, сбила три немецких самолета. Два из них сбил лейтенант Некрасов. Всего в течение дня наши летчики уничтожили восемнадцать немецких самолетов».
Приятное, радостное сообщение!
Но эта радость вскоре была омрачена. Мы вылетели для прикрытия наших войск, двигавшихся к Риге. Ведущим группы по просьбе летчиков был назначен старший лейтенант Марков. Командир полка поставил его во главе группы, чтобы он мог вернуть доверие товарищей, вновь поднять свой авторитет. Это накладывало на него большую ответственность и требовало смелых, решительных и правильных действий.
До переднего края оставалось около пяти километров, как с КП дивизии раздался приказ:
– Двадцать второй! Я – «Береза-один». Идите ко мне! На переднем действуют «фоккеры»!
«Двадцать второй» – это позывные Маркова, а «Береза-один» – командира дивизии полковника Гращенко. Он несколько раз повторил приказ, но Марков, не отвечая, развернулся и пошел вдоль линии фронта над нашими войсками, удаляясь от станции наведения.








