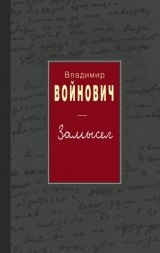
Текст книги "Замысел"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Уговорить графа Потоцкого
То мартовское воскресенье помню как сейчас…
У метро «Речной вокзал» торговали первой мимозой. У автобусной остановки стояла группа неуклюже одетых (в валенках, в брезентовых зипунах поверх телогреек) мужиков, любителей подледного лова, может быть, последнего в том году. На реке лед еще был крепок, а здесь безмятежно сияло солнце и из-под слежалого, темного, сбитого к бровке снега медленно, робко, словно готовые втянуться обратно, выползали ручьи. Это была Пасха, или Вербное воскресенье, или что-то подобное, потому что ясно, четко, празднично и с разных сторон (откуда их столько взялось?) звонили колокола.
Я шел и думал, что вот весна, и тает снег, и звонят колокола, и все могло бы быть хорошо, но почему же этой стране так не везет, почему так получилось, что ею управляют грубые, невежественные, бездарные и ничтожные старики, которые только ради своего властолюбия и корыстолюбия, до сих пор ни тем ни другим не наевшись (и никаких других объективных причин нет), держат многомиллионный народ в состоянии страха, нищеты и покорности. Неужели эти люди, которые идут навстречу с авоськами, с лыжами, с детьми и их салазками, не видят, как убого они живут? Неужели эта жизнь кажется им сколько-нибудь нормальной? Почему они не бунтуют, не протестуют и сносят безропотно унижения, которым подвергает их государство?
Когда я поднялся к Санину, Идашкин был уже там.
– Как ты думаешь, ты за собой «хвоста» не привел? – спросил он, сделав озабоченное лицо.
– Не знаю, – сказал я. – Не думал и не смотрел. А тебя это как-то волнует?
Вопрос задан был иронически. Идашкин смутился или сделал вид, что смутился.
– Нет, нет, конечно. Мне, в общем-то, все равно.
Для разминки поговорили о том о сем, о том, как он после сердечного приступа бросил курить сразу и навсегда, а я пока не бросил.
Перешли к сути дела, начав с общеполитической обстановки.
– Ты понимаешь, – сказал Идашкин, – ситуация в мире, в стране изменилась, это касается всех, но тебя больше, чем многих. Ты существовал, позволял себе что хотел и мог рассчитывать на защиту мирового общественного мнения. Теперь нам на это мнение наплевать. Мы, – продолжал он, злоупотребляя местоимениями множественного числа, – влезли в Афганистан и, кажется, не скоро оттуда вылезем. Это уже катастрофически отражается на всех наших других делах. И это делает нас нечувствительными ко многому, что раньше мы ощущали болезненно. Поэтому, если тебя сегодня арестуют, и дадут большой срок, и будут какие-то протесты, они ни на кого не подействуют. Мы все равно проигрываем по всем статьям. А с каким счетом – 4:0 или 6:0 – это уже неважно. Но, допустим, тебя не посадят. А просто сошлют куда-то в Якутию. Тебе там будет ой как несладко. Это здесь ты можешь воевать даже с самим Андроповым и писать ему открытые письма. А там ты будешь иметь дело с участковым милиционером. Который даже и не знает, что есть иностранные корреспонденты и что от их писанины у него может быть какая-нибудь неприятность.
С тем, что говорил Идашкин, я был полностью согласен. Больше того, он единственный из всех, с кем я говорил в те дни, оценивал ситуацию точно так же, как я. Он был прав во всем, кроме одного: ему не надо было меня убеждать, я явился не за этим.
От теперешней ситуации перешли к оценке перспектив. И тут согласились почти во всем.
– Ты пойми, – убеждал Идашкин, – сейчас ситуация острая. Настолько острая, что даже те люди, которые к тебе хорошо относятся и тебя ценят, а такие люди есть, поверь мне… Но даже они сейчас не смогут ничего для тебя сделать. Поэтому уехать – для тебя наиболее разумный выход. Ты уедешь, побудешь там, посмотришь тамошнюю жизнь, посмотришь, как ты в нее вписываешься, а здесь за это время… Слушай, давай говорить реалистически. Это, конечно, совсем между нами, но люди, которые управляют сегодня страной, находятся в таком возрасте, что лет через пять-шесть… – тут он немного спохватился, что позволяет себе больше, чем надо, и быстро проскользил взглядом по стенам и потолку. Но это было совсем бесполезно, потому что хотя на потолке у Санина не было ничего, кроме люстры, но зато на стенах висели оленьи рога, черепашьи панцири, засушенные морские звезды, за всеми этими реликвиями можно было припрятать микрофоны любого калибра… Испуг его был инстинктивный и краткий, он тут же опомнился и (все же понизив голос) продолжил: – …лет через пять-шесть никого из них, ни одного человека не останется.
И это было как раз то, о чем я тоже думал, о чем говорил жене и друзьям. Я говорил, что весь этот ряд кувшинных рыл на трибуне Мавзолея время очень скоро (я тоже думал о пятилетии) сотрет, заменит их другими, может быть, более человекоподобными обличьями. Многие мои собеседники, потеряв всякое представление о реалиях, возражали всерьез, что здесь никогда ничего не изменится, что геронтологи работают над членами Политбюро ежедневно и с успехом, и сами эти старики из Политбюро достигли высот в искусстве замены стариков еще более глубокими стариками, и так будет еще сто или тысячу лет, но я, исходя из более реалистических прикидок, точно понимал, что эта гора должна будет скоро, сразу и катастрофически рухнуть.
Все было ясно, но Идашкину, очевидно, нравилась его миссия или соблазняла возможность той откровенности, которой он не смел себе позволить в собственном кругу общения.
– Я тебе советую, – продолжал он, – поезжай, посмотри. Может быть, пожив там, ты увидишь, что здесь тоже не все так плохо, как тебе кажется. Я понимаю, ты опасаешься, что тебя лишат гражданства, но мне кажется, что это не обязательно. Если ты там не будешь очень активно выступать против советской власти, это никому не будет нужно. Зачем лишать гражданства еще одного писателя? Это неразумно. Кроме того, я тебе скажу так: у нас есть еще немало людей, которые относятся к тебе просто очень хорошо.
Эту часть его речи я выслушал из вежливости. Существование отдельных терпимо ко мне относящихся кагэбэшников я еще мог бы себе представить, но в то, что меня не лишат гражданства, не верил. Хотя допускал, что это случится не сразу, и на том строил некоторые непрочные планы.
Прежде чем перейти к выдвижению заготовленных мною условий, я спросил Идашкина, как он думает, нельзя ли достичь примерно такого компромисса: я совсем уйду из общественной жизни и даже скроюсь из виду. Уеду куда-нибудь в провинцию. Не буду делать никаких заявлений. Буду писать, скажем, «Чонкина», не распространяя. Мне от государства ничего не нужно. Деньги у меня есть, всем ясно, что они есть, и даже ясно откуда. Так вот – пусть меня просто оставят в покое.
Правду сказать, я сам не был уверен, что хочу того, о чем говорю. Хотя, если бы власти на это пошли, я бы подумал о том же более обстоятельно. Но я и сам понимал, что раз уж там где-то решено меня выпроводить, то, значит, машина раскручена и останавливать ее или поворачивать в другую сторону вряд ли кто захочет. Что Идашкин тут же и подтвердил.
– Я, конечно, могу спросить, – сказал он. – Мне это ничего не стоит. Но я думаю, что твой вариант принят не будет. Он нереалистичен. Это как если бы, допустим, Израиль сказал: давайте остановимся на том, что есть. То, что нами захвачено, – наше, а остальное пусть останется как есть.
Тут я немного рассердился и сказал Идашкину, что его сравнение меня с государством, хотя бы и маленьким, может мне польстить, но аналогия некорректная. Мое отличие от Израиля и преимущество состоит в том, что захваченного мною я вернуть не могу, даже если бы захотел.
После чего я выдвинул свои требования, которые, и вправду, были вполне скромны.
– Я уеду только при условии, что мне не будут чиниться никакие препятствия. Куда-то ходить и обивать пороги, добиваясь отъезда, я не буду, и это должно быть ясно.
– Не о чем спорить, – быстро сказал Идашкин. – Где надо, все оговорено, тебе осталось только обратиться в ОВИР, там тебя уже ждут, и все документы будут оформлены немедленно.
– Второе, – сказал я, – состав семьи…
– Ты можешь взять с собой всех родственников, каких только хочешь.
– Третье: библиотека, архивы…
– Об этом нечего говорить. Это твое имущество, оно должно быть с тобой.
– Четвертое поважнее. Моя кооперативная квартира должна быть до отъезда передана родителям моей жены, и там до отъезда же должен быть включен телефон.
Идашкин опять сделал озабоченное лицо.
– Ну, на этот последний вопрос я сам тебе ответить не могу. Но я спрошу. И думаю, что это будет решено положительно. Это не каприз, а нормальное резонное требование.
На этом мы разошлись.
На другой день – опять Санин.
– Идашкин просит тебя еще на минутку забежать ко мне.
Забежал.
Идашкин сияет.
– Все твои просьбы, или требования, или как ты хочешь, удовлетворены. Тебе идут полностью навстречу, но и к тебе тоже есть просьба…
– …уехать до Олимпийских игр?
Идашкин выразил восхищение моей догадливостью:
– Ты угадал.
Не могу даже передать, как мне хотелось немедленно согласиться. Если б зависело только от меня, я бы взял себе несколько дней съездить к отцу и сестре, проститься со старшими детьми и все, и долой.
Надоело! С тех пор как я решил уехать, все время думал: только бы поскорей! Все раздражало. Нет, не только рожи на Мавзолее, не только бегущие по пятам кагэбэшники и перебегающие на другую сторону улицы вчерашние полуприятели. Но и все остальные люди, водители автомобилей, милиционеры, продавцы, покупатели, писатели и прохожие надоели! Я знаю, вот сейчас на их глазах кого-нибудь схватят, будут тащить, вязать, убивать, и можешь сколько угодно вопить, они не услышат. Идущий куда-то народ будет дальше струиться мимо, обтекая место насилия, как вода обтекает камень.
В те дни одной старухе очень не повезло столкнуться со мной в темном месте. Ира послала меня ранним утром за молоком, я шел в коротком полушубке и спортивных брюках, заправленных в сапоги. И в проходном дворе эта убогая, несмотря на темноту, обратила внимание на мою одежду, остановилась и, сердитым пальцем тыча в мою нижнюю часть:
– Это надо же, что носют! – сказала с таким осуждением, будто я шел вообще без штанов.
Я сначала оторопел, остановился, оглядел, что на мне ее так возмутило. И вдруг вся моя злоба на партию, правительство, Союз писателей, КГБ, портреты вождей, кумачовые полотна, Брежнева, Сталина, Ленина и мавзолей Ленина вылилась на эту жалкую старую дуру. Я на нее набросился, наговорил ей всяких грубостей (не пересекая, правда, границ нормативной лексики) и агрессией своей так напугал, что она молча кинулась наутек, и надо заметить, что для ее преклонных лет оказалась довольно прыткой.
Мне все надоело и все надоели, но сразу уехать я не мог. Было сказано, что я могу взять с собой кого угодно. А кого? Пашу и Марину? Но если их, то тогда и их мать, мою первую жену. Не отнимать же у нее детей. Я на всякий случай ей предложил, она не только отказалась, но спрятала паспорта детей, чтобы они сами не решили такого вопроса. Но я и не хотел, чтоб они ее бросили. Я знал, что это ее убьет. Оставались у меня отец и сестра Фаина с малолетним Мишей. Тащить их с собой, таких не приспособленных к жизни? Куда? Что я там с ними буду делать? Что бы ни было, я предложил, но отец отказался: «Куда же мы поедем от наших могил!» Хотя где там эти могилы? Раскиданы по всей территории СССР, давным-давно обезличены, цветочек некуда положить.
Со своими близкими я разобрался, остались родители Иры, старые, консервативные, нелегкие на ногу люди. К тому же Данил Михайлович со своей большевистской дурью: «Вы что? Куда вы меня тащите? Неужели я, коммунист, поеду целоваться с вашим Штраусом?» А Анна Михайловна, в ней никакого большевизма не было, но она по субботам ходила в баню (помыться и к мозолистке), и, если выпадало на этот день какое-то важное дело, из-за которого надо было отменить баню, она испытывала невероятные страдания и не могла себе представить, что помыться можно в пятницу или, наоборот, в воскресенье. А тут надо принимать решение посерьезнее. Уезжают единственная дочь и единственная внучка. Уехать с ними? Куда? За границу? В Германию? Ей, правда, все равно, Штраус, не Штраус, но Германия – это так далеко и так чуждо, что невозможно даже вообразить. И остаться без дочери и без внучки тоже как умереть.
Она говорит Ире:
– Пусть уезжает Володя. Он все это сделал, пусть сам и едет.
Ира спрашивает:
– А Оля пусть останется без отца?
Анна Михайловна не отвечает. Она сама понимает, что ее предложение принять нельзя. Но уехать она тоже не может.
Ира говорит мне:
– Нет, мы сейчас не поедем. Я не могу их бросить сейчас. Давай подождем до Нового года.
– А что случится до Нового года?
– Ну, может быть, они свыкнутся с мыслью, что им придется остаться. Или в конце концов дойдут до мысли, что можно уехать.
Я – Данилу Михайловичу:
– Если не хотите ехать в Германию, езжайте в Израиль. По крайней мере, мы будем достижимы друг для друга. Там вы, если вам очень хочется, вступите в израильскую компартию.
– Вы хотите, чтобы я поехал в эту фашистскую страну? Которая нагло попирает права палестинцев?
Есть прекрасный еврейский анекдот. Приходит к Рабиновичу сват: «Рабинович, почему бы вам не отдать вашу Риву замуж за графа Потоцкого?» Рабинович: «Что? За этого гоя? Да как вы смеете такое мне предлагать?» Сват: «Рабинович, подумайте, это же граф Потоцкий, самый богатый человек на земле. Ваша Рива всю жизнь будет жить в хоромах, ходить в шелках, ездить в каретах и как сыр в масле кататься». Рабинович упирается: «Нет, пусть этот Потоцкий будет хоть трижды богат, но Рива за гоя не пойдет никогда». Сват употребляет все свое красноречие и наконец, через несколько часов, вырывает согласие. Выскакивает на улицу взъерошенный, взмокший от пота и отдувается: «Ууфф! Теперь осталось уговорить только графа Потоцкого».
Преуспев в своих уговорах не более чем этот анекдотический сват, я иду встречаться с Идашкиным и говорю ему:
– До Олимпиады уехать никак не могу. Уеду к Новому году.
Вижу на лице его признаки очень большого разочарования. Он уже почти выполнил свою миссию, и вот на последнем пункте осечка.
Но я говорю:
– Ты скажи этим, кто тебя послал, что я на время Олимпийских игр из Москвы куда-нибудь уберусь. Я буду эти игры бойкотировать, как американцы.
Он кисло улыбается моей неуместной шутке.
На другой день Санин приносит сообщение. Некто сказал Идашкину, что это, конечно, не то, чего мы от него (от меня) ожидали, но ладно, мол, до конца года потерпим.
А потерпят ли в самом деле, а не решат ли выйти из положения более кардинальным способом, это еще неизвестно.
Я выхожу на улицу. Встречаю критика Михаила Семеновича Гуса. Того самого, который пытался меня удушить еще при моем (литературном) рождении, а потом заливал водой. Это ему принадлежит крылатая фраза: «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть».
Раньше я проходил мимо него молча, а теперь стал здороваться. Отчасти из-за его внука, детского врача. Он приходил к нам смотреть Олю и брал почитать «Чонкина». И вот я встречаю дедушку Гуса, здороваюсь, он останавливается и говорит, покачивая в такт своим словам головой:
– А мне вчера исполнилось восемьдесят лет.
– Поздравляю, – говорю я.
Он вздыхает.
– Да с чем уж там поздравлять?
– Ну хотя бы с тем, что вы до этого возраста дожили!
– Да, – кивает он. – Дожил. И много чего сделал. Много плохого сделал. Вот и вас, молодого, травил.
– Ну это, – решил я его утешить, – неважно.
– Нет, важно, – сказал он и вдруг заплакал. И, махнув рукой, отошел.
Кажется, он чуть ли не единственный из всех встреченных мною людей подобного рода, кого совесть хоть в конце жизни угрызла.
Если бы я был Высшей Инстанцией, я бы искренние угрызения совести считал достаточным основанием для прощения всех грехов.
Это же Чонкин!
«Вдова полковника» – это рассказ о рассказе, написанном на заре туманной юности, утерянном и приблизительно восстановленном. Здесь есть только Нюра. Ее возлюбленный не имеет еще ни четкого характера, ни облика, ни даже фамилии, но его появление предопределено. Сочинив эту историю, В. В. сразу понял, что нужен второй рассказ о том, кем на самом деле был и что должен был делать персонаж, произведенный Нюрой в летчики, в полковники и герои. Ясно, что он не должен быть ни летчиком, ни полковником, ни героем.
А кем?
В. В. много раз пытался его описать, но получалась бесформенная неживая фигура. Пять лет В. В. писал и печатал что-то другое и все думал, думал, как вдруг возникла перед ним картина, затерянная на задворках памяти: Польша, Силезия, обнесенный красным кирпичным забором военный городок и плац для строевых занятий между казармами и столовой. Вдоль плаца по булыжной мостовой тяжелый немецкий битюг тянет телегу, а в ней – никого. А где же возница? А вон он, попал каким-то образом под телегу, слава богу, что между колес. Зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, тянет телегу, тянет запутавшегося солдата, он трется мордой о булыжник, не проявляя ни малейшей попытки изменить ситуацию. И другая картина налезла на первую. То же место, та же лошадь, та же телега, но теперь солдат наверху, на облучке. Голова обмотана грязным бинтом. Бинт размотался, выбился из-под пилотки, развевается на ветру. Слегка подбоченясь и откинувши корпус назад, солдат потряхивает вожжами, лошадь неохотно трусит мелкой рысью.
– Ого-го! – покрикивает на нее солдат, и во всем облике его есть что-то нелепое, комическое и трогательное.
– Кто это? – спросил В. В. стоявшего рядом с ним сослуживца.
– Ты разве не знаешь? – удивился сослуживец. – Это же Чонкин!
Из письма другу
Предварительные исследования завершены, и операция назначена на 8 июня. Как ни странно, ожидаю этого события с полным равнодушием. Которое, возможно, достигается медикаментозно – ведь в меня все время что-то вливают. Правда, прошлую ночь меня вдруг обуял ужасный страх. Среди ночи я проснулся и понял, что умираю. Нет, у меня не было ни боли, ни затруднений с дыханием, а просто чувство, что умираю, и все. Сначала я боролся со страхом сам, потом вызвал швестер Луизу и сказал ей: «Вы знаете, мне кажется, я умираю». Она посмотрела на меня, пощупала пульс и сказала, что вообще не похоже, но все бывает. Сделала мне укол и пошла за дежурным врачом, но, пока она за ним ходила, я заснул, а на рассвете проснулся совершенно спокойный и стал переписывать завещание. После чего приступил к смиренному ожиданию своей участи. Теперь страха нет совершенно. Об обязательности летального исхода не думаю, но возможности его тоже не исключаю. Не считая себя столь уникальным творением природы, ради которого высшие силы специально будут вникать в ход намечаемого хирургического вмешательства.
Тем более что время, когда я не мог представить существующий мир без своего присутствия, осталось в далеком прошлом, о котором в моих бумагах сохранилась такая запись.
Я умру
О том, что я умру, я узнал в возрасте девяти лет на хуторе Северо-Восточном (Ставропольский край), куда мы бежали от немцев.
Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.
Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил две красивые зеленые перчатки. Увидев это, бабушка сказала, что масляная краска вообще не отмывается и мои руки придется отрезать. Я ужасно перепугался и даже заплакал, но потом подумал и сказал, что если руки нельзя отмыть, то зачем же их все-таки отрезать? Лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками. Бабушка возразила, что это никак невозможно. Масляная краска перекрывает все поры, руки без доступа воздуха загниют, и без ампутации не обойтись. Когда я застудил уши, бабушка пророчила мне полную глухоту, и она же одну из своих сентенций начала словами: «Когда ты умрешь…».
Я ее перебил и спросил: «А почему это я умру?»
Она сказала: потому что все умирают, и ты тоже умрешь. Я сказал: «Нет, я не умру никогда». Она сказала: «Что за глупости? Почему это все умирают, а ты один не умрешь?» Я сказал: «Потому что я не хочу». «Но никто не хочет, – сказала бабушка. – Никто не хочет, а все умирают».
Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю, такое случилось, например, с моим дедушкой, но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной.
Теперь бабушка сказала, что может и даже непременно случится.
Конечно, моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.
Я в девочку не верил и в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа.
Но я?
Было лето, был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи, от края до края, серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое: ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было, даже коршун не сдвинулся с места.
Я попытался представить, как это все может существовать без меня, но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак.








