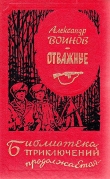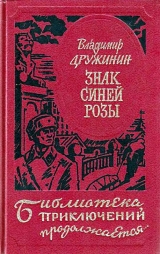
Текст книги "Знак синей розы"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц)
2
Она так горячо, так искренне произнесла это «товарищ лейтенант», что я не сделал ни одного протестующего движения и не перебил ее.
– Идемте! Идемте скорее! Там, на вилле… Надо показать вам…
– Что?
– Там ценности, – сказала она. – Вещи. Вещи из советских музеев.
Вещи! Только и всего! К вещам я относился с истинным солдатским пренебрежением. Музеи остались где-то далеко в мирной жизни, почти забытой. Посещал я их нечасто. На фронт я ушел восемнадцати лет. Как многие юноши, увлекался техникой. С искусством я был мало знаком. Не дорос еще. Не успел. И слышать о музеях здесь, у траншеи, среди раскиданных на земле ранцев, обшитых ворсистой шкуркой, среди алюминиевых фляжек, тесаков, было как-то непривычно и странно.
Однако мне все равно следовало провести ночь на высотке. Вести наблюдение до утра – таков был приказ.
– Пленных поведет старшина, – сказал я, вернувшись к своим. – Симко будет со мной.
Алиеву я дал инструкции. Передал свой разговор с переводчицей и велел доложить Астафьеву обо всем, не упуская ни одной мелочи.
Симко хмурился. Переводчица раздражала его до крайности. Пока мы лезли на холм, он угрюмо молчал, сопел и бросал на нее свирепые взгляды.
С холма открывалось шоссе, стальное от лунного света, и фабричные трубы предместья. В полусотне шагов от виллы, за садом, под крутым откосом, стоял высокобортый, крытый брезентом, тупоносый грузовик, Несмытые белые полосы зимней маскировки покрывали кузов. Долговязый немец расхаживал взад и вперед по асфальту, подпрыгивал от холода и бил себя по бедрам.
– Это Кай, – сказала переводчица.
– Давай туда, – приказал я сержанту и указал ограду, нависшую над шоссе. – Заодно и на него поглядывай.
– Это русские, Кай, – сказала девушка по-немецки и так, словно речь шла о самом естественном. – Ты в плену. Тебе известно уже?
– Jawohl, – коротко отозвался Кай.
Все же я отобрал у Кая автомат и заглянул на всякий случай под брезент.
– Так вы Катя? – спросил я переводчицу, когда мы отыскивали вход в подвал.
– Катя. Катя Мищенко.
Понятно, мне хотелось знать о ней больше. Так и подмывало. Но я сдерживал себя. «Мало ли что она может сочинить, – строго внушал я себе. – Доставлю ее нашим – там разберутся».
Между тем в душе я доверился ей. И это смущало меня. Поэтому я напустил на себя строгость, говорил с ней односложно, резко. Именно так, казалось мне, повел бы себя на моем месте Астафьев, командир нашей роты. Он был суровый человек, неразговорчивый. Я любил его и нередко подражал ему.
Круглый стеклянный пузырь на толстом проводе все еще светил в подвале. За креслом, где сидел старый майор, темнела глубокая, узкая ниша. В ней – фигура какого-то святого. Курьезная фигура – с черной негритянской головой, с черными руками.
Из соседней комнаты железная винтовая лестница вела вниз. Я зажег фонарь. Мы спустились.
В луче фонаря возникли дощатые ящики. И другие ящики, необычного вида, широкие и плоские. Заблестели рассыпанные на полу гвозди. А посреди помещения возвышалась фигура женщины с луком в руке.
– Вот, – сказала Катя, – видите, готово все. – Она прошлась среди ящиков, потрогала их, пощупала тюки, потом смерила взглядом статую. – Я должна была вам показать… Чтобы вы, по крайней мере, знали место.
– Ясно, – сказал я.
– В коробках фарфор. Дворцовые сервизы. Кидать нельзя, запомните. Ладно?
Я спросил, что в плоских ящиках. Оказывается, картины. Вот не думал! До сих пор я встречал картины только в рамах.
Должен заметить, хоть я и воображал себя непроницаемо строгим, мои настроения все же отпечатывались на моей нескладной физиономии весьма отчетливо.
– Я тоже вот, – она засмеялась, – как пришла первый раз в музей, в хранилище, мне жалко их было, жалко картин. Море плещет, деревья шумят, люди как живые написаны, – да как же можно это трогать, из рам вынимать… и в темницу…
Я ничего не ответил. Я сжался весь еще сильнее оттого, что она так внезапно и непрошено заглянула мне внутрь. А она как ни в чем не бывало порхала по комнате, сыпала именами. Я уже не помню сейчас всех художников, которых она назвала тогда. Я не знал их, кроме Айвазовского.
И тут меня прорвало. Мне вдруг взбрело на ум показать, что и я не лыком шит.
– Девятый вал, – сказал я.
У нас дома, в Калуге, висела репродукция «Девятого вала».
Катя улыбнулась. Веселые, лукавые искорки плясали в ее глазах. Я насупился.
– Что вы, этой картины нет! – услышал я. – Она в Москве, в Третьяковской галерее. Тут полотна из Минской галереи, из нашей Киевской. – Тон ее стал опять деловитым, как вначале. – Грузить будете – стоймя ставьте, как здесь. А вот с Дианой, – она обернулась к статуе, – сложнее обстоит. Ящик сколотите. Только сосна не годится. Сосна не выдержит. Дуб только. И потом…
– Я не плотник, – вставил я.
– Это всех касается! Всех! Вы знаете, где она стояла раньше? В Петергофском парке! Ой, лышеньки, да зачем вы молчите так! Да вы ж не представляете, какое это богатство! А тут малая часть. Он же массу всего вывез…
– Кто? – не выдержал я.
– Фон Шехт. Хозяин виллы. Мой начальник. Вы слыхали про эйнзатцштаб?
– Никак нет.
– Эйнзатцштаб – это… – начала она и запнулась. – А вы поверите мне? Нет, – она покачала головой, – лучше спросите про штаб… И про меня… У Бакулина.
У Бакулина?
Я знал его. Майор Бакулин, офицер разведотдела армии, часто бывал у нас в роте. Я насторожился. Мало ли почему он мог быть известен в этом, как его, эйнзатцштабе! Если она связана с Бакулиным, работает на нас, то почему он не ориентировал Астафьева, меня? Не предупредил о возможной встрече? Бакулин с его редкой памятью, рассудительный, внимательный. Бакулин не упустил бы…
Я терялся в сомнениях. В душе доверие к ней, вопреки логике моих размышлений, еще жило, но я решительно заглушал его.
– Вы поможете мне, правда? – спросила она и, подтянувшись на носках, глянула мне прямо в лицо. – Правда? Вы отпустите меня?
– Куда?
Еще больше насторожился я, когда она объяснила. Обратно, к немцам, в Кенигсберг, – вот куда ей нужно, оказывается! Большая часть музейных вещей там. Гитлеровцы сейчас прячут их, и ей надо быть в курсе. Иначе их не найти потом.
– Это же для нас… Лышеньки! Там на миллионы, на миллиарды… Из Петергофа вещи, из Пушкина…
– Не могу, – сказал я.
Ни в Пушкине, ни в Петергофе я не был. Я не имел о них почти никакого понятия. Возможно, все это так, как она говорит. Но я не могу, не имею права отпустить ее. – Я отвел луч фонаря вниз, к истоптанному, в трещинах, бетонному полу. Не видя ее, мне легче было противиться ей.
– Хорошо, – вздохнула она. – Тогда вы сообщите Бакулину.
– Что?
– Это самое и доложите, – произнесла она жестко. – Что я вас просила, а вы…
– Душно здесь, – сказал я. – Пошли.
Мы выбрались из подвала и остановились у портика с надписью «Санкт-Маурициус». Луна зашла за облака. Стемнело. Где-то гремел на ветру лист железа, словно подражал орудиям, рокотавшим вдали. Теперь уже не одна, несколько батарей, наших и немецких, ввязались в спор. Мраморная Диана, картины в ящиках, дворцовый фарфор – всё это показалось мне до странности чуждым войне. Как будто я только что прослушал сказку о спрятанных сокровищах.
Катя нахохлилась. Галолитовый листок на ее берете блестел ниже моего плеча.
– Если вы такой… Ведите меня туда, к нашим! Мне же скорее надо обратно!
– Подождет ваше дело, – сказал я.
Сняться с холма я предполагал на рассвете. Но получилось иначе, командование сочло нужным занять обнажившийся участок, улучшить свои позиции.
Удивительно быстро обосновываются солдаты на новом месте. Возникли окопы, огневые точки, замаскированные плетнями из ивовых прутьев. На склонах выросли шалаши. Запахло махоркой, срезанным можжевельником, оружейным маслом.
В подвале расположился командный пункт стрелкового полка. Я зашел туда, поручив Катю сержанту Симко.
– А я тебя ищу, – раздался голос Астафьева. – Где твоя переводчица? Давай ее!
Не только он, и Бакулин приехал, чтобы свидеться с ней. Им отвели шалаш, и я привел туда Катю, задыхаясь от нетерпения. Седой майор шагнул к Кате, взял за плечи и поцеловал в лоб.
– Девочка хорошая! – сказал он.
Я буквально прирос к полу. Все смешалось в моей голове. Почему же, почему нас-то не предупредил Бакулин? Но не мне было задавать вопросы майору. Астафьев покосился на меня и дернул свой ус движением, означавшим, что мое присутствие излишне.
Сержант Симко караулил машину, Шофер Кайус Фойгт мирно похрапывал в кабинке.
– Наша она! Наша! – шепнул я сержанту. Радость распирала меня, я не мог не поделиться ею.
Катя пробыла с офицерами не дольше получаса. Потом вызвали меня. Майор дописал что-то, промокнул и отставил пресс-папье. Он хмурился. Астафьев дергал свои чапаевские усы.
– Проводить надо товарища, – произнес он. – Мимо боевого охранения… В общем, на ту сторону. Саперы уже, поди, заложили свои гостинцы на шоссе, так ты первым делом ступай к ним. Пусть укажут объезд.
Меня точно резнуло…
Зачем? Разве так необходимо? Идти обратно, в осажденный город, ради вещей! Ведь не сегодня-завтра Кенигсберг будет в наших руках. И все, что там есть. Выходит, я напрасно задержал ее. Только, отнял у нее время и, может быть, повредил ей. Ну, конечно! Возвращаться – так сразу, а сейчас это опасно вдвойне… Привычное «слушаюсь» не шло с губ, его стало вдруг очень трудно выговорить. Трудно, как никогда.
– Товарищ майор, – начал я, – разрешите… Я готов и дальше с ней… Если найдете целесообразным.
Наверно, это выглядело нелепо, по-мальчишески. Но молчать я был не в силах.
– Не нахожу, – отрезал Бакулин. – И ее под топор подведете, и вам несдобровать. Нечего! – Он сердито откашлялся и добавил мягко: – Вы правильно поступили, лейтенант. Верно, Астафьев?
Как раз такие слова мне очень нужны были в ту минуту. Но стыд, чувство вины перед ней не проходили.
– И немца с ней? – спросил я.
– Да, и немца. – Лицо Бакулина теплело. – Не все они фашисты, Ширяев. Не все.
Ох, до чего же опять нелегко повиноваться! Немец все-таки! Правда, при мне наши политработники отпускали пленных в расположение врага с листовками: агитировать, разъяснять правду о Гитлере, Я сам сопровождал однажды пленного через наш передний край. Но Кайус Фойгт!.. Ведь, коли он побывал у нас с Катей, жизнь ее зависит от него. Что, если выдаст?
– Действуйте, лейтенант, – кивнул Бакулин и задержал на мне ласковый взгляд. – Прошейте им кузов из автомата да у минометчиков попросите огонька. Легенда такая: заблудились, наткнулись в темноте на красных, едва улизнули.
– Ясно, – выдавил я.
Я сам всадил очередь в задний угол кузова. Нескольку мин лопнуло впереди, на шоссе, затем Катя села в кабину, я втиснулся рядом. Кайус Фойгт дал газ, и мы не спеша, на тормозах скатились с холма. Катя зябко ёжилась.
– Ой, звездочка упала! – воскликнула она. – Я загадала. Значит, все будет хорошо.
Она улыбалась мне, ободряла меня. От этого становилось еще тяжелее. Мы объехали минное поле, я вылез и пожал маленькую холодную руку.
– Простите меня, – только и сумел я сказать.
Начинало светать, и машина не сразу скрылась из вида. Я стоял и смотрел. Вот она превратилась – в бесформенный комок и растворилась в сумерках. Некоторое время еще слышалось жужжание мотора, потом его заглушил отдаленный гомон зениток. Край неба вспыхнул, там занимался пожар. Где-то переговаривались дальнобойные. Озаряемое сполохами, лежало каменной целиной предместье вражеского города, и к нему, в неизвестное, двигалась маленькая бесстрашная девушка…
3
Вы поймёте, как нетерпеливо ждал я вестей от Кати, когда мы вошли в Кенигсберг.
Дышалось по-весеннему. На Университетской площади, где генерал Ляш со своим штабом сложил знамена, дерзко пробивалась в обгоревшем сквере молодая зелень. В тот год весна несла самый драгоценный дар – победу, мир. И хотя в городе то и дело рвались мины, возникали пожары, а пленные немцы рассказывали о каком-то «тайном оружии», будто бы имеющемся у Гитлера, мы все знали: дни фашистской Германии сочтены.
«Неужели Катя не дожила?..»
Она не встретила нас. Явки, которые она дала Бакулину, не состоялись.
Значит, случилась беда. Чувство вины перед ней и раньше донимало меня, а теперь оно стало невыносимым. Я рисовал себе ее в застенке, в руках палачей. «Если она погибла, – думал я, – то из-за меня. Да, из-за меня».
Бакулин предпринял розыски. Я понадобился ему, так как видел Катю и шофера. От Бакулина я и узнал ее историю.
Жила Катя сперва в Майкопе, потом в Киеве. Окончила там семилетку, поступила в музей, на техническую должность. Полюбила музей. Когда Киев захватили немцы и стали вывозить сокровища, Катя вызвалась сопровождать эшелон в Германию. То было поручение комсомольского подполья – не выпускать из вида музейное добро.
Юная девушка, наивная, почти ребенок, – кто заподозрит, что у нее секретное задание! Ограблением музеев ведал эйнзатцштаб Альфреда Розенберга. Катя устроилась в штабе переводчицей. Немецкому языку ее обучали еще в детстве. В музее Катя успела прослыть ходячим каталогом. Она держала в памяти тысячи имен, дат.
Последнее время Катя была в Польше. В Кенигсберге она очутилась недавно. Вот почему Бакулин не предупредил нас. Он сам не рассчитывал встретить Катю на нашем участке.
– Миссия ее, в сущности, почти закончена, – сказал Бакулин. – Много сведений уже получено от нее, кое-что она сама мне сообщила. Но… Она, понимаешь, считает, что рано ставить точку. Аргументы у нее серьезные.
Луч солнца, пробившийся сквозь цветное стекло узкого окна, освещал лицо Бакулина, доброе и немного грустное. Разведотдел занял помещение духовной школы.
– Вещи! – воскликнул я с досадой. – Да куда они денутся, товарищ майор!
– Могут и пропасть. Вопрос не такой простой, Ширяев. Но мы убедили ее не увлекаться, по крайней мере. Ограничить цель. В Кенигсберге, видишь ли, находится знаменитая Янтарная комната.
– Комната? – спросил я.
– Отделка комнаты, точнее говоря. Не слыхал? Видел я ее. Богатый в Пушкине дворец, всего не запомнишь, а это забыть невозможно. Комната в огне будто. В золотом огне. Он тлеет, тихонько тлеет, а тебе сдается, вот-вот вспыхнет пламенем. Даже жутко. Раздобудем ее в Кенигсберге, и ты увидишь.
– Не влечет, товарищ майор, – сказал я. – Что в ней? По сравнений с жизнью человека…
Для меня она была далека, как все мирное, – Янтарная комната; как дома «Девятый вал» в рамке, выпиленной лобзиком; как мои школьные учебники, закатанные чернилами; как плеск весел на Оке…
– Согласен, – молвил майор. – Человек дороже всего. Но ты ответь, можно запретить человеку идти на подвиг?
В тот день Бакулин долго не отпускал меня. И я изливал ему свою душу.
Астафьев – тот восхищал меня храбростью, хладнокровием в бою, но отдалял от себя суровостью. Причину он не скрывал. Война отняла у него всех близких. «Сердце из меня вынуто», – бросил он как-то, хватив трофейного шнапса. Бакулина я знал еще мало, чуточку робел перед ним, но тянулся к нему. Вырос я без отца и, должно быть, знакомясь со старшими, бессознательно искал отеческое…
Сегодня впервые Бакулин говорил мне «ты». Катя словно сблизила нас.
– Располагайте мной, товарищ майор, – сказал я. – Раз я допустил ошибку…
– Опять ты за свое… – Он покачал головой.
– Судить меня не за что. Верно, – отозвался я, – устав я не нарушил. А все-таки есть моя вина!
В чем она состоит, я не мог как следует объяснить. Чувствовал я себя как бы уличенным в трусости. От смерти в бою не бегал, а довериться человеку в решительную минуту смелости недоставало.
– Ну-с, ближе к делу! – отрезал Бакулин.
Я выслушал инструкцию. В Кенигсберг Катя приехала с двумя офицерами эйнзатцштаба – подполковником фон Шехтом и обер-лейтенантом Бинеманом. Известен еще шофер – Кайус Фойгт. Их и надо обнаружить прежде всего.
Я вышел.
Наводить справки, отыскивать кого-нибудь в чужом городе, только что занятом, – задача нелегкая. Я убедился в этом очень скоро. Фойгт как в воду канул. Не было никаких сведений ни об эйнзатцштабе, ни об его офицерах. В комендатуре пожимали плечами. Немцы – пленные и штатские – не знали или отмалчивались… На конец на третий день мне принесли пакет со штампом немецкого лазарета.
«Подполковник Теодор фон Шехт скончался 10 апреля от сердечного удара», – прочел я.
Среди несметного количества смертей, изобретенных людьми, естественная, невоенная причина казалась неправдоподобной. К тому же речь шла о фон Шехте – грабителе фон Шехте. Требовалась проверка.
Бакулин дал мне «виллис», и я поехал. Сперва машина колесила по центральным улицам, разгромленным бомбовыми налетами англичан, огибала завалы, воронки, противотанковые надолбы, поваленные деревья. Я держал на коленях план Кенигсберга. Двигаться среди руин было трудно. Потом мы вырвались в западную часть города, почти не тронутую бомбами. «Виллис» остановился у серого особняка. У подъезда, под тяжелым узорчатым железным фонарем, советский офицер-медик – потный, в расстегнутом кителе – растолковывал что-то немкам-санитаркам.
– Фон Шехт? – Медик поднял брови. – Совершенно верно, умер.
– Tot, tot, – закивали санитарки.
– Удар? – спросил я.
– Точно, точно, – подтвердил медик. – Я сам очевидец.
Одна из санитарок принесла небольшой желтый чемоданчик. Медик достал из кармана ключ.
– Документы умерших, – сказал он.
Синий сафьяновый бумажник с инициалами фон Шехта мне бросился в глаза сразу. Он словно аристократ, чванный, пузатый, раздвигал потрепанные паспорта и солдатские книжки. Вывалилось офицерское удостоверение, пропуск штаба гарнизона, два орденских свидетельства: одно – к железному кресту, другое – к кресту с дубовым венком. На фотоснимках – узкое лицо, словно рассеченное широким, плотно сжатым ртом, вдавленные виски, высокий, без морщин лоб. Год рождения 1898-й, сообщали документы. Но ему можно было бы дать и тридцать лет, и все пятьдесят. Лицо было без возраста… Вот пачка визитных карточек. «Фон Шехт» – стояло на них крупно, затейливой старинной вязью. Вспомнилась вилла «Санкт-Маурициус» – башенка, унизанная гипсовыми раковинами. И еще одна подробность возникла в памяти при взгляде на карточки. На каждой, в левом верхнем углу, красовалось изображение святого с черной негритянской головой. Того самого, что стоял в подвале виллы, в нише.
– Святой Маурициус, – произнесла санитарка постарше, и остальные опять закивали.
Уголок сложенной вчетверо бумажки торчал из бумажника. Я развернул.
«К ногам могучей немецкой империи складывает покоренная Россия сокровища, накопленные царями и блиставшие в их дворцах. Немец! Посмотри на эти трофеи! Они по праву принадлежат расе господ».
Бумажка перетерлась на сгибах, потеряла глянец, – фон Шехт, очевидно, давно хранил этот рекламный листок. Как сообщалось далее, выставка вещей из дворцового убранства открыта в Орденском замке, и в числе экспонатов – Янтарная комната из Екатерининского дворца в городе Пушкине.
Вот и все содержимое бумажника. «Пожалуй, только реклама выставки и представляет интерес», – думал я, трясясь в «виллисе». Теперь установлено по крайней мере, где показывали Янтарную комнату – предмет особых забот Кати.
– В замок! – приказал я водителю.
Орденский замок – в самом центре города. Первый раз я увидел его в день штурма. Багровое пламя вырывалось из окон угловой башни. Он стоял в клубах дыма, над пустырями, над грудами битого камня. Жилые кварталы окрест рухнули, а замок стоял. Ловкие мастера воздвигли когда-то это здание вышиной с восьмиэтажный дом. Бомбы, пожары сильно повредили его: стены местами обвалились, но он все же выдержал.
«От замка на зюйд», «мимо замка и вправо» – так говорили тогда у нас, уточняя направление. Он виден издалека. Но только теперь, поднимаясь по ступеням лестницы, ведущей к воротам, я почувствовал всю мощь древней твердыни. Замок словно придвинулся и навис надо мной. Угрожающе клонилась башня, мохнатая от опаленного, порванного плюща. Струйки дыма сочились из амбразуры, – внутри что-то еще горело.
От этого замка и пошел Кенигсберг. Оплот Тевтонского ордена, немецких псов-рыцарей был его началом, ее сердцевиной. Потом замок стал резиденцией прусских королей: Один из них – Фридрих-Вильгельм, – принимал здесь русское посольство во главе с Петром Первым… Но это все я узнал позднее.
Холодом, извечной сыростью камня, духом гнили пахнуло на меня во дворе. Есть ли тут где-нибудь жизнь? Мы миновали арку, вошли в следующий двор. Гудит мяч, – люди в голубоватых, застиранных халатах играют в волейбол; несет йодоформом. Санчасть. Рядом, в углу, у маленькой кирпичной пристройки толчется часовой. Верно, кладовая. На двери с замком дощечка: «Мин нет». А справа, в глубине двора, они, может, еще есть, – там ходят саперы, тычут в землю свои щупы. И какой-то штатский, коротенький, в помятой зеленой шляпе, увязался за офицерами, жестикулирует, зовет.
Я подошел.
– Его зовут Моргензанг, – сказал, смеясь, лейтенант, мой ровесник. – Утренняя песня, следовательно. Он хозяин кабачка.
– Какого кабачка?
– Вот же, – лейтенант задрал голову, – «Кровавый суд»! Придумал же!
«Blutgericht!» – блестели стальные буквы, прибитые прямо к стене.
– Тут в старину был зал суда, – продолжал лейтенант, и в голубых глазах его светилось насмешливое удивление. – И камера пыток. Давно, еще при рыцарях. Чудак же! Спрашивает, нельзя ли ему опять открыть свое заведение. Для наших офицеров. Конкурент военторгу! – Лейтенант расхохотался, довольный своей шуткой. – Он говорит, многие высокопоставленные лица посещали кабачок. Топоры, клещи там, железные прутья развешаны, кольца, куда пленников заковывали. Все подлинное. Очень, говорит; редкий локаль. Вот, хочет продемонстрировать.
Немец подбежал к нам:
– Нет мин, господа, уверяю вас! Я же был тут. Ой, вы бы видели маскарад! Фольксштурмовцы сперва храбрились, а потом сорвали с себя мундиры и драла. В музейных костюмах! В камзолах, в плащах времен Лютера. Бог мой! А я не подумал уходить. Зачем? Я вывесил скатерть, белую скатерть, и встретил русских здесь. Да, да, может ли капитан покинуть свой корабль? Нет, господа! Так и я!
– Порядок! Гут! – раздалось за стеной, внутри. Солдат-сапер спрыгнул с подоконника к нам. Моргензанг тотчас ринулся вперед.
В кабачке все побелело от осыпавшейся штукатурки – прилавок, круглые столики, пыточное кольцо, вбитое в стену. На полу валялись бутылки с этикетками французских, греческих вин. Моргензанг носился по залу, рылся в кладовых, гремя пустой посудой, и скорбно вздыхал.
– Ах, господа-офицеры, ничего нет, абсолютно ничего! Пустыня Сахара! – горевал он, вздымая руки. – Проклятые эсэсовцы! Все сожрали!
Войдя в азарт, он перечислял вина, которыми хотел бы нас угостить, токайское полувековой давности, лучший рейнвейн. Прищелкивая языком, Моргензанг рассказывал, какие блюда составляли гордость его предприятия. Прежде всего – фаршированный цыпленок! Тут Моргензанг молитвенно затих.
– Объедение! Чудо! – воскликнул он. – Цыплят я получал из Литвы, очаровательных цыплят.
Он поперхнулся и заговорил о датских сырах. Затем он перешел к отечественной кухне.
– Сырой фарш с луком вы ели? – спрашивал он. – У вас в России это не принято, кажется. Напрасно. В Германии модно! Некоторые даже требовали фарш с кровью, по древнегерманскому обычаю…
Лейтенанта это откровенно забавляло. Он был сильнее меня в немецком, то и дело принимался переводить, смеялся от души.
– Ох, потешный частник! – приговаривал он. – Гастрономическая песня. У меня уже живот подводит.
С трудом я прервал излияния Моргензанга, припер в угол и дал ему листок с рекламой выставки. Он вытер руки о плащ, осторожно взял листок за уголки и пошевелил белёсыми бровями.
– Да, выставка была. На втором этаже, в бывших королевских покоях. Роскошно! Великолепно!
Он прибавил, что пускали туда не всех, и он, Моргензанг, ни за что бы не попал, если бы не клиенты. Они устроили ему протекцию.
Я спросил, куда делась выставка. Оказывается, в сентябре, во время налета англичан, туда угодила зажигательная бомба. Часть вещей пострадала.
– Только часть, и не самая ценная, если верить слухам. После налета вещи упаковали и стащили вниз в подвал. Своды там знаете какие! Лучшего убежища не найти. Тевтонские рыцари, они, верно, предвидели авиацию, бомбы! Х-ха!
Накануне штурма города Моргензанг увидел во дворе замка ящики, груду ящиков. В них была отделка Янтарной комнаты – зеркала с прикрепленными к ним камнями. Как он узнал? Очень просто, ящики были помечены буквами «В» и «Z». Эсэсовцы подтвердили: да, это царская Янтарная комната. Ящики лежали прямо на асфальте, под дождем, и Моргензанг спросил себя, что же будет с царскими сокровищами дальше. Цари, вероятно, и вообразить не могли такое. Эсэсовцы успокоили его. Дождь не страшен, у ящиков двойные стенки с прокладками.
– Слава богу! Значит, все в сохранности. Сейчас ведь не делают таких изумительных вещей. Вообще все прекрасное – в прошлом. Увы, это так! Что дал нам прогресс? Бомбы! Бомбы!
– Э, да вы философ, – заметил лейтенант-сапер.
– О да, господа! Кенигсберг – город Канта. Мне передавали, ваши военные положили цветы на могилу Канта. О, это благородно! Здесь всегда была интеллектуальная атмосфера, пока не явились нацисты. Ах, вы бы видели, что творили эсэсовцы здесь, в моем кабачке! Варвары, настоящие варвары!
– Какие эсэсовцы? – спросил я.
Имен он не знает. Да разве упомнишь всех! Кабачок обслуживал военных. Он был открыт до последнего дня, несмотря на пожары, на бомбежки. Тут Моргензанг горделиво выпятил грудь. А эти эсэсовцы были последними посетителями. Выпили, съели все самое лучшее, потом переколотили бутылки, консервы забрали, сыр и масло облили керосином. Такой был чудесный круг сыра из Дании! И ничего не заплатили. И это наводило на размышления. Ведь жителей Кенигсберга уверяли, что город никогда не буден сдан, что Берлин посылает на выручку осажденным парашютные дивизии. Пока клиенты платили, еще можно было поверить.
– Шумели тут эсэсовцы, безобразничали и поглядывали в окна. Ждали машину. Вечером – уже стемнело – во двор вкатился грузовик с русскими пленными. С ними был обер-лейтенант, очень толстый, и переводчица. Русская фрейлейн, молодая, маленького роста.
– Катя! – вырвалось у меня.
Я стиснул плечо лейтенанта. Моргензанг начал старательно вспоминать, как выглядела русская фрейлейн. Да, синий берет, кожаная зеленоватая куртка.
Катя! Катя!
Как только появилась машина, все эсэсовцы высыпали во двор. Моргензанг вышел. Ему любопытна было, что же происходит? Пленные погрузили ящики. Моргензанг спросил одного офицера, куда их везут, тот ответил: «Туда, где их сам дьявол не отыщет». И они уехали.
– И переводчица тоже? – спросил я.
– Да, маленькая русская фрейлейн села в кабину вместе с обер-лейтенантом.
Моргензанг заметил и волнистые белые полосы на кузове – несмытую зимнюю маскировку. И шофера запомнил. Высокий, с тонкой шеей. Он очень уважал русскую фрейлейн.
– Да, глядел на нее, как мальчик на свою мать. Забавно! Он – верзила, а она – такая миниатюрная фрейлейн. Шофер помогал грузить, – все они очень спешили; и фрейлейн волновалась, все напоминала: «Осторожно, там стекло». Боялась, как бы не разбили.
Больше Моргензанг ничего не мог сказать нам. Он проводил меня до ворот и напоследок снова выразил свое самое заветное, самое искреннее желание – открыть кабачок «Кровавый суд» для русских офицеров.
Итак, накануне штурма Катя была жива. Что же случилось с ней потом?
Найти бы кого-нибудь из тех пленных! На окраинах Кенигсберга, как грибы разрослись бараки, обнесенные колючей проволокой. Узников гоняли на фабрики, на оборонные работы.
Вечером Бакулин выслушал мой доклад.
– Мы на верном пути, – сказал он. – Ты прав, надо поискать среди пленных. Они еще здесь, Идет процедура учета, репатриации. Терять времени нельзя.
Минул день, другой. След Кати снова оборвался. В одном лагере ее видели, – она приехала с обер-лейтенантом; им дали группу пленных. Они не вернулись в лагерь. Это было накануне штурма.
Итак, Катя была тогда жива. Взяв пленных, «оппель» Кайуса Фойгта прибыл в замок за янтарем. Оттуда Катя уехала. С Фойгтом, с обер-лейтенантом, – возможно, Бинеманом, помощником фон Шехта.
Куда?