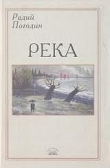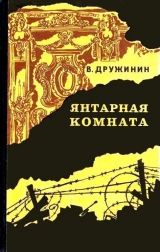
Текст книги "Янтарная комната (сборник)"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
13
– Здравия желаю! – кричал Лобода, и трубка, казалось, вот-вот разлетится от его баса. – Алло! Да, я Долото, не прерывайте, девушка! Что? В Калеван-линне авиаполевая дивизия? Бомзе, милый, это же здорово! – Он положил трубку и обернулся к Михальской. – Вы слышали?
– Да, товарищ майор, – отозвалась она. – Наконец-то! Кстати, там ведь наша машина.
– Именно, – басил майор, ликуя. – Сегодня же Фюрста туда. Но с кем?… Из русского лексикона у него: «давай», «хорош», и все… Нет, его нельзя одного отправлять. Поезжайте вы с ним.
Фюрст сидел на веранде, около печатной машины. Согнувшись над крупным ломберным столиком, он вслух зубрил русские слова. Лоскутки бумаги со словами «утро», «вечер», «день», «месяц» висели, наколотые на кактусы. На листке размером побольше стояло «три стула, пять стульев, двадцать один стул». И, словно крик души, крохотное, в скобках, «почему?».
– Герр Фюрст, – сказала Михальская, входя. – Нам с вами надо ехать.
– Слушаю, фрау гауптман, – ответил он и встал.
– Мы столкнулись с авиаполевой. И вам наконец представится возможность…
– О! – протянул Фюрст. – Когда мы едем? Я готов, фрау гауптман.
Лобода смотрел в окно, как они садились в «виллис». Потом припал к гранкам, но ненадолго. Резко постучав, рванул дверь Усть-Шехонский.
– Где твой фриц?
– Который? – Майор вскинул глаза. – У меня ведь два немца.
– Нет, не Фюрст, – отмахнулся контрразведчик. – Тот… эльзасец.
– Гушти, – напомнил майор.
– Ну да, Густав Эммерих по документам. Черт, из головы выскочило! Вот до чего…
– Да в чем дело?
– Изволь. – Усть-Шехонский выхватил из кармана два листка и разложил перед майором.
– Схемы какие-то, – произнес майор. – При чем тут Гушти?
– Вот это его художества. – Майор накрыл рукой один листок. – А те – оборона Калеван-линна как она есть. Понятно?
– Пока не совсем.
– Проще каши, – нетерпеливо сказал Усть-Шехонский. – Одно из двух: или гитлеровцы внесли изменения за это время, переместили точки, или…
– Или Гушти наврал, – заметил майор.
– То-то и оно! Пока ничего нельзя сказать наверное. Изменить они могли. Мало ли для этого причин! Хотя бы то, что их чертежник у нас в плену. Но… черт его знает! В оба надо глядеть за твоим Гушти.
– Да! – воскликнул майор в тревоге. – Конечно, надо! Он же из Эльзаса, к тому же…
Он отвернулся, чтобы скрыть любопытство, Усть-Шехонский никогда не сообщал подробностей.
– За твоим Гушти нужен глаз, – повторил Усть-Шехонский.
14
Гушти! – крикнул я еще раз. Смутное эхо ответило мне. Где же Гушти? – Его же не было в машине, – сказал Шабуров. – Я еще окликал его, когда пластинка играла. Я там был, в кустах, думал, не задело ли его. А тут ещё парочку гостинцев оттуда прислали. И вся музыка…
Гушти сбежал?
Мы звали его, шарили в зарослях. Вероятно, немцы решили, что цель накрыта. Чужой холм молчал, подернутый грязноватым туманом.
Битый час мы бродили по лесу, оглядывая каждый куст, каждую ямку. Уже рассвело, на борту звуковки выступили капли росы. Самые худшие предположения теснились в моей голове. Гушти – враг, хитро замаскированный враг. Ему поручили войти к нам в доверие, он выполнял какие-нибудь задания. Наверняка выполнял! И вот сбежал к своим, сбежал безнаказанно…
В лесу затрещал валежник. Я выглянул из машины. К нам шли трое. Юлия Павловна, Фюрст и… Гушти. Он плелся сзади, понуро, с виноватым видом. Фюрст оглянулся на него, и в это мгновение Гушти торопливо выпрямился, расправил плечи и поднял на офицера подобострастный взгляд.
– Хорошенький номер, – сказала Михальская. – Нервы у него, видите ли…
Я понял не сразу. Что же случилось? Фигура пришибленного, едва плетущегося Гушти красноречиво говорила о том, что «нервы» – это относится к нему, конечно.
Оказывается, Гушти попутал страх. Из страха он в свое время перебежал от своих к нам, и приступ страха погнал его сейчас, во время обстрела. Он кинулся в чащу леса, подальше от звуковки, с одной только целью – уйти из-под обстрела, спастись. Дрожа, он лежал под кустом, а затем, увидев Михальскую и Фюрста, вышел к ним навстречу. Бросился в ноги, умоляя не посылать больше на передовую.
– Я пообещала, – сказала Михальская. – Неволить не имеем права. Но обер-лейтенант взял его в оборот.
Вещать было уже поздно, спать не хотелось. Мы осмотрели звуковку, нашли пробоину. Шабуров вставил запасную лампу. Фюрст, сидя в сторонке на пеньке, продолжал беседу с Гушти. Тот стоял перед офицером навытяжку и монотонно повторял:
– Jawohl, Herr Oberleutnant![11]11
Да, господин старший лейтенант! (Нем.).
[Закрыть]
Фюрст сердился, брал себя в руки, снова выходил из себя.
– Гушти – филистер, – обращаясь ко мне, произнес Фюрст. – Филистер, – повторил он. – Дурная порода. Она доставит нам еще много хлопот в Германии. – Он деловито наморщил лоб. – О, ему нравится быть при штабе, на привилегированном положении. Еще бы!
– Он трус, – сказал я.
– Да. Он хочет переждать войну, только и всего. Я ставлю перед ним вопрос прямо, господин лейтенант. Готов ли он бороться за новую Германию? Не знаю, с ним надо еще поработать.
И Фюрст насупился, давая понять, что работа предстоит нелегкая и будущее Гушти для него не ясно.
Я отдыхал от тревоги. Хорошо, что не сбежал. Трус – только и всего. Впоследствии подтвердилось: в чертежах он не наврал, фашисты переставили огневые точки.
Подходит Михальская с папироской в руке. Фюрст чиркнул спичку. Я невольно следил за ним. Фюрст держит спичку твердо, ловко. Мне совсем не до того сейчас, но я все-таки смотрю.
День прошел спокойно. Ночью звуковка снова наставила рупоры на холм, занятый немцами. Я прочел обращение советского командования. Калеван-линн окружен. Единственное спасение – в капитуляции.
Немцы слушали тихо. Музыки мы им не дали на этот раз. Микрофон взял Фюрст.
Он очень волновался. Он путался в проводе, уронил микрофон и неуклюже искал его, топча папоротники. Я показал ему мои валуны в канаве, и, когда он, сопя, уселся, я нахлобучил на него плащ-палатку.
– Вы помните меня, – начал Фюрст. – Я обер-лейтенант Фюрст, бывший командир второй роты. Я жив, я в русском плену…
Ночь была светлая. На фоне холодного фарфорового неба ясно выступали очертания высоты Калеван-линн, пологой, гладкой, словно укатанной. Я видел, как одна за другой гасли редкие вспышки, только один пулемет еще отбивал дробь.
– Вы узнаете меня? – спрашивал Фюрст… – Ты, лейтенант Блаумюль Эмми, мой партнер по шахматам! Ты, наш чемпион бокса, унтер-офицер Гаутмахер, Франц, рыжий Франц! Ты, обер-ефрейтор Габро, носатый Габро, прозванный аистом! Вы узнаете меня? Отвечайте же, черт вас возьми, когда с вами говорит ваш командир, хотя и бывший! Отвечайте как можете – ракетой, трассирующей очередью!
– Узнали, – облегченно вздохнул Шабуров, стоявший рядом со мной на опушке, в ольшанике. Рука Шабурова до боли стиснула мое плечо. Там, над траншеями немцев, плясали, растворялись в воздухе ярко-красные стрелы.
– Слушайте мой совет, кончайте с проклятой войной! – гремел голос Фюрста. – Это говорю вам я, Фюрст. Кончайте, пока вы живы!
Фюрст говорил долго. Мы не уехали с передовой на отдых, тишина приковала нас. Нам не терпелось увидеть, что же будет дальше.
Рассвело. Холм был в серой пелене тумана. Солнце пробивалось где-то в глубине леса, позади нас. Туман порозовел и начал таять. Чья-то фигура вдруг выросла перед нами, в кустах. Это был капитан, Командир роты разведчиков, в летней форме, в пилотке вместо кубанки, – я не сразу узнал его.
– Красота-а! – пропел капитан, засмеялся и сел на ступеньку машины.
Он устал, вымок в росе и выглядел так, будто на него свалилось неожиданное счастье.
– Мои славяне за «языком» пошли, а привели полдюжины, целое боевое охранение. Немцы рубашки на себе разорвали, машут: «Гитлер капут!»
Смеясь, он рассказывал, каких отборных солдат послал в разведку. По всем статьям отличные солдаты. Обстановка серьезная. Место голое, риск. Мне понятна его радость. Он послал на опасное дело самых опытных, самых умелых. И тревожился за них. Я спросил его о Кураеве.
– Вот и он тоже ходил, – сказал капитан. – Как же! Где потруднее, там Кураев. Из всех солдат солдат. А пленные немцы говорят, что весь гарнизон сдается.
День разгорелся, туман редел, сползал к подножию холма, в сырую низину. И тут мне открылось зрелище, которое навсегда врезалось в память. Скат обнажился, засеребрилась сочная, влажная трава… И, словно большие цветы, распустившиеся за ночь, забелели на колючей проволоке, на палках, воткнутых в землю, солдатские платки, полотенца…
Высоко над нами в чудесной, необыкновенной тишине звенел жаворонок.

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Я родился в среднерусском селе Клёнове. Мой отец, Николай Сергеевич Ливанов, был учителем.
Впрочем, спешу оговориться. Не потому я начал свои записки с нескромного «я», что намерен приписать себе главную роль в событиях. Нет, я далек от такого стремления. Если бы не мои друзья, вместе со мной боровшиеся и с силами природы и против коварного, опасного врага, я не продвинулся бы и на шаг в своих поисках и, конечно, не сидел бы сейчас в своей комнате на Васильевском острове, – живой, с пером в руке.
Я мог бы в первых же строках сказать о партизане, который, преодолев тысячи опасностей, пришел из вражеского тыла к своим и сообщил важные вести. Я мог бы начать с того дня, когда наши бойцы захватили в плен парашютиста Гейнца Ханнеке, сброшенного близ Дивногорска, и затем рассказать о том, как странный документ, найденный у Ханнеке, помог раскрыть заговор, составленный много-много лет назад. Я мог бы…
Нет, не сто?ит забегать вперед. Ведь события, связанные с черным камнем, начались для меня очень давно – в детстве.
Итак, родом я из Клёнова. Село это – если смотреть сверху – чаша садов, разделенная, словно пробором, широкой и прямой улицей, по-нашему «плантом». Теперь наше Клёново знаменитое: мичуринцы вывели замечательный сорт яблок. А тогда, в доколхозное время, яблоки были мелкие, кислые и мало отличались от диких. К тому же, чуть не каждый год львиную долю урожая съедала болезнь. Не успев созреть, яблоки валились на землю и покрывались пятнами гнили.
Один дом в Клёнове резко отличался от прочих. При нем не то что сада – кустика не было. Не было ни клумбы с цветами, ни скамеечки под окном. Ветер шевелил бородки пакли, торчавшие из пазов. Некрашеный, без наличников на окнах, без навеса над крыльцом, дом выглядел голым, неуютным, холодным. Он был известен под названием «приказчиковой дачи», или «Сиверсовой дачи». Хозяином ее был приказчик Сиверс – датчанин, служивший до революции у крупного нефтепромышленника.
В Клёново Сиверс наезжал вербовать рабочих и здесь женился на дьяконовой дочери Тамаре. Говорят, что дача воздвигалась на ее приданое. Тамара хотела, будто бы, осесть с мужем в Клёнове и умножить капитал торговлей. Но впоследствии Сиверсы перестали бывать в Клёнове. Дача осталась неотделанной; для присмотра за ней Сиверс поселил старуху.
Много лет прожила эта женщина на «приказчиковой даче» совершенно одна. Сиверс пропал куда-то. Его домоправительница добывала кусок хлеба тем, что вязала из цветной шерсти варежки и остроконечные шапочки.
Я помню ее. Труша – так окрестили у нас Гертруду – была тощая высокая старуха с глазами младенческой голубизны – робкими и кроткими. Из своего жилья она выходила редко, потому что у нее болели ноги. Она переставляла их медленно, с опаской, словно шагала на ходулях. По-русски она говорила плохо. Мальчики дразнили ее, а девочки защищали, – она учила их вязать.
Перед смертью Труша помешалась. Должно быть, одиночество доконало ее. Она заперлась в «приказчиковой даче» и несколько дней ничего не ела. Потом собрала свои пожитки в мешок, взвалила на плечи, шатаясь спустилась с крыльца и упала. Фельдшер Николай Кузьмич не мог помочь ей. Сельчане жалели Трушу. Несчастная умерла вдали от родины! Вспомнили про Сиверса. Где он? Если жив – должен прибыть, чтобы распорядиться домом.
И Сиверс прибыл. Это событие прекрасно сохранилось в моей памяти, хотя мне было тогда тринадцать лет.
Я полол гряду с брюквой, елозя голыми коленками по канавке. Подошел отец и велел мне переодеться: «у нас гость».
Новость удивила меня. День был будний, трудовой. В такой день нам никогда не случалось принимать гостей. Для этого существуют праздники. Необычный гость заинтриговал меня. Чтобы не показаться ему в затрапезном виде, я влез в свой мезонин снаружи, по пожарной лестнице, вымылся и надел парадную толстовку.
В столовой я увидел низенького, коротконогого человека с отвислыми усами, которые придавали его узкому лицу выражение сокрушенное. Он обмахивался платком от жары и от мух.
– Ваш наследник? – произнес он, посмотрев сперва на меня, потом на отца. – Мое почтение, молодой человек.
Меня никто не называл наследником. Судя по иллюстрированному журналу «Нива», лежавшему в коробах на чердаке, наследником именовали царского сына. Там было черным по белому написано под портретом: «Наследник цесаревич». В применении ко мне, советскому мальчугану, готовившемуся вступить в комсомол, слово «наследник» звучало странно и даже обидно. Я пожал протянутые мне жесткие, прохладные пальцы и сел.
Сидел я между двумя тетушками. Поглощенный созерцанием гостя, я всё же заметил, что с тетей Клавой – младшей сестрой отца – творится неладное. Она словно окутала себя непроницаемым, недобрым молчанием. Худое скуластое лицо ее еще больше обтянулось. Отец поглядывал на тетю Клаву с некоторой опаской и сам держался необычно: говорил мало, угощал гостя с какой-то забавной церемонностью.
Я понял, что гость очень неприятен тете Клаве. Отец тоже не питает к нему симпатии, но боится взрыва со стороны тети Клавы. И только разбитная тетя Катя – старшая сестра отца – тараторит как ни в чем не бывало: она решила выжать из гостя как можно больше городских новостей.
Гость жевал и говорил. Он как будто не примечал сурового взгляда тети Клавы. С легким акцентом, временами коверкая фразу, он обстоятельно и с жаром рассказывал о себе. Мне казалось, он хвастается. Однако ничего особенного он не совершил. Он служит бухгалтером – вот и всё.
– Да вы на все руки мастер, – подал голос отец. – Вы и бухгалтер, и механик…
– Приходится, – ответил гость. – Я на этих руках, Николай Сергеевич, обошел земной шар.
Тут произошел небольшой конфуз. Я представил себе нашего гостя, идущего вокруг света на руках. К несчастью, рот мой был наполнен супом. Я фыркнул и окатил скатерть. Одна капля попала даже на запасное пенсне отца, висевшее на лацкане его люстриновой куртки.
Естественно, разговор за столом сосредоточился вокруг моего поведения, а затем коснулся воспитания детей вообще. И тут отец выдал мою тайну. Не знаю, зачем он это сделал. Возможно – хотел сгладить впечатление от моей неловкости.
– У Сережи серьезные интересы, – сказал он. – Пишет историю нашего села.
Отрицать было бесполезно. Я действительно писал историю Клёнова. Но никто из посторонних не должен был этого знать. Работа только начата. Еще неизвестно, что получится. Я надулся и стал смотреть на плакат, приклеенный к стене. Плакат изображал прилавок сельского кооператива, у которого теснятся довольные, смеющиеся мужики. У них квадратные плечи и квадратные ярко-желтые бороды. А напротив, через улицу, виднеется лавка частного торговца. Там нет ни одного покупателя. Частник стоит всклокоченный и злой. В него я и вцепился сумрачным взглядом, но ненадолго. За столом заговорили о Труше.
Гость скорбел о ней вместе с нами. Но что можно было сделать? Ревматизм, как известно, лечат на юге, грязевыми ваннами. Да и то не всегда вылечивают. У него тоже ревматизм. Суставы трещат, как сухая лучина, а спину по утрам не разогнуть. И однако он ждет путевки на курорт. Так, без путевки, он не может себе позволить… Он скромный служащий. Некоторые думают, что он нажил бог знает какие ценности при старом режиме. Но это смешно. Он всегда трудился. Его хозяин – тот, совершенно верно, нажил и теперь живет себе припеваючи за границей.
Уже не раз я мысленно спрашивал себя – кто такой наш гость. Теперь я начал догадываться. Неужели – сам «приказчик»? Откуда, с какой стати?
– Гертруда служила у моего покойного папаши, – говорил между тем гость. – Она нянчила меня. Можете быть абсолютно уверены: я не бросил бы ее так, на милость божию, если бы не превратности судьбы.
Сомнений больше не было. Помнится, я сжал кулаки и нахмурился. Пусть видит Сиверс: я всецело на стороне тети Клавы.
Обед кончился, отец увел гостя к себе, а я еще сидел некоторое время, удивленный и сердитый. Тетя Клава срывала тарелки со стола.
– Николай как хочет, а я не поеду, – вдруг произнесла она. – Не поеду я.
– Подумайте, радость какая! – отозвалась тетя Катя, размешивая пойло для поросенка. – На юру ветер свищет. В подвале, чай, вода. И для скотины ничего нет.
– Ясное дело, нет. Двор самим надо строить, – сказала тетя Клава. – Нет, вы как желаете, а меня простите… Проклятое место.
Оказывается, Сиверс предлагает нам купить дачу. Просит он недорого. Но, по мнению тети Клавы, дом не сто?ит и этих денег. А главное – это дом Сиверса! Ноги? ее не будет там.
Я понимаю тетю Клаву. Я знаю, почему она терпеть не может Сиверса.
Тетя Клава – вдова. Со своим мужем, дядей Ефремом, портрет которого висит у отца в кабинете, она прожила очень недолго. Принесла нелегкая Сиверса в наше село нанимать рабочих. Он и подсунул контракт дяде Ефрему. Соблазнил его хорошим заработком и увез куда-то за тридевять земель. Там обманутый дядя Ефрем затосковал, пристрастился к вину и однажды, возвращаясь в рабочую казарму, упал в шахту и разбился на?смерть.
Я всем сердцем сочувствовал тете Клаве. Мы были друзьями, хотя характер у нее был далеко не из-легких. Она часто бывала резка, иногда выпивала и после этого ругалась нехорошими словами. Отец в таких случаях запирался с ней наедине и часами стыдил ее. После она долго ни с кем не разговаривала, молча, яростно работала и неизменно ломала что-нибудь – косу, грабли, а то рассыпа?ла крупу или соль.
Ласки от нее доставались мне редко. Тетя Катя – та расточала их без счета. И всё же я любил тетю Клаву и заодно с ней ненавидел Сиверса.
Неужели отец купит «приказчикову дачу»? Нет, это немыслимо. Оставить наш уютный старый дом, поставленный еще дедушкой, наш сад, с узловатыми, раскидистыми яблонями! Расстаться с моей комнатой в мезонине, с чердаком, где лежит в коробах «Нива», висит дедушкина домра и где найдется, если поискать получше, еще много-много неизведанного! Всё это сменить на холодную, мрачную «приказчикову дачу»! Нет, ни за что!
– Я тоже не поеду, – сказал я тете Клаве. – Я с тобой буду.
ВЫЦВЕТШАЯ ФОТОГРАФИЯ
Мы напрасно волновались, – отец отказал Сиверсу. «Приказчикову дачу» купил кулак Нифонтов. А Сиверс уехал и больше не напоминал о себе.
В сентябре мне исполнилось четырнадцать лет. Тетя Клава испекла сладкий пирог и воткнула в середину пучок бумажных цветов. Они очень смущали меня. Парадная толстовка резала под мышками: я вырастал из нее. Пришли мои приятели – Женя Надеинский и Шура Петелин. На них тоже всё было тесное и до того чистое, что они боялись сделать лишнее движение. Я не пытался их развлечь. Не знаю почему, но на торжестве, устроенном в мою честь, я чувствовал себя ужасно неловко и глупо.
Вечером отец позвал меня к себе, чтобы побеседовать по душам. Он любил такие беседы. Он был доволен, когда ему удавалось «пронять», «взять за живое» меня, тетю Клаву или кого-нибудь из своих учеников.
– Я наблюдал за тобой и мальчиками, – начал отец, – и нахожу, что вы представляли жалкое зрелище. Вы стесняетесь взрослых. Вам не о чем говорить в их присутствии. Чем же заняты ваши головы, возникает вопрос? Я не случайно коснулся сегодня этого. Ты уже почти юноша.
Словом, отец советовал мне подвести итог прожитому году, составить план на следующий и постараться больше и упорнее заниматься. Как обстоит дело с историей села Клёнова? Что-то она медленно подвигается. Смогу ли я выполнить такую задачу один? В этом году в школе будет организован краеведческий кружок – кружок юных историков, натуралистов, собирателей песен и сказок.
Тут я стал слушать отца внимательней. Целый кружок? Это интересно. Я как историк зашел в последнее время в тупик. Из столетнего деда Евдокима – самого старого клёновского жителя – я выудил всё, что мог.
Вдруг отец встал и указал на старую, пожелтевшую фотографию на стене. Портрет выцвел неравномерно: лицо сделалось белобрысым, безбровым, зато на рубашке можно было пересчитать все полоски и пуговки. В семейном альбоме был другой портрет этого же человека, – там он снят примерно в моем возрасте, с матерью. Стройный мальчик с вздернутым носиком, который словно тянет за собой верхнюю губу и чуть открывает ровные зубки. Поэтому кажется, что он улыбается. Именно по той детской фотографии знаю я этого человека и чаще всего рисую себе его как своего сверстника.
– Ты знаешь, кто это? – спросил отец.
– Дядя Ефрем.
– А всё-таки… Кто он такой был?
На это я не знал, что ответить. Простой и понятный в свои тринадцать или четырнадцать лет, он куда менее ясен взрослый. Отзываются о дяде Ефреме различно. Тетя Катя, например, удивляется: как могла тетя Клава выйти замуж за такого беспутного! Он забросил жену и дом ради каких-то сумасбродных фантазий; не хотел работать, как все: невесть что воображал о себе. Если послушать тетю Катю, выходило, что Сиверс не ахти как виновен в гибели дяди Ефрема: он сам себя погубил. Возразить тете Кате я не умел. Я только думал, что чудаковатый дядя Ефрем был, верно, не так уж плох, если завоевал любовь строгой тети Клавы.
– Дядя Ефрем, – сказал отец, – прожил свой век неудачником.
– Что значит неудачник? – спросил я.
Отец засмеялся, снял очки и протер ладонями близорукие глаза:
– Да, к счастью, теперь это слово исчезает. И скоро его вообще не будет. Видишь ли, умный, талантливый был дядя Ефрем, а сруб сгорел.
Да, так оно и было. Я не раз видел у отца газету царского времени, с иллюстрацией, отчеркнутой красным карандашом. В кольце зрителей пылал бревенчатый сруб. Невозмутимые всадники с саблями возвышались над толпой. То были полицейские. Подпись я знал наизусть: «Плачевный результат испытаний огнеупорной краски крестьянина Ефрема Любавина». В толпе был и Сиверс. Впрочем, искать его в черном сгустке голов, похожем на икру, бесполезно. Даже дядю Ефрема и то не найти. Голова в платке, белеющая в задних рядах, за лошадью полицейского, – быть может, тетя Клава. Отец в то время учился в Петербурге, так что подробности знаменательного дня мне известны только со слов тети Клавы.
– Дядя Ефрем был очень несчастен, – продолжал отец. – Даже самый близкий человек не сочувствовал ему. Ведь мой отец мог дать образование только сыну, на дочерей средств не хватило. Клава не могла даже понять, чем занят ее муж. Она считала его талант проклятием, ненавидела его талант. Ты понимаешь, Сергей, какой это ужас? Какая страшная была жизнь!
Волнение отца передалось мне. События, знакомые с детства, поворачивались передо мной, обнаруживали неведомые до сих пор стороны и новый смысл. Я вдруг почувствовал себя старше. Ведь отец впервые заговорил со мной так.
– А дарование у Ефрема было. Самоучкой постигнуть такую сложную науку, как химия! Сколько опытов он проделал, с каким упорством! Он жег костры за деревней, в овраге, клал в огонь деревяшки, покрытые краской. Над ним издевались, а он всё палил свои костры. Он хотел избавить наше крестьянство от пожаров, от «красного петуха», уносившего каждый год многое множество дворов. И заметь: в кострах краска вела себя хорошо, а на публичном испытании сруб сгорел. Почему? Я в свое время снесся с одним специалистом, который принимал близкое участие в трудах дяди Ефрема. Правда, специалист не ахти какой… Он уверял меня: Ефрем стоял на правильном пути и непременно добился бы своего, если бы поработал еще. Одно дело – маленький костер, другое – сруб, обложенный кучами хвороста. Нужно было усовершенствовать состав краски.
– Папа! – воскликнул я. – Значит, он мог стать знаменитым изобретателем?
Эта мысль поразила меня. Наш дядя Ефрем мог занять место рядом с создателями паровоза, парохода, электрической лампочки! Чего доброго – и о нем было бы сказано в школьной хрестоматии. Но почему же он бросил свои поиски и уехал куда-то с Сиверсом? Должно быть, решил, что ничего не выйдет? Вот ведь досада!
Я обрушил град вопросов на отца. Он печально улыбнулся, кутаясь в плед:
– Мальчик мой, дядя Ефрем был беден. На опыты нужны были деньги. Не думай, что он упал духом. Нет, нисколько. Но ему никто не помогал. Он поехал добывать деньги.
В тот вечер я долго не отставал от отца. Куда отправился дядя Ефрем? Правда ли, что Сиверс обманул его? Я хотел знать всё. У отца на столе лежала стопка тетрадок по русскому языку, ему предстояло проверять их, он уже несколько раз раскрывал одну. Раскрывал и клал обратно, – ему жалко было отпускать меня. Да, дядя Ефрем не получил того, что сулил ему Сиверс. Так, по крайней мере, говорится в дядином последнем письме: «попутал меня бес довериться Сиверсу». А подрядился дядя Ефрем в Дивногорск, – это километров восемьсот от нас. Там капиталист, у которого Сиверс служил в приказчиках, затеял добычу асфальтита. В то время вербовщики, нанимая рабочих, обычно привирали: расписывали беднякам разные блага, хотя надобности особой в этом не было, – местность наша была малоземельная, голодная, и мужики соглашались на любую плату. Выходит, Сиверс и дяде Ефрему наврал. Однако первые месяцы дядя Ефрем не жаловался; а потом, вслед за последним его письмом, пришло другое – из конторы, с черной траурной каемкой. В нем не было никаких подробностей; Любавин Ефрем Федорович стал жертвой несчастного случая, – вот и всё. О том, как это произошло, написал Сиверс. Дядя Ефрем был нетрезв и оступился в темноте. Сиверс присовокупил: его-де, как цивилизованного человека, всегда неприятно поражал странный характер русских. Напрасно он, Сиверс, поощрял Любавина в его работе над огнеупорной краской, напрасно подыскал место с хорошей оплатой. Любавин показал, что у него нет той твердости воли и дисциплины, которая необходима для достижения цели.
– Высокомерное, холодное письмо, – сказал отец. – Не понравилось оно мне. Вместо того чтобы утешить родных Ефрема, он вздумал поучать. Ну вот, Сергей, я и предлагаю. У вас будет краеведческий кружок, займитесь Ефремом Любавиным. Разберитесь в его записях, рецептах, составьте его биографию. Может, из трудов Ефрема удастся извлечь что-нибудь полезное. Тут понадобятся и историки и химики.
Так закончилась беседа с отцом – беседа, повлиявшая на всю мою жизнь. Нужно ли говорить, что мне не терпелось начать изыскания: сию же минуту кинуться на чердак, рыться в коробах. Но спускались сумерки, а тетя Клава запретила ходить на чердак с лампой. И главное, надо было сесть за уроки.
Наконец воскресенье. Я снова лезу в короб. Надо мной то лениво, то настойчиво барабанит по дранкам дождь. Дверь в мой мезонин открыта, полоса света, протянувшаяся оттуда, затеняется набегающими тучками. Запахи чердака в сырую погоду еще сильнее, – особенно лекарственный дух мяты, напоминающий о зубной боли. Я откладываю в сторону черные тома «Нивы», знакомые от корки до корки. Дальше – слой бумаг, еще мало изведанный. Там, должно быть, и записи дяди Ефрема.
Вот они! Пухлые счетоводные книги, заполненные цифрами, перечнем товаров, – чай, сахар, соль, керосин. Загадочные цибики, дести, гарнцы. И всюду, где лавочник оставил чистое место, – выписки из научных книг. Как отец объяснил мне потом, бумага для дяди Ефрема была слишком дорога, он выпрашивал у сельских торговцев приходо-расходные книги и писал в них. Отличить его строки нетрудно: очень мелкие из-за экономии места, но четкие, вдавленные.
Эти драгоценные конторские книги я передал Жене Надеинскому, взяв с него клятву не терять, не закапать чернилами. Краеведческий кружок уже начал жить, и кому, как не Жене, надлежало взять на себя химическую часть исследования о Ефреме Любавине. Еще два года назад Женя чуть не спалил дом своими экспериментами. Он пытался заливать горящий бензин водой, отчего огонь растекся еще шире по полу. Но, конечно, не по невежеству Женя так сделал, а от страха. Теперь, в седьмом классе, он занял по химии первое место.
Полмесяца спустя Женя сделал доклад на кружке. Пришел Шура Петелин, решивший стать, по моему примеру, историком. Сестра его Тося взялась измерять глубину снежного покрова и направление ветра, а подруга Тоси – Зина Талызина, краснощекий, вечно смеющийся живчик, захотела собирать песни и частушки. Женя сел за учительский стол, рядом с моим отцом. Жесткие черные волосы Жени, обычно топорщившиеся, были смочены и зачесаны назад. Как сейчас, вижу его темные глаза, слышу его неторопливую речь с заиканием, на «у».
– У-у-уже ясно, что? это такое. Мы с Вадимом Александровичем прочитали…
Пробежал смешок. Все знали: формулы читал один Вадим Александрович – учитель химии. Но авторитет Жени в этот вечер всё же вырос еще больше, о чем мне тут же на собрании сообщила запиской Зина.
Из доклада Жени следовало, что дядя Ефрем избрал стекло как основу огнеупорной краски. Состав несложен. Надо продолжать опыты изобретателя-самоучки.
Разумеется, все горячо откликнулись. Зина Талызина, комментировавшая каждое событие нашей школьной жизни, послала мне записку:
«Т. говорит, что Надеинский герой вечера. Ревнуешь?».
Буквой «Т» была обозначена Тося Петелина, самая хорошенькая девочка в классе, при которой Зина состояла в адъютантах. Записка смутила меня, я спрятал ее в карман, потом, долго мусоля карандаш, обдумывал ответ, и рука вывела против воли, упрямое:
«Ну и пусть».