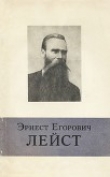Текст книги "Державы Российской посол"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
19
Борис Куракин воротился в Москву в феврале 1699 года. Аттестацию привез из школы зело похвальную.
Россия поразила его малолюдством, немеренными просторами, бесстыжей неприбранностью. Бревенчатой хлипкостью, запахами бани и стойла. Москва же захлестнула таким гиканьем и визгом саней, таким гомоном обжорных и суконных рядов, что мнилось – в Белокаменной бунт.
Те же маковки сорока сороков, та же громадность Кремля, а люди другие. Вроде проворнее стали и моложе… Ведь оставил Москву бородатую, долгополую. С каких же пор тут европская мода? Высунулся из возка, спросил прохожего.
– Да ты отколь? Бороду отняли, скоро и крест отнимут. Погоди вот…
Сказал и исчез в толпе.
За сугробами, за старыми березами встал полузабытый дом, вкололся в вечернюю хмарь остриями двух башен. Родным сердцу был скрип ворот, такой же, как в хоромах детства, и причитания кормилицы, выскочившей встречать. Борис не разобрал, смеется она или плачет.
– Кончается, – бормотала она, уткнувшись ему в грудь. – Кончается княгинюшка наша.
Астры ошиблись, предрекши благополучие в семье. Ксения едва узнала мужа. В ее спальне толклись старухи – кто пользовал болящую молитвой, а кто снадобьем знахарским. Доктора-немца княгиня к себе не допустила.
Три дня спустя княгиня преставилась.
«Задавила мокрота» – так проставлена причина смерти в куракинском дневнике.
Слез потеря не вызвала. В могилу Чудова монастыря легла чужая женщина, не жившая в сердце Бориса.
Дома не сиделось. Донимала теснота, нависал потолок, по-прежнему голый, – так и не собрались позвать живописца, чтобы изобразил ход небесных светил. Борис перечитывал Петрарковы сонеты – ту малую книжицу Франческа ему подарила, напитав страницы своим дыханием.
Ведет меня Амор,
стремит Желанье…
В лад с виршами подпрыгивал на коленях сын Александр. Продолжатель куракинской фамилии уродился крепеньким живчиком. Сонеты его смешили.
По пятам за князем-боярином ходил Губастов, услужливый, виноватый. Толстой сдержал слово – азовца Посольский приказ препроводил к господину, просил простить ему побег. Грамотный, смышленый холоп хранил ключи, надзирал за конюшней, за всеми работами. Помогал управителю, старому беспоместному дворянину Порфирию.
Лысый череп Порфирия, скверный дух изо рта, привычка сморкаться на пол мерзили Борису. Он послал шляхтича в амбары, а реестры денежные, хлебные поручил Федору.
Доходы с вотчин падали. Где уж тут нанимать живописца! Деревни нищают.
– Мизерикордиа! – вздыхал Губастов.
И колокола московские, вызванивая вокруг суматошно, причитали:
– Беда грядет, беда…
Попы молились о здравии царя, а втихомолку кляли как злодея, отступника от веры. По задворкам вился шепоток: околдовали государя за границей.
Петра редко видят милостивым, слышит Борис. Наезды царя в Москву подобны грозе. Начал с того, что самолично рубил головы стрельцам – пригодился курляндский подарок. Давно сняты с кольев, с колес кровавые култышки, но застенки Преображенского приказа не пустуют, по всей столице и иным городам вылавливают смутьянов, хулителей царя, сочинителей подметных писем. Ромодановскому, князю-кесарю всепьянейшего собора, не до веселья, с живота спал, истребляя «семя Милославских», семя боярской злобы.
– Правда ли, – спрашивал Борис Толстого, – что царицы у нас нет?
Толстой обитал недалеко, тоже в Китай-городе, на спуске к Москве-реке, в доме кирпичном, среди сада, подстриженного манером французским.
– Евдокия в Суздале. Вопила, силком затолкали в карету.
– Постригли?
– Пока еще нет. Упорствует.
– Обломают, – сказал Борис. – Царство Лопухиных рухнуло. Государь, поди, женится на Монсихе.
– Навряд, Борисушка. Соблазн ведь.
А жаль, думает стольник. Взял бы иностранку, показал пример…
– Во дворце переполох, – рассказывает боярин. – Старцев и стариц царь разогнал. И поделом. Облепили царевича. Ищет ему учителя просвещенного. Цесарь хотел забрать Алексея к себе. Воспитаю, говорит, как родного сына. Государь отказал.
Беседовать с Толстым Борис наведывался часто. Боярин привез из Венеции короба книг. Одну, именуемую «Метаморфозы», автора Овидия, начал переводить.
Борис глянул в нее – увы, не про него печатано, латынь! На картинке Диана, купающаяся в источнике, естество ее не прикрыто, поросль камышей прозрачна. Злосчастный Актеон, застигнувший ее нагой, превращен за это в оленя.
– Знаю, – кивнул Борис. – Он от собственных собак погибнет, разорван. Я все думаю, куда они подевались, боги? Удалились от нас?
– Умерли, – ответил Толстой. – Как всякая смертная тварь.
Видя недоверие Бориса, посмеялся. Греки и римляне воздвигали людям достойнейшим капища, воздавали им почести. С того и пошли мифы – хвала героям искусная.
От кого сие толкование? Борису оно внове.
– Наперво от Петра Алексеевича, – ответствовал Толстой. – Резоны государя я разделяю.
Звякнул в медное колокольце, вызвал слугу. Холоп, одетый венецианом, во все черное, и обутый в туфли с бантами, принес флягу с анисовой водкой и сушеные фрукты.
В печи трещали дрова, на стене, обитой атласом, зажигался то один цветок, то другой. Цветы исчезали и рождались.
– Гляди-ка, – сказал Борис. – Государь всех богов корчует. Ни древних, ни наших не щадит. Я мыслю, ожесточился он очень, казнивши стрельцов.
– Крут Алексеич, крут, – сказал боярин, поглаживая нагую Диану. – А иначе нас с места не спихнешь. Мы не Англия… У них король до чего перед купчишками изгиляется – тьфу! Свою любимую гвардию распустил, лишь бы парламенту угодить.
Борис согласен. Одно название – король. Все же крутость царя чрезмерна.
Лопухиным пора поубавить спесь. Но зачем же всем знатным фамилиям чинит униженье? Сам резал бороды, сам на пиру у Лефорта укорачивал кафтаны, бархатные ферязи. Мало того, еще шуту своему дал ножницы – на, мол, стриги бояр как овец. Это же, из Европы смотреть, вроде публичной казни!
Жаль Борису и древних богов. Незримой нитью связаны боги с Франческой. Отречься от них, значит изменить и ей.
– Было время, боги на земле жили, – сказал Борис, любуясь телом Дианы, расцветшим среди камышей. – Омерзели им, верно, наши непотребства. И за что попы взъелись на древних богов? На мудрость их, на красоту Афродиты?
Хотел помянуть и Амора, но устыдился. Знает ли Толстой про Франческу? Поди-ка, знает…
– Да ты филозоф! – удивился боярин. – В добрый час, Борисушка! Дай бог и нам Платона!
– Не филозоф я, – отмахнулся князь. – Латынь не разумею, так куда мне! Петр Андреич, златой век истинно был или нет, как мыслишь?
– Свидетельства имеются, – ответил Толстой осторожно. – Отрицать не можем.
– Вот-вот! – встрепенулся Борис. – Они тогда и правили, боги. Семя их не иссохло же. Ирои древние суть дети богов, правда же? А от ироев пошли фамилии самые старые. Петр Андреич, может, еще и настанет златой век? А? Я считаю, то не токмо от потентатов зависит.
– От кого же?
– От лучших фамилий, – сказал Борис истово. – Без них потентат, хотя и разумный, немочен завести порядок, чтобы все по правде вершилось. Коли лучшие фамилии согласятся…
– То-то и есть! Коли согласятся… Ты филозоф, филозоф, – ласково кивал Толстой. – Государь как отлупит тебя, филозофа…
Царская дубинка грозила явственно.
Венецианские аттестации, печати с крылатым львом для царя, вишь, недостаточны. Извольте, господа стольники, учившиеся полтора года, показать, годитесь ли вы для флота! Экзамент предстоит строгий.
Некоторые, боясь немилости, боясь службы, попрятались по именьям. Аврашка Лопухин засел в своих московских палатах, сказался больным, носа никуда не высунет. Борису внушали надежду астры.
Будь что будет…
Дом поручил Губастову, младенца Александра – кормилице. Съехал со двора, не оглянувшись. Лошади проваливались в талый снег. Дорога голубела мартовскими лужами.
Экзамент царю сдал в Воронеже, на верфи. На стапеле, под благовест топоров, падала, извивалась стружка, будто серпантин на пьяцца Сан-Марко. Видела бы Франческа своего кавалера, волосатого сквернослова, лезущего с кулаками на вора-интенданта, на подрядчика-прощелыгу, на недотепу, сломавшего пилу!
«При том свидетельстве наук, – записал Куракин в дневнике, – некоторое счастье я себе видел от его величества и от всех не так стал быть прием, как прежде того».
Летом Борис провел свой корабль донским путем к Азову. Однако идти в атаку ему не довелось.
Послы России, Польши, Венеции, цесарской земли, встретившиеся в сербском городе Карловац с дипломатами турецкими, подписали перемирие. На юго-востоке Европы война прекратилась.
А Петру перемирия мало, нужен прочный мир с султаном. Полная нужна безопасность в южных пределах.
8 августа 1700 года русское посольство, отбывшее в Константинополь на корабле «Крепость», известило царя: с Портой заключен мир на тридцать лет.
На другой день Петр двинул армию в поход. Полки шагали из Москвы на северо-запад, волоча за собой обоз из десяти тысяч телег.
То, что знали лишь Петр и ближние люди, совещавшиеся на пути из Вены с потентатом Польши и Саксонии Августом, предстало въяве.
Навтичная служба Куракина в Азове завершилась. Снова в инфантерии, в полку Семеновском, в прежнем градусе поручика. Что сулят астры? Перед тем как сняться, вопрошал их, да, верно, от волненья напутал в расчетах – отвечали светила невнятно, будто смущенные дерзостью царя Петра. Шутка ли – решил добывать море у короны свейской!
20
Москва, год 1705-й.
Плотно сдвинуты рогатки на улицах, нет хода ни конному, ни пешему. Час поздний, запретный.
Чу, вызванивает часы басовитый колокол Ивана Великого! Свалился с крыши снежный нарост, подмытый февральской оттепелью. С чего-то залились собаки на боярской псарне…
Сон Белокаменной крепок.
Не разбудит ее и сорочий грай трещоток. Ночные погони привычны. Людей, непослушных указу, лихих полунощников, болтается повсюду много.
Через Китай-город, от пристаней, вмерзших в лед, пробрались двое. Застава заметила. Один, ловкий, как дьявол, ускользнул. Другого прижали к стене у Иверских ворот, помяли и отвели в Преображенский приказ.
Гулящий дерзил, хорохорился, пока палач прикручивал его к дыбе, ноги – к нижнему бревну, руки, связанные сзади, – к верхнему.
– Зовут Зовуткой. Где был, там след простыл.
– Да ты прибауточник, – усмехнулся дьяк Фалалеев. – Давай, распотешь нас.
Дьяк успел поседеть на живодерной своей службе. Ломал всяких людишек: непокорных стрельцов, лукавых юродивых, сеявших смуту, злоязычных кликуш, делателей фальшивой монеты. Этот смирится скоро. Огрызается, а сам дрожит от страха.
Вялой мясистой рукой подал знак палачу. Бродяга захлебнулся криком.
Савка он, Савка, сын Харитонов, родом из-под Рязани, помещика Логинова крестьянин. Бежал из деревни, дабы спастись от набора в армию.
– Нехорошо, голубь. Вон какой богатырь! Царское войско без тебя воюет.
Молодой, смешливый секретарь фыркает. Нечего сказать, богатырь! Кащей, ребра выпирают…
Савка скрипнул зубами:
– Царское? Где он, царь? Нет царя.
– Нет? – изумился дьяк. – Господи, вот беда! Кто же сказал тебе? Товарищ твой поди…
Что Савка появился в Москве не один, дьяк осведомлен. Караульщики гнали двоих. Тот вывернулся. Уже совсем настигли, дубиной достали разок. А дубины у караульщиков увесистые. Ума не приложить, куда делся…
– Никого не было со мной, никого, – скулит Савка. – О-ох, господи! Никого, вот те крест! О-о-ой!
Покачиваясь на коротких ногах, разминаясь, палач отошел к стене, снял кнут, передумал, повесил обратно. Пошептал что-то про себя, будто молитву сотворил. Выбрал, погладил рукоятку. Опять зашептал, нацелился из-под густых лешачьих бровей, вытянул Савку по спине.
– О-ой, черт безглазый!
Секретарь в ожидании дела развлекался, разукрашивал свое посланье, удлинял и закручивал лапы заглавных букв.
Спина пытаемого искровавлена. Палач плещет на него холодной воды из ковша, выводит из обморока. Дыба ослаблена. Дьяк схватил упрямца за волосы, намотал прядь на пальцы:
– С кем шел, сучий сын?
Савка издал звуки еле слышные, мешавшиеся с сопеньем и клокотаньем; палач, притомившись, пил воду.
– С Феок… с Феоктистом…
– Ну-ка, погромче! Голосок-то больно чахлый. Застудил, что ли?
В Павловском посаде, у кабака встретил его Савка. Странник, божий человек, праведный. Был, говорит, во Владимире, в монастыре лампадником. Прошлым великим постом спустился в подвал взять масла для лампад, и вдруг из-за бочки взвилось облако и возник архистратиг Михаил с огненным мечом. Велел бросить дом, жену и детей, спасать душу в скитаниях.
«Тот Феоктист сказывал – послан он в Москву от царицы Евдокии с наказом».
Названо, записано имя сосланной царской супруги. С этой минуты дело приобретает особую, грозную значительность. Савку не скоро снимут с дыбы.
Что за наказ? Кому?
Лампадник и намеком не выдал, чего домогается Евдокия. Сказал только, живет она в монастыре вольно, в келье царское платье носит не по уставу, ездит по окрестным храмам, принимает подношения – ягоды, грибы и прочие гостинцы.
«И от многих имеет ришпект, яко особа высочайшая».
Секретарю надлежит класть пытошную речь на бумагу в точности, но чересчур велика охота вставить иностранное слово, – не напрасно ведь учился полтора года в Славяно-греко-латинской академии.
Палач отдыхает, Савка, косясь на него, пересказывает слова Феоктиста, странника благочестивого, не скрывая злорадства.
Указ ей нипочем. Я, говорит, подотрусь указом. Опасаться ей некого, царя Петра в России нет. На престоле Антихрист ныне. Царь у шведов сидит, пленный. В темнице сидит, в Стекольном.
– Стокгольм же, – выдохнул писец, рьяный и прегордый собой грамотей. Ох, сколько невежества мужичьего остается на бумаге на веки вечные!
– Хорош твой лампадник! – басит дьяк. – Он-то небось ликует. Беду-то со своей башки отвел, тебя, недоумка, подбросил. Смекаешь? Ну с какой стати ты увязался за ним, за поганцем?
В Москве, сказывал Феоктист, есть боярский двор, где странникам всегда рады. Накормят досыта, одарят, спать уложат на перине, не на соломке. Искать там беглого-перехожего не станут, боярин милостивый, роду знатнейшего, перечить ему никто не смеет.
– Ишь ты, на перинку потянуло! Имечко нам нужно, милый. Имечко боярина.
Палач встал на нижнее бревно, подпрыгнул. Савкины ноги вытянулись, весь он стал нечеловечески длинным – стонущая струна в зыбком полумраке застенка. Родовитый боярин, богатый, добрый, а больше ничего не сказал Феоктист, не сказал, пес паскудный.
Дьяку видится лицо Авраама Лопухина, то злое, то нарочито смиренное, будто подернутое маслом. Многие бояре царя так не чтут, как его. Кого похочет обвинить – обвинят, кого со службы прогнать – прогонят. Верно, у него, у родного брата Евдокии, приютился лампадник, если жив. Скрытен боярин, осторожен, ждет своего часа, чтобы отомстить за сестру, отлученную от царского ложа и от порфиры. И за отца – тоже опального, удаленного в Тотьму. Известно, друзей царя Петра среди Лопухиных не найдется. Дьяк Фалалеев, преданный слуга государства, охотно нарушил бы сон важного барина. Без всяких политесов перешерстил бы его подопечных. Нельзя! Дом Авраама, обнесенный толстой бревенчатой стеной, стоит в Китай-городе, словно крепость. Вряд ли кто решится его штурмовать.
Есть в Белокаменной еще люди, близкие царице. Недавно вернулся с войны князь Борис Куракин, шурин Авраама. Царевичу Алексею князь приходится дядей. Хотя княгиня Ксения умерла и Куракин женат на другой, узы с лопухинским семейством не оборвались.
Как знать, может, и Куракин готов принять нарочного от Евдокии…
Однако и к нему ломиться ночью не след. Вообще теребить князей-бояр по чину лишь Ромодановскому, главе Преображенского приказа. Добывать лампадника – его забота.
Рассудив так, Фалалеев дал Савке малую передышку, а затем велел палачу зажечь веник и поласкать Савку всего, без поспешности.
Второй раз и третий повторил Савка сказанное. Фалалеев от инструкции не отступит. Показания сличаются, и если кто «речи переменит, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет».
Савку растягивали, Савку лупили, огнем жгли, никаких поблажек не дал ревностный дьяк.
Приговор над Савкой гласил: понеже он, слыша клевету и хулу на царскую особу, вору Феоктисту доверился, «слово и дело» не заявил, бить его, Савку, кнутом и определить на государевы работы.
Куда закинула его судьба – добывать ли руду, строить корабли, лес пилить или воздвигать дома в устье Невы, где поднимается город Санкт-Петербург? Листы розыскного дела этого не сообщают.
А Феоктиста в ту ночь так и не нашли.
21
Борис Куракин вернулся домой пешим строем, под знаменами Семеновского полка.
Стяги сии ныне плещут победно.
Пять лет нового века, пять лет войны за плечами офицера. Все это время Солнце, Меркурий и Юпитер заботу о нем не прекращали. Сохранили в первом бою под Нарвой, где, как он записал потом с горечью, «несчастье великое было, шведский король всех отбил, артиллерию и обоз все взял».
Не дали астры утонуть в Ладожском озере, под Шлиссельбургом, когда доставлял лестницы для штурма. Озеро бушевало, лестницы тяжелые, громоздкие. «И в тех переездах с берега на берег в лодке видел некоторый немалый страх».
Уцелел и при взятии Ниеншанца, как ни ярилась смерть вокруг, – ведь Куракин, вооружив солдат лопатами, ставил первые шанцы, вплотную к городу, тем раздразнив шведов донельзя.
«Стрельба была великая, и многих побивали, инженера того, который с нами был послан для той работы, перед светом убили».
И во второй нарвской баталии, счастливой, сберегли божественные астры любимца своего, устремившегося на штурм с передовым отрядом.
«И в ту пору видел некоторое немалое к себе счастье, хотя и при смертном часу был, и от его величества некоторый амор видел, также и от губернатора».
Перо запнулось, не назвало имя сего последнего – Алексашки Меншикова. Обласканного царем свыше всякой меры, губернатора завоеванной Ингерманландии… Он же, князь Куракин, дослужился за пять жестоких лет до градуса майора. И то, говорят, роскошно. Ведь сам царь – звездный брат – покамест полковник.
Никому не догнать пирожника…
Шагая из-под Нарвы, Борис сменил стоптанные вдрызг сапоги на лапти, а оные на валенки. Выступали осенью, а достигли Белокаменной в декабре. Слякоть, мокрота, студеные ветры, морозы вредили слабому здоровью князя. Астры – низкий им поклон – радели неизменно. Довели страждущего, раздираемого мучительным кашлем, до родимых палат.
Кормилица Харитина жалела Бориса навзрыд: бледен, спал с лица, извелся. Где куракинский пригожий румянец? С упреком помянула княгиню Марью, ей бы встретить мужа, а она опять в отлучке.
– Умчалась, слова не обронила. А князенька в холодную постель ложись…
Быть бы Франческе хозяйкой… Увы! Сам царь не посмел обвенчаться с иноземкой.
Не токмо постель – весь дом без амора холоден. Утешайся тем, что жена у тебя из фамилии Урусовых, доброй фамилии, древней. Что грамотна, даже весьма грамотна – счета блюдет строго, всех приказчиков, всех старост держит в страхе.
Радуйся тому, что при ней нашлись деньги на живописца. Однако ход небесных светил заказать не пожелала. На потолке столовой палаты реют ангелы. Борис, находясь прошлой зимой на побывке, огорчился:
– Не часовня же!
– Эка умный! У меня митрополит кушает.
– Обедню не поет все же, – возразил Борис.
– Мало ли что. Я у него пустошь сторговала.
А то и ответом не удостоит, только подожмет губы. Ссориться Борису неохота.
Тощая, шастает длинными ногами… Рук не разгибает, топырит острые локти. Слуги пробегают пугливо, будто лед хрупкий в покоях вместо пола. Княгиня не кричит, не бранится. Бьет молча, метко – резнет плеткой по щеке и глаза не заденет. Досталось за что-то и Харитине.
– Старуху-то не трогала бы, – сказал Борис, заметив у той шрам.
Вскинула локти, вышла. Борис догнал, двинул между лопаток. Потом отделился от супруги, заперся в башне, в шестигранной своей светелке.
Устроился там и сейчас. Спит на походной кровати, как царь Петр, звездный брат. В головах глобус, истертый перстами, в ногах сундук с книгами. Снова со страниц сонетов Петрарковых дыхание Франчески.
Детям в светелке отрадно. Приходят тихие, в рот воды набравши, – мать громкого смеха, шумных игр не терпит. Трехлетняя Катеринка – от новой жены – наворачивает на себя майорскую накидку отца, катается по ковру. Беленькая, круглолицая, уродилась неведомо в кого. Александра заворожила шпага отца, неймется вытащить из ножен, потрогать.
Какой он породы – куракинской или лопухинской? «Выпуклый лоб – мой, – решил Борис. – А карие глаза от Ксении».
Уж девять лет сыну. Читает бойко, до всего любопытен. Обкусанным ногтем тычет, крутя земную сферу, в разные страны и столицы.
– Которая страна, – спрашивает отец, – в недавних годах отыскана?
– Америка. Вон она!
– А где великаны живут, в три сажени ростом? Мураши с теленка? Жены летучие?
Смеется. «Александрию» – про тезку своего – не читал. Не сказок хочет от отца – покажи ему воинские артикулы! Борис заказал сыну семеновский кафтанчик, для экзерсиса приставил Федора.
– Война еще долго будет?
– Глупый ты… Долго, без тебя не кончится.
– Ты правду скажи!
Конца воистину не видно. Две войны раздирают, топчут Европу.
На западе схватились короли старые, соперники исконные – Людовик и Леопольд. У цесаря союзники – голландцы, англичане, пруссаки – сила необозримая, наседает на французов и испанцев на суше и на море. Баталии окончательной пока нет.
И на востоке европском гистория еще не решила – быть или не быть империи Свейской, захватившей земли прибалтийские, бранденбургские, проникшей ныне мечом своим в Польшу. Быть или не быть России державой могучей, удержит ли она выходы к морю, пробитые у Нарвы, в устье Невы, или напрасны были труды и потери и великие пережитые страхи?
Северные потентаты молодые, начальствуют в войсках сами. Давно ли Карл забавлялся во дворце тем, что рубил саблей свиней и баранов, лил кровь скотскую на ковры, на полы наборные? А саксонец Август, сгибающий, подобно Петру Алексеевичу, пальцами подкову, отличался в Мадриде на бое быков, яко ловкий убивец. Венценосцы отчаянные, упорные ведут сию войну.
Положим, Август, лихой в потехах, стратегом оказался слабым. Битый шведами постоянно, упал духом, кажет противнику зад. Того гляди, и саксонскую корону бросит к ногам Карла. Польскую уже потерял. В Варшаве шведы посадили на престол Станислава Лещинского, многие паны уже изъявили ему послушание.
Карла виктории русские куража не лишили, вести о взятии его крепостей принимает, как говорят, со смехом – мол, отлично, пускай подержат, потом все равно возвратят!
Да мало ли что говорят… Борис исправно посылает Губастова за «Ведомостями» – купец в суконном ряду продает листки, напечатанные славянскими литерами, по денежке за штуку. Сколь можно судить, кампания в Польше протекает в столкновениях мелких, движение полков рисует арабески непонятные. Постигнуть намерения царя невозможно.
Астры – свидетели небесные! Доступен ли вашему взору исход войны?
Ответа ясного Борис от них не получил. Гибели ни ему, ни царскому величеству звезды не предрекают.
И то хорошо.