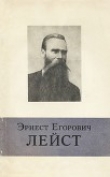Текст книги "Державы Российской посол"
Автор книги: Владимир Дружинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)
– Я прежде всего шотландец, – оборвал Гордон.
Шатер сотрясался от небывалого ветра. Сухо постукивали, соприкасаясь, две татарские стрелы, застрявшие в трехслойном складчатом своде.
– Вы поняли меня? Я не грехом, а добродетелью сочту объявить царю правду. Я бесконечно ему обязан. Царь открыл ворота для изгнанников. Я застрелю, сам, своей рукой застрелю шотландца, который изменит царю, пусть этот негодяй окажется одного со мною клана. Вы поняли? Не грозите мне, не смейте грозить!
На этом Гордон закончил разговор с Броджио. В тот же вечер в саманной, притулившейся за косогором избушке, где квартировал великий бомбардир, судили и рядили, как поступить с иезуитом.
Спора нет, терпеть притворщика нельзя. Однако выдворить надо политично, не обидеть цесаря и папу.
– Так и напишем: прогнали за вранье, – сказал Петр, покусывая ус. – Коль иезуит, то, стало быть, лазутчик.
Лефорт оторвался от созерцания ногтей, не утративших и здесь превосходной чистоты и блеска.
– Пройдоха внушал мне подозрения с первого дня. Папа неразборчив в средствах.
Гордон посмотрел на язвительного кальвиниста с неодобрением.
– Не берусь возводить вину на особу его святейшества, – сказал он раздельно.
Пили мальвазию – остуженную, из кувшина, врытого в землю. Разливал, ставил на стол серебряные кубки Меншиков. При собрании он обычно помалкивал, стеснялся громогласного, злого на язык Гордона. А тут осмелел:
– Астролябию обратно не отдавай, мин херц. Жалко ведь.
Царь засмеялся, толкнул Алексашку, отчего тот отлетел в угол. Шутливый совет пришелся кстати, облегчил тяжесть, давившую всех. Армия задыхалась, истекала кровью, упершись в ненавистные рыжие стены Азова.
Решили иезуита из лагеря выслать. Через пять дней отправятся порожние струги в Воронеж, за припасами, – пускай едет, попутный ветер ему в зад. Дать ему провожатого, чтобы не свернул самовольно с пути. Чего доброго, проскользнет на гетманщину, ввяжется в тамошние распри.
Лефорт рассказал к случаю, как проучили иезуитов в Испании. Надлежала к ним прибыть посылка из Рима – ящик со слитками золота, в бумагах обозначенными как шоколад. Испанская таможня, однако, проверила. Золото задержали и положили шоколаду – нате, ешьте на здоровье.
Не избежал бы кары Броджио, кабы не приключилась в ту ночь беда. Утек к туркам голландец Янсен, продался басурманам, пренебрег, мерзавец, царской дружбой. Теперь жди пакостей! И точно, негодяй указал азовцам и направление удара, и час подходящий – послеполуденный, время отдыха.
Броджио при сих заботах был забыт.
Нападение турок и тяжелый бой описаны Куракиным в дневнике подробно, ибо для него происшествие окончилось счастливо.
Избрав для взлома позицию, занятую стрельцами – вояками наименее стойкими, – враги «вырубили шанцы аж до самого обозу и артиллерию тягостную заклепали, а девять пушек полковых повезли в город. И на выручку того посланы были полки от генерала Гордона стрелецкие, в том же числе и нашего Семеновского половину полка, в которых ротах и я со знаменем белым был, от первой роты своего регимента, на которой вылазке в бою, аж до самого вечера, то у меня в руках знамя пробили с города два раза из пушки, и мне кафтан под левую пазуху прострелили и рубашку, только что мало тела не захватили. И на той вылазке Семеновский полк первое слово зажил, что добрые солдаты».
И сам прапорщик, удержавший знамя – двуглавого орла, шитого серебром на белом полотнище, – был удостоен царской похвалы.
– Цепок наш Мышелов, – смеялся Петр, наливая Борису чарку.
А поручик на себя дивился, ведь, кажись, не он, а другой кто-то, могучий, бесстрашный, исполненный ярости, устремился в гущу схватки со знаменем в левой руке, с палашом в правой. Отсек ухо рябому полуголому янычару, повернулся, сбил занесенную палицу, затем погнался за отступавшими, колол в спины, размахивал прапором, проваливался в траншементы и выскакивал, прыгал через мертвых.
Осушив чарку, прапорщик Куракин, впервые отличившийся на марсовом поле, посмел выложить царю наболевшее.
– Чужестранцев поубавить бы надо. Войско серчает, вор Якушка чуть не погубил нас.
– Стрельцы на турка серчали бы шибче, – ввязался Меншиков, вынырнув из табачной мглы, затопившей царскую квартиру.
– Не токмо стрельцы, – уронил упрямо Борис, не глядя на настырного пирожника.
– Тебя, что ли, в инженеры возьму? – спросил Петр в упор. – Или тебя? – прибавил, поворотясь к Алексашке.
Царю все едино – князь или пирожник… Борису стало не по себе.
– Попытаюсь, мин херц, – фыркнул тот.
– Твоя милость, – и Куракин смерил взглядом Меншикова, – еще и букваря не касалась перстами.
Хитрец будто недослышал. Чтобы не досаждать царю мелкой сварой, великодушно поддержал Куракина:
– Иноземцев, и правда, многовато. Кто дары приносит злонамеренно? Забыл я твою поговорку, мин херц. Князь подскажет.
Князь молчал, растерявшись. Меншиков возгласил с торжеством, подмигнув царю:
– Данайцы, херц мой сердешный. Бойся данайцев! Какой они земли – немецкой, что ли?
Алексашка ухмылялся дурашливо, тараторил, отвращал от царя приступ недуга, злой трясовицы.
– Якушку со дна моря достану, – громыхнул великий бомбардир. – Собакам брошу.
– Не жрут собаки падаль, херцхен. Так какого они роду-племени, данайцы?
– Греческого, – отмахнулся Петр, повеселев.
На обратном пути в полк попался Борису офицер-семеновец, крикнул что-то и заспешил дальше, прижимая локтем некую черную ветошь.
Меншиков принял скатку, развернул духовное облачение католическое, тяжелое от крови, продырявленное на груди и на животе.
– Тощий, а кровищи-то, – сказал офицер.
Подобрали сутану у развороченных шанцев. Зашли в палатку иезуита – пусто. Не иначе, турок польстился, содрал одежду с убитого, ощупал, не зашито ли золото. Вон и подкладка распорота.
Во мнении католиков, состоящих в войске, Броджио воссиял яко угодник божий, павший смертью мученика. Объявились свидетели. Иезуит – утверждали они – стрелял из пистолета, а истратив заряды, не убоялся и рукопашной. Одному неверному разбил башку крестом.
Верующие выпросили себе облачение рыцаря церкви, повесили в походной часовне.
4
Минарет обрублен ядром, словно саблей. Саманные домишки развалились. Камышовые их остовы наводили тоску на Броджио скелетной своей обнаженностью. Немногие строения уцелели в каменном кольце крепости Казы-Кермен, взятой войсками Мазепы.
Четверо суток почти без передышки палили пушки гетмана столь метко, что янычарам редко удавалось отворять амбразуры и стрелять ответно. Дорогу штурмующим проделал взрыв искусно заложенной мины. От нее взлетел на воздух пороховой погреб и пошел лютовать по городку пожар.
Другие две крепостцы, сторожившие на Днепре границу Крымского ханства, сдались без боя. Обращены в руины гнезда супостатов, испокон века терзавших набегами Южную Русь.
Похвальная царская грамота сполна воздает должное полководческому таланту Мазепы. Гетман весел, милостив. Однако владыка Малороссии не сразу допустил к себе приезжего иезуита. Велел кормить и поить, приставил для услуг стрельца. Верзила со старинным тяжеленным копьем чуть ли не безотлучно околачивается возле палатки.
Стало быть, пан гетман приглядывается к гостю. Что ж, и он не теряет времени, благо никто не запрещает бродить по городку, наблюдать.
Не секрет для Броджио: гетман принимал кое-кого с правого, польского, берега Днепра и, вероятно, не всегда сообщал об этих визитах в Москву.
Имеются сведения, что ставку гетмана навещает красивая титулованная дама…
Посланец, пригласивший Броджио на высокую аудиенцию, пришел поздно вечером – нежнолицый, бледный юноша из хора. Едко дымили костры под мелким дождем. Чесночным духом несло из котлов. Юноша почти бежал, ведя монаха задворками, по рытвинам.
В доме казы-керменского бея, ставшем гетманской резиденцией, все на польский лад. Мерцают развешанные в изобилии сабли, чеканные блюда с гордыми латниками, с гербами. Унизанные бисером короткие курточки слуг – по варшавской моде. Быстрые поклоны, четкий стук каблуков, – в России не умеют так муштровать челядь.
Броджио увидел человека невысокого роста, стоявшего спиной к нему перед живописным полотном. Гетман обернулся. Блеснул золотой крест, крученый пояс с блестками пересекал струйку пуговиц, ниспадавшую по длинной свитке. Острые клычки седеющих усов, маленький, недоразвитый, будто вдавленный подбородок. Странные существа – женщины! Чем может привлечь эта заурядная внешность?
– Я хочу знать ваше мнение. – И в Элиаса вонзились цепкие черные глаза. – Вот, вытащили из подвала… Здешний бей не побоялся гнева аллаха, хранил искусство, запретное для мусульманина. Хранил тайком, грабитель. Верно, надеялся продать панам через какого-нибудь ловкого торгаша. Что вы скажете, патер Броджио?
Венера, возникшая из раковины, слегка наклонила голову, словно прислушиваясь. Монах для приличия потупился.
– Вы сведущи во многих областях, патер Броджио. Вы долго жили в Италии.
Броджио смутился. Он почему-то чувствует себя столь же бесстыдно оголенным перед гетманом, как и языческая богиня. Рухнули все слова, заготовленные для встречи.
– Впрочем, прежде всего меня интересует здоровье моего друга, царского величества.
Да, гетман не нуждается в объяснениях. Он знает, кто пришел к нему и откуда.
– Его величество здоров, – поспешил ответить Элиас. – К великому сожалению, злая ложь, распространяемая врагами нашего братства, проникла и в Московию. Мне предстояло изгнание, когда внезапно…
Провидение предоставило случай сразиться с неверными, пролить кровь за богоугодное дело, а затем позволило бежать из турецкого плена. Добрые люди приютили скитальца, и теперь, исцеленный и окрепший, он – на пути в Рим, к престолу святейшего. Пусть ясновельможный простит. Слишком силен был соблазн посетить знатного властителя Украины.
Все это Броджио выложил не переводя дыхания, так как Мазепа слушал нетерпеливо.
– Итак, падре, как вам нравится картина?
Элиасу запомнился подлинник «Рождения Венеры», хранящийся во Флоренции. Очевидно, налицо копия, хотя и выполненная весьма недурно.
– Благодарение богу, турки так далеко не протянули лапы. Здешний бей – старый вояка, грабил, должно быть, венецианцев, далматинцев. Мы посмотрим, падре, чего стоит вообще добыча разбойника.
Мазепа ударил в гонг. Засуетились слуги, внося в комнату картины, грубо содранные с рам, расправляли полотна на полу, прижимали ножкой стула, кресла, подсвечником. Реяли в лазоревом сиянии ангелы, алели кардинальские мантии, клубились темные леса, брели в Вифлеем волхвы, яростный Геркулес поражал дубиной Гидру.
Шедевры искусства, безупречная польская речь гетмана – какое вторжение цивилизации в дикую степь!
– Насколько я способен определить, ваша светлость, тут есть и подлинные творения. Некоторые достойны украсить ваш дворец в Батурине.
– Помилуйте, падре, – поморщился Мазепа. – От них воняет воровским логовом. Картины поступают в казну гетманства. Я не из корысти бросаю в пекло моих казаков.
«Ты просто рисуешься, высокородный пан, – подумал Броджио. – Запах военной добычи никому еще не претил».
– Ваша светлость! – воскликнул он с негодованием. – Мысль о корысти была бы кощунственна. Благослови бог ваших храбрых казаков!
Коренастый, обритый наголо парубок, разложивший последний сверток полотен, двинулся вперевалку к двери. Броджио подгонял его, упершись взглядом в широкий затылок. Наконец-то убрался!
– Ваша война священна, пан гетман, и христианский мир ждет от вас многого. И не только тех побед, кои достигаются оружием.
Пора, пока нет посторонних ушей, коснуться важного. Иезуит заговорил о союзе церквей, о великом духовном авантаже этого начинания, поощряемого самим папой. Мазепа слушал, не отрываясь от созерцания пейзажа, простертого у его ног. Среди тосканских холмов, усеянных серебристыми хохолками олив, желтел, сверкал, вскидывал искры фейерверка несуществующий замок – весь на плечах согбенных, насупленных кариатид.
– Вы имели оказию, – сказал гетман с докукой, – обратиться к царскому величеству. Что он вам ответил?
Элиас вздохнул.
– Он обещал посоветоваться с архиепископом Кокуя и еще… Яузы, если я правильно помню. Надо полагать, изволил шутить.
– Конечно. Война, падре, война. Она поглощает все внимание царя. Что же вам угодно от меня?
– Ваша светлость – вторая особа после царя, – произнес иезуит, собравшись с духом. Лесть грубая, но для лучшего ознакомления с собеседником бывает полезна.
– Я подданный моего государя.
Свечи оплывали, капля воска обозначалась на щеке мадонны, другая – на бедре Геракла. Кажется, разговор окончен. Пожелание счастливого пути – вот все, что остается услышать от непроницаемого казацкого вождя. Он повторяет одно и то же, но ворота держит открытыми.
Мазепа похаживал среди картин.
– Согласились бы вы, – раздалось вдруг, – взять на себя небольшой труд? Для коллекции нужен реестр. Все равно в Киев трогаться сейчас опасно – крымцы шалят.
Вот благотворный поворот событий! Броджио согласился до неприличия поспешно.
Неделю спустя он сообщил Риму, что имеет доступ в личные апартаменты Мазепы. Вновь и вновь прощупывает почву для сближения, но до сих пор не почерпнул определенных надежд. Гетман скрытен и осторожен.
5
Среди лиц, окружавших гетмана, одно было томительно знакомо. Молодой человек по-своему красив и выделяется из числа адъютантов Мазепы изяществом и изысканными манерами. Говорит по-польски с большей свободой, чем по-украински. Дерзко очерченный рот и назойливые глаза напоминают фавна из мифологической сцены, жаждущего всех жизненных утех. Но нет же, не на полотне художника встречал Броджио этого холеного панича! В Варшаве? В Праге?
Крови он, несомненно, славянской, о чем заявляют его скулы – весьма приметные, когда панич чем-нибудь недоволен…
– Казимеж Свентковский к услугам вашего преподобия, – представился он иезуиту, непринужденно шаркнув ножкой.
И вдруг…
Года четыре назад это было. Князь Дульский с супругой приехал в Варшаву из имения определить сына в иезуитскую коллегию, где Броджио преподавал риторику. Он видел их мельком. О князе был немало наслышан впоследствии. Дульский даже среди взбалмошных польских магнатов слыл полусумасшедшим: у себя во дворце на Подолии он расставил вместо мебели седла, деревянных лошадок, разостлал попоны. Непомерная страсть к лошадям соединялась с набожностью – князь строил церкви, созывал на обед толпы нищих, но давал им длинные ложки, что обязывало их кормить друг друга, укрепляло любовь к ближнему.
Итак, княгиня Анна… Открытие несомненно важное, оно вкладывает в руки власть. Улучив удобный момент, иезуит остановил адъютанта.
– Тысяча извинений, вельможный пан…
Не угодно ли ему взглянуть на произведение итальянского мастера? Гетман возложил трудную задачу. Неловко, опрометчиво полагаться только на собственный вкус.
На лице «фавна» изобразилось любопытство. Броджио слегка сжал упругий локоть, повел адъютанта к картинам.
– Как поживает ваш сын? – произнес иезуит, плотно закрыв дверь. – Он у нас недурно успевал в науках.
– Сын?
– Ваш сын, княгиня, – сказал Броджио сокрушенно и с укором.
Притворщица смешалась лишь на мгновение.
– Так вы из варшавской коллегии? Вот неожиданная встреча, досточтимый аббат!
– О боже! – простонал иезуит. – Спаси заблудшую душу! Неужели вы не отдаете себе отчета, княгиня, насколько безрассудно ваше поведение?
– Почему? – и плечи под щегольским, туго стянутым в талии кунтушом чуть поднялись. – Мой муж два месяца назад умер. Я вправе распоряжаться собой, дорогой аббат. Кого мне бояться?
– Гнева всевышнего, княгиня, – сказал Броджио не совсем уверенно. Новость о смерти князя обескуражила его.
– Фу, перестаньте!
Дульская откровенно по-женски зажала ладонями уши. Элиас стоял, ошеломленный метаморфозой. Куда делась выправка расторопного адъютанта? Светская прелестница, покинувшая звонкий, топочущий, озорной маскарад, чтобы перевести дух…
– Негодный! Не смотрите на меня, как сыч!
Потом голос стал суше, строже – княгиня вернулась в свою мужскую роль. Для пана аббата прямая выгода – молчать. Он не встречал в Казы-Кермене Анну Дульскую. Между прочим, ему не пристало насаждать добродетель…
– Я не осуждаю вас, аббат. Вы выполняли свой долг, исповедуя служанку, не так ли? Но общество, аббат, общество… Оно скорее простит мне, слабой женщине.
Элиас только что предвкушал победу, ощущал ее почти физически: вот жертва натягивает сеть, беспомощно бьется… И тем острее боль неудачи.
– Распущенность вашего общества известна, – сказал иезуит с обидой.
Быть по сему, он не видел Дульскую. И не увидит. Для чего нужна ему любовница Мазепы, его прихоть, одна из многих?
– Ну-ну, не надо ссориться… Поймите, аббат! Что мне остается? Снова обвенчаться с каким-нибудь маньяком или ничтожеством?
Ого, коронный гетман Дульский для нее – ничтожество! Броджио постепенно освобождался от досады, затемнившей рассудок.
– Время великих людей прошло, – процедил он, бродя взглядом по картинам.
– Я верю в Яна, – услышал Элиас. Его обступили апостолы, витязи, Геракл занес палицу над Гидрой, святой Георгий вонзил копье в дракона.
Дульская понизила голос до шепота. Мазепа, ее Ян, должен вернуться в Варшаву. Там безлюдье, он даровитее любого из панов, которые рвутся к короне. Жаль, невыразимо жаль, что он не удержался при дворе в молодости. Но еще не поздно…
– О, чрезвычайно трогательно, – улыбнулся Броджио. – Вельможная пани возлагает на своего избранника королевскую мантию. Я преклоняюсь…
В отместку он посмеется над провинциалкой, теряющей рассудок от страсти.
– Перестаньте, падре! – оборвала она. – Яну не место здесь, при царе, вот о чем речь. Это ужасный край. Проще взять город, чем подчинить собственных полковников. Каждый невежественный казак, добившийся чинов, воображает себя королем… Ян должен быть в Варшаве, должен, должен. Ян – славное имя в Польше. Это не случайно, это указание свыше…
– Осмелюсь заметить, имя не редкое в Польше.
Она продолжала, как бы не уловив иронии. Что может дать Мазепе царь? Стоит султану двинуть крупные силы, как от России полетит пух. Петр – мальчишка… Царь не может даже сделать Мазепу князем, это зависит только от императора. А княжеский титул – большое подспорье…
Броджио забавлялся.
– Не сомневаюсь, вы серьезный противник за карточным столом… Но сфера политики…
– Я урожденная Вишневецкая, – раздался ответ. – Никто не служил короне польской более преданно, чем мы.
Охота издеваться у Броджио иссякла. Он вбирал значение сказанного, глядя на Дульскую, глядя на полотна, раскинутые за ее спиной, – просторы равнин, плодоносящих садов, громады замков в оправе вековых деревьев.
За окном, в полусожженном Казы-Кермене, выла собака. Горький степной ветер, настоянный на полыни, заносил чье-то пьяное бормотанье, чью-то ругань. А здесь, в зарницах свечей, в дымной мгле лежала целая страна, сотворенная живописцами, страна, преисполненная богатства, роскоши и словно павшая к ногам. Дорогие доспехи, королевский горностай, киноварь кардинальских облачений – все свалено вперемешку. Хоть топчи, колоти каблуками… Земное великолепие, коего он, Элиас Броджио, сын священника из южнотирольского захолустья, должен добиваться хитростью, цепляясь за тех, кому приготовлено все ко дню появления на свет.
Э, милостивый гетман, Вишневецкая тебе не игрушка! Не служанка, которую ты можешь подсунуть гостю… Иезуит отвернулся, в нем клокотал злорадный смех.
– Ян говорил мне о вас. Соединение церквей – это счастье, милый аббат.
Еще бы, греческая вера мешает ненаглядному Яну! Отлично, княгиня, заключим союз.
– Торопить гетмана не следует, ваша светлость. Мягкость и терпение! Вы женщина, так будьте женщиной и в этом предприятии.
Довольный собой, он обретал тон старшего, тон наставника.
Мысленно он входил во дворец Вишневецких, в парадные двери, радушно распахнутые. Знатнейшая фамилия Польши, необозримые земли, разделенные ныне границей двух государств. Михал Вишневецкий – великий гетман в Литве, Константин – воевода бельзский, Януш, кажется, в Кракове… Конечно же, им всем непереносимо русское подданство казацкого левобережья. Все они играют крупно – в карты и в политике. Если Анна – истинная Вишневецкая…
Оставшись один, он не смог приняться за работу. Забывшись, рисовал в тетради короны, геральдических львов, единорогов, грифов. Над картинами, в накатах свечного сияния, парили вельможи церкви, граф Кинский, император. Они благодарны ему – Элиасу Броджио – за успешное завершение деликатной миссии.
Неразумно, однако, исчислять урожай, не дождавшись всходов. Элиас лишний раз убедился в этом на следующий день, когда Мазепа сказал ему доверительно, с жирным смешком:
– Прилипла баба, спасенья нет. Скорей бы убралась!