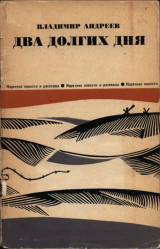
Текст книги "Два долгих дня"
Автор книги: Владимир Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
15
 Селезнев подсчитывает боезапас. Патрон за патроном процеживает он сквозь свои огрубелые, узловатые пальцы. Один пулеметный диск и тридцать два патрона россыпью, четыре гранаты… Да вот еще бутылки. «На сколько этого хватит? На полчаса – не больше…» – думает Селезнев, соображая, как ему поступить сейчас, пока ночь, пока немцы молчат.
Селезнев подсчитывает боезапас. Патрон за патроном процеживает он сквозь свои огрубелые, узловатые пальцы. Один пулеметный диск и тридцать два патрона россыпью, четыре гранаты… Да вот еще бутылки. «На сколько этого хватит? На полчаса – не больше…» – думает Селезнев, соображая, как ему поступить сейчас, пока ночь, пока немцы молчат.
«А может, из полка подошлют к нам кого-нибудь, принесут патроны и гранаты. Нас же теперь осталось двое, Тарабрина надо в санбат…» Селезнев косится в сторону переправы и говорит Симоненко таким тоном, будто речь идет о самых обыкновенных вещах:
– Отдохни, Симоненко, теперь до рассвета нас не тронут… Не полезет он ночью…
– Ребят бы надо похоронить, – отвечает глухим голосом Симоненко. – Не будут они так лежать…
– Сделаем, все сделаем, – бурчит Селезнев и снова просеивает патроны сквозь пальцы.
Тарабрин неподвижно сидит на ступеньках окопа, левая брючина у него разрезана выше колена, ниже бинты с проступившими пятнами крови. Тарабрин молчит. С тех пор как он приполз сюда, он молчит.
О чем он думает? Взгляд его неподвижно уставлен в угол окопа, туда, где лежит Шиниязов. Войны для Шиниязова уже нет, и для Забелина война кончилась. А он, Тарабрин, жив, но что он сейчас значит для товарищей? Тяжкая обуза – не больше. В распоряжении их ночь, за эту ночь его должны отправить в санбат, значит, надо ждать, пока соберутся и отправят, и он ждет, не торопит товарищей, молча слушает их разговоры, с какой-то отрешенностью воспринимая все их беспокойства. Что он может теперь сделать?
Темная глыба сгоревшего танка возвышается позади. Тарабрину сейчас кажется непостижимым, что эта бронированная громада пронеслась над ними и не только не причинила им вреда, но сама рухнула, вспыхнув от гранат, посланных в нее Селезневым и Шиниязовым. Подумать только – две связки гранат решили все, и, если рассказать кому, что танк проутюжил их окоп, чего доброго, тебя сочтут просто вруном.
Мысли Тарабрина без всякой последовательности переносятся в лощину, где они ползли вместе с Забелиным, мелькнула нескладная, долговязая фигура этого парня – с карабином, выставленным вперед. Но все это нечетко, туманно… И опять Тарабрину кажется непостижимым, как он уцелел в этой лощине, ведь немцев было больше десяти, и собственное его поведение в той лощине, когда он поднимался и делал прыжки в стороны, падал, кидая гранаты, стрелял, – все кажется сейчас будто во сне. И собственное ранение кажется до крайности странным, он даже не помнит, когда это произошло – тогда ли, в момент его последнего броска на немцев, или еще раньше, когда он, чтобы ввести их в заблуждение, петлял по лощине…
Темная ночь вокруг, плавают на горизонте багровые вспышки, тяжелый гул слышится на шоссе и там, где переправа.
– Пойду посмотрю место, сержант, – говорит Симоненко.
Селезнев понимает, о чем идет речь. Он машинально кивает головой и идет следом за Симоненко к обрыву.
– Вот здесь будет хорошо. Сухо, место высокое… – Симоненко говорит таким тоном, будто Шиниязов и Забелин – живые и для них очень важно, где им лежать.
Селезнев опять кивает головой и смотрит вдоль берега в сторону переправы. Мягко поблескивает внизу вода. Сплошной темной стеной выступает напротив лес, только кустарник рядом еще просматривается. Стрельба слышится где-то далеко, разрывы ухают глухо, лениво. «Что они там – забыли про нас, – думает Селезнев, – или ждут, когда мы пошлем связного… Тех, за бугром, видно, смяли, значит, теперь тут открыто… А нас только двое… Тарабрина надо бы отправить…»
Надрывный, тяжелый гул слышится в небе.
– Идут, – говорит Симоненко.
Самолеты летят каким-то странным порядком. Одна группа ниже и впереди, вторая, уступами, сзади и метров на пятьдесят выше.
Первая группа минует лес на том берегу, слышатся взрывы, вспыхивают подвесные ракеты-фонари. Вторая группа, не отклоняясь, летит дальше.
– Десант выбрасывают, сволочи, видишь – десант, – говорит Симоненко.
Воет, грохочет где-то за лесом, бомбардировщики разворачиваются и кружатся там хищной стаей. Косо мелькает луч прожектора.
– Ты погоди копать, – произносит в тяжелом напряженном раздумье Селезнев. – Тут надо узнать… Я пойду, понял… Останешься за меня…
– Может, мне, сержант…
– Нет, – отрубает Селезнев твердо и, подхватив автомат, направляется вдоль берега к переправе. – Посматривай тут. Я быстро, – добавляет он, оглянувшись, и вскоре его фигура скрывается в прибрежных кустах.
Симоненко стукает лопатой, сбивая с нее землю, и шагает к окопу. Тарабрин сидит все в той же позе. Он едва взглянул на подошедшего Симоненко, цедит сквозь зубы:
– Что там?
– Сержант в полк пошел, узнает… А я могилу выбрал ребятам. Сухо, на бережку, высоко…
– Им теперь все равно, – ворчит Тарабрин.
– Конечно, все равно, – соглашается Симоненко. – Только на берегу лучше… – И, чтобы переменить разговор, спрашивает: – Нога ноет?
– Ноет, – вздыхает Тарабрин.
– Да, – тянет задумчиво Симоненко, – месячишка два придется тебе поваляться в госпитале…
– Больно ты умен, я посмотрю, – зло говорит Тарабрин. – До госпиталя еще ползти надо… Оставили на пятачке – и никакой связи. Никакой команды нет. Разве это порядок?
Симоненко молчит. Он понимает, что Тарабрину сейчас лихо, нога гудит, и вообще он сейчас не в себе. Поэтому он не сразу отвечает Тарабрину, идет к кустам и приносит шинель.
– Давай подложу, чтобы помягче. А то от земли и простуду схватишь. – Он ловко подсовывает под Тарабрина шинель, осторожно, чтобы не побеспокоить, подкладывает под ногу скатку из плащ-палатки. Затем свертывает цигарку и, затянувшись, говорит спокойно: – Насчет команды. Чего тебя беспокоит? Есть сержант, он командует…
– Сержант, – прерывает его Тарабрин. – Тоже мне фигура. Он знает не больше нашего…
– Ну так что? Сейчас пошел и все, что надо, узнает. А командовать он может, ты это сам хорошо видел. Пожевать не хочешь?
– Не могу, – отвечает Тарабрин, и даже впотьмах видно, как дергается его бледное лицо. – Не могу, когда рядом мертвый.
Симоненко копается в вещевом мешке, достает оттуда кусок сухой колбасы и сухарь, громко жует.
– А я ничего, спокойно отношусь, – размышляет он. – Погиб человек, что же тут делать… Война.
Хруст сухаря и громкое чавканье раздражают Тарабрина, но он молчит. Со стороны дороги снова доносится тяжелое урчание, что-то там громыхает и катится – вал за валом. Симоненко прислушивается, стараясь угадать, что там происходит.
– Все-таки мы его здесь не пропустили, – продолжает Симоненко. – Уж как рвался… А не вышло. Вы с Забелиным вовремя подоспели. Не вы, так лежать бы нам здесь всем. Вишь, как приструнили, и не суется больше.
– Погоди, утром сунется, – зло вставляет Тарабрин.
– Сунется и опять получит, – спокойно отвечает Симоненко и снова начинает громко жевать.
И, странное дело, этот хруст и жевание, которые только что раздражали Тарабрина, сейчас действуют успокаивающе. «Сунется и опять получит…» Стоять крепче, стоять… Конечно, кого-то из них не будет, кто-то погибнет, так что ж, ведь война, на то они и пришли сюда, чтобы драться, чтобы не пускать его к себе. Стоять насмерть. Тарабрин вдруг взглянул на себя со стороны – с простреленной ногой, в бинтах, без сапога, в порванной гимнастерке, – сострадание и злость охватили его. Теперь ему предстоят месяцы долгого лежания в госпитале, глубокий тыл, а ему так хочется, так необходимо, – ведь он же знает, что такое – стоять насмерть, – так необходимо быть рядом с ребятами, чтобы убивать, как можно больше убивать врагов.
Шорох и шаги доносятся от кустов. К окопу быстро шагает Селезнев. Он один. Отдышавшись, проходит по краю окопа у самого бруствера, будто что-то соображая, глядит на распластанное тело Шиниязова и, стараясь казаться спокойным, говорит:
– Сейчас похороним… Сейчас… – И, помолчав немного, добавляет глухо: – На переправе немецкие танки…
16
 Забелина опускают в окоп рядом с Шиниязовым. Накрывают плащ-палаткой. Постояв немного, Симоненко и Селезнев начинают копать лопатами землю. Тарабрин сидит в стороне, слушает, как стучит земля.
Забелина опускают в окоп рядом с Шиниязовым. Накрывают плащ-палаткой. Постояв немного, Симоненко и Селезнев начинают копать лопатами землю. Тарабрин сидит в стороне, слушает, как стучит земля.
Потом Селезнев подходит к груде шинелей и мешков, откидывает необходимое в сторону. Пулемет, винтовки, шинели относят к реке. Затем возвращаются за Тарабриным. Скрестив руки, на которые тот садится, медленно, тяжело сопя, спускаются по обрыву.
– Сначала переправим оружие, одежу, – говорит Селезнев.
Симоненко быстро раздевается, увязывает вещи. Два узла. Один из них, побольше и потяжелей, с пулеметом, он берет в руки и, держа его над головой, входит в воду.
– Я сейчас вернусь, – говорит он.
– Конечно, – отвечает Селезнев, помогая раздеться Тарабрину. Он хочет сказать, чтоб Симоненко дождался его на том берегу, но потом решает, что не стоит, река не так широка, и затягивать время опасно. – Старайся к тому дереву, – тихо напоминает он.
– Ладно, сержант, – доносится из воды.
Еще некоторое время в сумерках виден узел на реке, с которым плывет Симоненко, потом тьма поглощает его.
– Доплыву ли? – спрашивает Тарабрин, когда они остаются одни.
– Доплывешь, – бурчит Селезнев, поправляя на его ноге бинты.
Темнота у реки будто становится гуще. Селезнев, раздевшись, входит в воду и тут же отступает. Холодно. Ухо улавливает близкое журчание. «Ключи, тут всюду ключи…» Он подходит к узлу, из которого торчат стволы двух винтовок. «На спине надо плыть», – решает он и поднимает узел.
– Сиди, мы скоро, – говорит он Тарабрину.
Ноги увязают в илистом дне, медленно вытягивая их, Селезнев идет дальше. «Шестьдесят метров – не больше… Только спокойно, главное – узел, он не легок…» Вода уже доходит до груди. Селезнев, повернувшись, слегка приседает и, плавно опрокинувшись на спину, приподняв узел, начинает работать ногами. Темное небо над головой и звезды. Он старается двигать ногами медленно, соблюдая дыхание. По кромке дальнего леса скользнул отблеск ракеты. «Раз-два, раз-два», – считает про себя Селезнев, время от времени поворачивая голову и стараясь угадать противоположный берег. На откосе темным бугром выступает заросль орешника. Внизу ждет Тарабрин. «Раз-два, раз-два…» На переправе немецкие танки, колонны пехотинцев. Значит, смяли… Куда ушли наши? Может, бродят в этом лесу, а может, погибли: Тоня с ними…
Макушки орешника на противоположном берегу отчетливо проступают всякий раз, когда вспыхивают ракеты. Гудит по-прежнему на переправе.
Каким-то непонятным чутьем Селезнев догадывается, что берег рядом, он перестает работать ногами и ощущает землю. Медленно поворачивается и несет узел на вытянутых руках, выходит на берег. Отдышавшись, прячет узел в кустах.
Спустя час все трое оказываются на восточном берегу. Тарабрин полулежит на разостланной шинели, и Селезнев впотьмах меняет ему бинты. Тарабрин не стонет, не жалуется, только по редкому судорожному вздрагиванию Селезнев догадывается, чего это все ему стоит. Мокрые, окровавленные бинты Селезнев отжимает и кладет в мешок вместе с патронами. Тарабрину помогают одеться, потом Селезнев и Симоненко одеваются сами, разбирают оружие. Сейчас они уйдут в лес. Пойдут медленно, таясь и блуждая в поисках своих. Может, удастся оставить Тарабрина в верных руках, может, в двух шагах отсюда им придется принять бой… Они сидят на берегу почти у самой воды и молча смотрят на противоположный откос, туда, где они сегодня держали оборону и где сейчас лежат их товарищи.
Над головой снова гудят самолеты. Кажется, будто кто-то невидимый включил в вышине огромный, мощный мотор. Даже земля от этого гудения содрогается, и только звезды, как и прежде, спокойно глядят с вышины и, кажется, совсем не удивлены тем, что происходит на небольшом кусочке планеты. Может, звезды видят больше и дальше, видят смерть, но видят и жизнь, может, поэтому их мерцание отдает холодным спокойствием, как взгляд человека, наблюдающего грозовую тучу и уверенного в том, что ветры разметают ее. А может, и того проще: где-то вдали, за кострами пылающих сел и городов звезды видят ожидающее врага возмездие…

ПОЖАРНИК
Я не помню, когда точно в нашу роту пришел лейтенант Хватов. Убило Лешу Скурихина, вместо него какое-то время командовал взводом сержант Карелин, потом прислали Хватова.
Леша Скурихин был настоящей военной косточкой. Я как подумаю о нем, так и представляю: лицо смуглое, всегда чисто выбрито; шинель, гимнастерка будто влитые, сапоги блестят. А портупея того и гляди лопнет под напором мускулов…
Но не только одной военной выправкой отличался Леша. Он командовал взводом связи, а приходилось выполнять ему самые различные задания. Бедовая голова была у Леши. Колонну автомашин отрезал немец – кто выводил? Леша, лейтенант Скурихин. Отступили, оставив неповрежденными наземные линии связи. Кто возвратился и все как есть телеграфные столбы, да и другие важные объекты связи уничтожил начисто, чтобы не достались врагу? Опять же лейтенант Скурихин.
А, погиб Леша Скурихин вот как. Отступали. Группа, которую Леша вел из окружения, наскочила на немцев. Леша замыкал цепочку, шел последним, отстреливаясь. То ли его приметили, то ли уж так суждено – только пуля ему попала прямо в сердце. Он и вздохнуть не успел. Даже вынести его тело ребята не смогли…
А лейтенант Хватов оказался обычным приписником. О внешности тут и говорить нечего. Гимнастерка на животе пузырилась, ремень с наганом отвисал сбоку, и лейтенант постоянно его поддергивал. Лицо добродушное, совсем не командирское – нос картошкой, губы толстые, мягкие. Он и приказы свои отдавал солдатам по-чудному:
– Слушай-ка, братец, надо бы линию проверить… Сходишь?..
И если солдат молчал, то Хватов, вздыхая, уговаривал: «Давай уж, милый, давай…»
И нам казалось, случись у этого солдата другое настроение – он бы мог и не пойти. И тогда, наверное, лейтенант Хватов сам бы отправился исправлять повреждение на линии…
Но это все ничего. Офицеры-запасники почти все были такие, не умели командовать. На гражданской работе многие из них занимали большие должности, но ведь в армии все-все по-другому, да к тому же тут и война… Впрочем, так было только в первые месяцы. Жизнь учила быстро, и очень скоро приписники становились настоящими кадровыми офицерами, им разве не хватало некоторой внешней отточенности, этакого особого изящества, которое приобреталось, конечно, лишь в военном училище.
Так вот о Хватове. Он был приписник. Но удивил нас другим. В первый же день, как появился в землянке, где было его место, он развязал свой вещевой мешок и достал Оттуда небольшую фотографию женщины в деревянной резной рамочке. Долго осматривал земляную, кое-где осыпавшуюся стену, раздумывая, куда бы ее повесить, наконец, вбил вместо гвоздя какую-то палочку и повесил.
Мы с интересом посмотрели на него. Потом кто-то спросил про фотографию.
Хватов ответил:
– Это Ася, жена.
Бои шли тогда горячие, связистам доставалось. Хватов в те дни часто ходил на линию, и надо сказать, дело он знал. Нас веселила его манера: после, когда мы возвращались с задания в свою землянку, он подходил к тому месту, где висела фотография, и, пригнувшись, так как потолок в землянке был очень низкий, и приложив руку к козырьку, докладывал:
– Все в порядке, Асенька, вернулся…
Это нам казалось очень чудным, и мы часто шутили, когда Хватова не было в землянке. Кто-то подходил к портрету и, щелкнув каблуками, сообщал, подражая голосу лейтенанта:
– Вернулся, Асенька, все в порядке, только жрать вот нечего…
Ну, а если было затишье и мы все были в сборе, каждый вспоминал, что делал он до войны, где жил, какая у него была работа, как проводил время по воскресеньям, какие любил кинокартины. Хватов тоже участвовал в этих разговорах. До войны он работал пожарником в Ленинграде и по обыкновению вспоминал пожары.
– Бывало, братцы, тревога, – начинал он мечтательным тоном, так не соответствовавшим страшному бедствию, о котором рассказывал. – Одна минута, чтобы собраться. Мчимся через весь город. Скорость – сирена гудит. Подъехали – лестница вверх – разведка…
– Теперь, лейтенант, тебе пожаров на всю жизнь хватит, – вставлял кто-нибудь из солдат.
Хватов отвечал миролюбиво:
– Это совсем другое, это война…
Оказывается, и привычка докладывать Асе появилась у Хватова в связи с необычной его работой. Часто ночами отсутствовал. То дежурил, а то тушил где-нибудь пожар. А Ася работала на обувной фабрике, и ее смена начиналась с утра. Хватов приезжал – жены уже не было дома, телефона в квартире тоже не было, и тогда он докладывал ей у фотографии: «Все в порядке, Ася, вернулся…»
Все это нам, как уже я сказал, казалось смешным и трогательным. Постепенно мы привыкли к его «докладам» и даже с интересом слушали его рассказы о пожарах, о том, какие бывают смелые разведчики (у пожарников, оказывается, тоже бывают разведчики!), и вспоминали разные случаи, когда загоралось что-нибудь и долго ждали пожарную машину. Последнее обстоятельство очень удручало Хватова, и он терпеливо и подробно объяснял, отчего могла задержаться машина.
И Хватова стали за глаза называть пожарником. Бывало, начальник штаба соберет командиров рот, намечает задание, распределяет людей, кого куда послать. Дойдет очередь до Хватова, скажет деловито: «Сюда пошлите пожарника!» А если у Хватова что-то не заладилось, то в сердцах выругается: «Этот пожарник, мать его…»
С каждым днем все жестче и жарче разгорались бои. И нам очень мало приходилось бывать на одном месте. Роту связи бросали чуть ли не по всему фронту. Сегодня вкопаем себя в землю, и вдруг приказ – снова марш километров на двадцать. Лица у солдат почернели, глаза ввалились. Горят деревни вокруг, горит земля… Кто-нибудь бросит ехидно Хватову:
– Ну, как, товарищ лейтенант, хватает пожаров?..
Он поглядит задумчиво, ничего не ответит.
А портрет Аси доставал из своего мешка часто. Поглядит, улыбнется, положит обратно.
Декабрь подходил к концу. Кому не памятен этот подмосковный морозный декабрь, когда наши части рванулись вперед. Это было радостное время – начали бить врага. Но в нашей роте эта радость была омрачена. Погиб лейтенант Хватов. Известие пришло поздно вечером, сообщили по телефону. Мы стояли тогда в землянке. Назойливо рокотали за стеной пулеметы, где-то неподалеку стреляла полковая пушечка, и капитан Горохов, наш ротный командир, всякий раз морщился, когда раздавался выстрел. Портрет Аси висел на стене, там, где спал прошлую ночь Хватов. Мы долго смотрели на этот портрет и будто в первый раз увидели, что глаза у этой женщины добрые и чуточку грустные, что смотрит она на нас доверчиво, с какой-то тайной надеждой, будто подбадривает нас…
Стояли долго, раздумывая, как лучше поступить теперь: сообщить ли ей, написать подробно обо всем, отослать ли портрет? И никто ничего не мог решить. А женщина смотрела на нас в упор.
– Вот задача, – вздохнул кто-то и добавил непонятно почему: – Ездил тушить пожары в Ленинграде… А теперь…
Мы не отослали Асин портрет. Его взял себе командир роты капитан Горохов.
– Получит извещение, чего зря расписывать… – сказал он, нахмурившись, и, помолчав, добавил: – Она такая женщина, что и без письма знает, какой он был… Нечего зря травить. А после войны кто-нибудь из нас привезет ей портрет… – Капитан Горохов прямо поглядел нам в глаза: – Так, я думаю, надо сделать…
– Так, – ответили мы. – Так…
И каждый в эту минуту подумал, как привезет в Ленинград эту небольшую фотографию и отдаст ее в руки Асе и доложит:
– Он не вернулся, Ася. Но самый большой пожар на земле потушен…

МАЯК
Поздняя луна вышла из-за леса. Призрачным блеском отсвечивали вдоль дороги макушки ветел, напоминающие стога сена.
Петров поежился и сердито посмотрел на дорогу. Белая укатанная полоса, исхлестанная тенями, уходила в гущу леса, исчезала там в кромешной черноте. «Комвзвода сказал, что будут к обеду, – подумал Петров. – Теперь ночь, а их все нет».
Солдат встал, прошелся вдоль окопа, около которого лежали раскрытый вещевой мешок и винтовка. Ветер шевельнул бурые, пересохшие головки клевера. На миг показалось, будто где-то рядом хрустко жуют кони. Петров настороженно оглянулся, но ничего не увидел.
Высокие легкие облака тянулись к луне, кутали ее, словно хотели погасить. Исчезли в темноте ветлы. На пригорке в деревне вспыхнул огонек, вспыхнул и погас.
Солдат сел на бруствер. Земля была еще теплой. Петров ощупал ее ладонью, взял в горсть и медленно растер узловатыми, жесткими пальцами. «На покой пошла, кормилица…» Он был сельским жителем и чувствовал землю, как живое существо, которое, как и человек, имеет всему время: для работы и для сна…
Со стороны дороги послышалось тяжелое шарканье, кто-то шел в его сторону. Солдат придвинул поближе винтовку и, вперив глаза в темноту, стал ждать. Глухое старческое покашливание предупредило его: опасности нет. И вслед за этим из темноты выплыла фигура старухи, что приходила к нему еще днем, когда он стоял на перекрестке, ожидая своих.
– Ты здесь, касатик? – спросила она тихо.
– Здесь, бабушка, здесь, – ответил Петров, угадывая в темноте ее сморщенное, улыбчивое лицо. – Чего ты ради, бабушка, по ночам тут разгуливаешь? Аль на фронт отправилась?
– Шуткуешь, касатик, – ответила старуха, подойдя совсем близко и ставя на землю какой-то узелок, завязанный в белое. Потом, распрямившись, объявила: – Я тут провизии тебе принесла.
– Провизии, – Петров тихо рассмеялся. – Молодец, бабушка. Провизия для солдата – первое дело… – Он потянулся к узелку и, распираемый неожиданно охватившим его весельем, добавил: – Как это ты сообразила?
– А чего соображать… – вздохнула старуха. – В мешке-то у тебя не туго.
– Ишь ты, глазастая, – добродушно удивился Петров, доставая из узла бутылку с молоком. – Тебе бы в разведку, бабуся, в самый раз…
– Там тебе мясо в плошке, – подсказала старуха, не обращая внимания на шутки солдата. – Ты с мяса начни. А молочком запьешь.
– Мясо… Ну, ты, я смотрю, мой вкус будто насквозь увидела, – не унимался Петров. – Я до мяса большой охотник…
Он пристроил на колени глиняную плошку с мелкими ломтиками жареного мяса и стал есть. Старуха стояла рядом, – она сейчас напоминала какую-то странную птицу.
– Эх, бабушка, ты и не знаешь, как я люблю по ночам ужинать в поле! Самый аппетит тут…
– На фронте, что ль, привык по ночам едой заниматься?
– Зачем на фронте, – ответил серьезно Петров. – С конями я всю жизнь. Ночью пасутся они, а я приду посмотреть. Да так, бывало, до самого утра и проведешь с ними. Баба моя уж привыкла. Ухожу – она мне всегда кошелку сует.
Закусив, Петров связал аккуратно посуду в узелок, потом чиркнул спичкой, прикрыл пламя ладонями. Огонек на миг осветил его подбородок, обметанный щетиной, крупные, с твердым изломом губы.
– Спасибо, бабушка, – сказал он, пряча в рукав гимнастерки цигарку. Тень старухи колыхнулась, но она ничего не ответила.
Несколько минут оба молчали.
– А ты все ждешь?
– Жду, бабушка.
– Стало быть, твои еще там?
– Где же Им быть. Конечно, там.
Старуха склонилась, подняла узелок с земли, переступила с ноги на ногу и снова замерла.
– Дорога-то совсем заглохла, – сказала она, помолчав. – Никого не слышно. А то все шли и шли. Может, никого и нет там…
– Как же нет, – ответил Петров сурово. – Я же тебе сказал: наши должны появиться. Я за тем и поставлен, чтоб путь указать, куда дальше двигать. Маяк – у нас в армии говорят. Вот я и есть такой маяк.
– Маяк… – Старуха вздохнула. – Значит, будешь ждать.
– Буду ждать, бабушка.
– Ну, ладно, касатик. Я пойду…
Шаги ее глухо зашаркали по траве, и скоро старуха растаяла в темноте. Ночь снова крепко обняла Петрова. Солдат глубоко вздохнул. Снова показалось, будто где-то рядом хрустят кони. В проемах между облаками проплывали маленькие, как точки, звезды. Где-то на горизонте падали бледные фосфорические отсветы ракет, оттуда доносилось тяжелое грохотанье, будто одна за другой рассыпались гигантские поленницы.
Сегодня утром комвзвода, высадивший его на перекрестке, сказал: «Здесь стой. Наши должны проехать – направляй их в Масловку. Вот по этому тракту. С ними и сам доедешь». Вот он и ждет теперь…
Целый день шли по дороге войска: пушки, грузовики, танки, пеших много. Гудела дорога. Пешие с серыми лицами, поблекшими глазами, хмурые. Один подошел к нему, загреб из кисета чуть не половину махорки и, зализывая цигарку, спросил:
– Чего тут торчишь?
– Маяк я. Своих дожидаю, – ответил Петров.
– Своих. – Солдат насмешливо скосил глаза. – Вроде позади нас никого не было.
Петров обиделся:
– Ты, может, не оглядывался, есть или нет.
– А, может, не оглядывался, – ответил солдат спокойно и побежал к дороге.
…Свежий, с изморосью ветерок пробежал из лощины, проступили сизые космы тумана. Кто-то невидимый огромной метлой расчищал край неба над лесом, там появилась узкая серая полоска. Ночь умирала. Петров поднялся и, закинув за плечо винтовку, пошагал по дороге к лесу. Не дойдя шагов десять, остановился. Глухо шумели деревья, предчувствуя зарю. Из лесу тянуло теплом, перегретой лежалой хвоей. «Чего ж это такое, – вдруг подумал Петров, – не едут и не едут… Комвзвода сказал… – Но он не стал вспоминать, что сказал командир взвода, мысль как-то сразу устремилась к самому главному: – Что же мне теперь делать? Что делать?»
Он повернулся и зашагал обратно к окопу. Луг впереди еще заволакивал туман, но за ним уже проступали дома, виднелись ряды огородов, разделенные по склону частоколом. Первый дымок показался в трубе.
«Что делать?» – снова спросил себя Петров. Но ответить на этот вопрос ему не удалось: из глубины леса донесся громкий трескучий шум.
Петров прыгнул в окоп и, положив винтовку на бруствер, щелкнул замком…
Шум и трескотня приближались, все нарастая. Томящий холодок пронзил Петрова, он понял, что сейчас произойдет встреча с врагом. Гимнастерка вдруг стала липкой. «Значит, прав был солдат. Последние они шли… Последние, – подумал он, стараясь не выпускать из прицела узкие воротца дороги. – А теперь что?..» Лес, речка, ночное – все это вдруг показалось ненужным, неважным, таким пустяком по сравнению с тем, что надвигалось.
Первый мотоцикл выскочил из лесу. Черная до плеч каска, черные очки, зловещие крылья руля. Петров сжался, и сразу мысль о смерти улетучилась. Голова вдруг заработала лихорадочно и удивительно ясно: «Их много, а я один. Надо пропустить, а потом ударить. Они проедут, а потом…» Первый мотоциклист обогнул клин кустарника и приближался к перекрестку. За ним метрах в пяти мчался второй, третий… Гул их нарастал, и каким-то сверхчутьем Петров понял, что пришла пора… Поймав на мушку первую машину, он нажал крючок. Звук выстрела потонул в грохоте, и Петров подумал, что промахнулся, он быстро перезарядил винтовку и выстрелил еще раз.
Черное чудище круто козырнуло в сторону и завалилось в канаву. Вторая машина чуть задержала скорость, словно размышляя над тем, что произошло, и, воспользовавшись замешательством, Петров выстрелил по ней. Некоторое время она катилась вперед по дороге, потом резко повалилась набок. И тут же над головой Петрова зарокотали, затрещали выстрелы, бугорок над окопчиками взвился от фонтанчиков, поднимаемых пулями. Немцы заметили его.
Пригнувшись на дне окопа, он шарил, ища гранаты: одна, вторая… Если он сейчас что-то не сделает, они швырнут в него, и тогда – все. Так и останется лежать здесь. Ухо с напряженным вниманием ловило свист пуль, а в голове стучала мысль: «Скорее, надо скорее, иначе они бросят…» И опять, каким-то особым чутьем выбрав этот момент, Петров рывком выскочил из окопа в сторону, рука машинально взметнулась, и он бросил гранату на дорогу, где копошились немцы. Он еще успел отскочить и бросить вторую. Но разрыва ее уже не слышал. Прямо над головой что-то ярко сверкнуло, и огонь этот погрузил Петрова во тьму…
* * *
Его похоронили ночью в том же окопе, где он принял бой. Та самая старуха, которая приходила к нему накануне, уговорила двух соседок, и те под покровом темноты предали Петрова земле, которую он так хорошо понимал и любил. Никаких документов у него не нашли, поэтому никто не знал, как его фамилия и откуда он. Безымянную ту могилу можно увидеть и сейчас на перекрестке двух проселочных дорог недалеко от Орши. Жители соседней деревни называют ее просто – Маяк…








