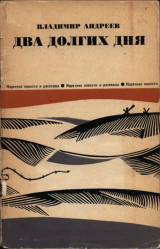
Текст книги "Два долгих дня"
Автор книги: Владимир Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)

Владимир Андреев
Два долгих дня
Повесть и рассказы
Владимир Михайлович Андреев родился в 1920 году. Среднюю школу окончил в городе Ярославле. С первых дней Великой Отечественной войны был на фронте. Служил командиром взвода связи, участвовал в боях на Западном, Калининском, Прибалтийском и Ленинградском фронтах. После демобилизации из Советской Армии учился на филологическом факультете Московского университета.
Первый рассказ написал в 1958 году. Рассказы В. Андреева печатались в газетах и журналах. В последующие годы вышли сборники рассказов В. Андреева «Яблонька», «Сердце солдата», «Один миг», «На рассвете», «Когда горит сердце».

ДВА ДОЛГИХ ДНЯ
1
Командир роты повел их через луговину.
Все дальше в сторону отступает река. Уже давно затерялась в густой траве виляющая вдоль берега тропинка, по которой они шли сначала.
Вправо горбом поднимается поле, затопленное до самого горизонта утренним солнцем. Командир роты подолгу смотрит на это поле, в какую-то там одну точку, и со стороны можно подумать, будто командир держит равнение на кого-то невидимого, как в строю…
Четыре солдата и сержант шагают сзади.
Сквозь усыпляющую истому жары, сквозь глухое позвякивание оружия, словно откуда-то издалека, пробивается тягучий голос пожилого солдата в засаленной пилотке:
– Ну и травушка… Ну и корма…
Солдаты скользят глазами по земле и молчат. Бледно-алые и бледно-голубые, точно полинялые, цветы виднеются повсюду. Синеет вверху небо…
– Табун бы сюда… – продолжает, ни к кому не обращаясь, пожилой солдат. Его отрешенный взгляд устремлен в поле, но лицо, когда он говорит, остается странно неподвижным. – Проклятый Гитлер… – ругается он. – Все проклятый Гитлер…
– Да перестань ты, Шиниязов, – кричит чернявый солдат с ручным пулеметом на плече. – Заладил свою пластинку…
Шиниязов тупо глядит на чернявого:
– Ты чего, Симоненко?..
Симоненко машет рукой:
– Давай вперед, Шиниязов…
Синее бездонное небо вверху. Симоненко щурится, шумно вздыхает и вдруг подталкивает своего соседа локтем.
– Слушай, Забелин. Сейчас ротный подыщет нам пляж. Искупаемся?..
На лице у тощего, флегматичного парня недоумение. Он озабоченно поправляет на плечах многочисленную поклажу: две винтовки, две лопаты, плащ-палатку, шинель – и молчит.
– Сядем на бережку, Забелин, – тянет, ухмыляясь, Симоненко, – разденемся и будем валяться на песке до обеда. Уж поплаваем вдоволь. Поплаваем?..
– Я не умею плавать, – глухо отвечает Забелин.
– Не умеешь! – охает Симоненко. – Ай-ай-ай…
Забелин откашливается и шагает быстрее.
– Ну, вот к речке выходим, – тихо, сквозь зубы объявляет Симоненко, вглядываясь вперед. – Кажется, вправду командир подыскал нам подходящий пляж…
Луг полого поднимается на взгорок. Трава здесь реже, земля суше. Все ближе кусты прибрежного ольшаника. Река, очертив в своем течении прихотливое полукольцо, теперь снова рядом. Командир роты уже стоит на взгорке, расставив широко свои кривые ноги. Впереди опять пологий спуск; широкая, темная от зелени кайма лощины, поросшая кустарником, легла от реки вправо, огибая холм и расширяясь к лесу.
– Подходящий пляж, – цедит сквозь зубы Симоненко.
– Селезнев! – кричит командир роты сержанту. – Пусть складывают здесь, – он показывает рукой, где складывать. – А ты давай ко мне.
Солдаты бросают короткий взгляд на Селезнева и начинают освобождаться от поклажи. Осторожно кладет на землю свой пулемет Симоненко. У Забелина плечи заняты, он приседает неловко на корточки и, обхватив руками винтовки, пытается положить их на землю. Неудачно: лопаты, потеряв опору, ударяют Забелина в затылок.
– Растяпа, – шепчет Селезнев и идет к командиру роты.
Позади ухо сержанта улавливает треск разрываемой бумаги, чирканье спичек: Симоненко и его второй номер – Тарабрин закуривают. Шиниязов вонзил в землю лопату, повесил на – черенок свою засаленную пилотку и растянулся на траве отдыхать. Забелин распахивает гимнастерку – грудь у него впалая, без единого волоска, – положил руки на колени и о чем-то задумался. А может, выражение у него такое, будто он всегда думает.
– Значит, так, Селезнев, – говорит командир роты, прицеливаясь глазами в сторону лощины. – Слева у тебя река, прямо – болото. Справа, как мне сказали, минировано, там пэтээровцы… Там порядок….
Селезнев глядит влево, прямо, вправо – куда показывает командир.
– Там никого нет, – кивает ротный на лощину. – Понял?
– Понял, – отвечает Селезнев.
– Вообще через болото они вряд ли пойдут. Но на всякий случай. Поэтому ты здесь. Понял? Значит, тут копай, – взмахом руки командир показывает, где копать. – Тут по ячейке выроешь… Пулемет, чтоб туда и сюда. Понял?
– Понял, – повторяет Селезнев.
Командир роты прячет карту, хмурый, исподлобья, взгляд его скользит по лицу сержанта. Красивый парень, этот Селезнев! Командир роты замечает это как-то неожиданно и сам удивляется.
– Ты из каких мест будешь?
– С севера… Из-под Архангельска.
– Ох, черт возьми! – восклицает ошарашенно командир роты. – Далеко. Далеко забрался! – повторяет он, и лицо его проясняется. – А я еще дальше. С Урала, родом с Урала, – уточняет он, и взгляд его снова становится официальным. – Слушай, Селезнев, на твоей ответственности это болото. Смотри… – И, помолчав, добавляет совсем сухо: – К вечерку подошлешь кого-нибудь для связи… Ну…
Движением локтя командир роты отводит полевую сумку назад, козыряет и, повернувшись, шагает туда, откуда они только что пришли. Полевая сумка хлопает по его тощему заду. Проходя мимо солдат, ротный останавливается на минуту, смотрит задумчиво, словно что-то припоминая, и, обращаясь к сержанту, говорит резко:
– Сейчас же окопаться!..
2
 – Ну, вот, я же говорил: подходящий пляж… – бурчит Симоненко, глядя вслед удаляющемуся командиру роты.
– Ну, вот, я же говорил: подходящий пляж… – бурчит Симоненко, глядя вслед удаляющемуся командиру роты.
– Шиниязов, Тарабрин, берите лопаты, – командует сердито сержант. – А ты, Забелин, будешь наблюдать.
Прищурив глаза, сержант смотрит в сторону лощины, потом себе под ноги.
– Вот здесь копайте, – взмахом руки он показывает, куда должен идти окоп. Намечает, где должен быть угол. – Ну, вот так… Приступайте, – говорит он и вдруг хмурится: – Почему оружие оставили… Вы соображаете?
Тарабрин толкает Шиниязова в бок и кричит ему в ухо:
– Винтари захвати сюда, слышишь?
Шиниязов, мешковато повернувшись, бежит к кустам ольшаника, где лежат винтовки. Потом он возвращается, кладет винтовки на пригорок.
Симоненко издали наблюдает за ними и, не дожидаясь понуканий сержанта, берется за пулемет. Все происходящее как будто его не касается, угрюмо двигая бровями, он отвинчивает ствол, достает ветошь, лицо с пробивающейся на скулах черной щетиной серьезно.
– Вы, шевелитесь, – говорит сержант.
– Понятно, понятно, – ворчит Тарабрин, кидая на землю пилотку. – Перекусить бы сначала.
– Пока не зароемся – нечего и думать. Ты что – не чувствуешь? – Он строго смотрит на Тарабрина. – Копайте, потом вас подменят Забелин и Симоненко. Симоненко, – кричит сержант, – ты останешься за меня. Пойду полазаю тут, посмотрю.
Сержант спускается через поле вниз, к лощине. Кустики можжевельника, верхушки чахлых березок – то тут, то там мелькнет его фуражка; вот, наконец, он скрылся совершенно. Тарабрин, тяжело вздохнув, берется за лопату. Он обрубает дерн с одной стороны, с другой, получается это у него ловко, чувствуется-, такая работа ему не впервой. Потом оглядывается вокруг, расстегивает воротник гимнастерки. Напротив него – Шиниязов, склонившись, плюет на ладони.
– Черт, какая твердая, – бормочет Тарабрин, выгребая землю.
Шиниязов не слышит и молча, краснея от натуги, налегает на лопату.
Тихо кругом. Застыли вдоль реки кусты орешника. На противоположном берегу пламенеют стволы сосен. Часа три потребуется, чтобы вырыть этот окоп. А потом? Один и тот же солдатский вопрос, на который никто из них не может сейчас ответить. Земля, которую они ковыряют лопатами, должна им помочь, земля – их спасение на этом взгорке. Так бывало всегда, так будет и сейчас…
Неподалеку, обхватив руками винтовку, сидит Забелин, тощий, неуклюжий, напряженно смотрит по сторонам. Солнце светит ему в спину, поблескивает на плывущей в теплом прозрачном воздухе паутине, гладит плечи, щекочет шею, затылок. Солнцу нет дела до того, что идет война, солнце совершает свою повседневную работу.
– Эй, маэстро! – кричит Тарабрин. В мирной жизни Забелин был студентом музыкального училища, собирался поступать осенью в консерваторию… – Эй, маэстро, – повторяет Тарабрин, – вы не подмените меня? – и, не дожидаясь ответа, ловко выскакивает из окопа, отряхивает ладонями землю с брюк, трет руки и, чуть погодя, добавляет с чопорным поклоном: – Пожалуйста, маэстро, на сцену…
Шиниязов копает на другом конце окопа. Он часто плюет на руки, крякает, вытирает рукавом гимнастерки с лица пот. Увидев, что его напарник уходит, он не возмущается и не требует тотчас же смены, он молча продолжает работать, и выражение лица у него не изменилось, осталось такое же деловито-отрешенное и замкнутое. Но в тот момент, когда Забелин подошел к окопу и начал расстегивать ремень, Симоненко метнул недовольный взгляд в сторону Тарабрина, отложил пулемет и, собрав аккуратно промасленную ветошь, спрятал ее в подсумок.
– Вылезай, Шиниязов, – кричит Симоненко и делает движение рукой. – Давай теперь я…
Но Шиниязов уже несколько дней провел в стрелковой роте, он знает, что такое пулеметчик. Чтобы Симоненко рыл окоп? Да разве это можно? Нет, нет, Шиниязов машет руками, он не устал, он еще поработает.
– Давай, Шиниязов, раз смена – значит, всем смена, – явно для Тарабрина повторяет Симоненко, и Шиниязов наконец сдается, кряхтя поднимается из окопа, отдуваясь, трет свое потное красное, словно после бани, лицо.
– Суглинок пошел. Сухой, дьявол, – улыбается он как-то напряженно, одними глазами.
Симоненко прыгает в окоп, потом шарит глазами по брустверу, рукой разбрасывая комья, и выбирает из земли камень.
«Чик-чик…» – разносится вокруг. Склонив свою стриженую, седеющую на висках голову, Симоненко точит лопату.
«Чик-чик…» – разносится из окопа, – «чик-чик»…
Из-за леса, чуть не касаясь макушек, показался самолет. Маленький, тарахтящий У-2. Он летит вдоль реки, мягко склонившись на крыло. Симоненко ткнул в землю лопату и, загородив ладонью глаза, смотрит на самолет. Человек позади летчика, в черном шлеме, глядит с самолета вниз, и Симоненко не удержался, помахал летчику рукой. Самолет сделал резкий вираж и пошел вдоль реки дальше, все глуше и глуше его тарахтенье.
– Начальство оборону смотрит, – бормочет Симоненко, продолжая задумчиво следить за улетающим самолетом, который сейчас не больше спичечного коробка.
Солнце уже прямо над головой. В безоблачном небе снова тихо, только иногда где-то в стороне чисто и звонко нет-нет да и прорвется незатейливый птичий перебор. Рыже-серое поле справа ползет куда-то к горизонту, белые, желтые бабочки летают над ним.
А позади, где проходит большак, там, у переправы, – глухое гудение, это гудение слышится по всей линии дороги и с каждым часом все гуще и гуще…
3
 Пришел сержант Селезнев. Сапоги мокрые, в липкой болотной жиже. На правом колене пятно, оступился где-то. Сержант оглядывает вырытый окоп и, сняв новую, с блестящим козырьком офицерскую фуражку, присаживается на траву.
Пришел сержант Селезнев. Сапоги мокрые, в липкой болотной жиже. На правом колене пятно, оступился где-то. Сержант оглядывает вырытый окоп и, сняв новую, с блестящим козырьком офицерскую фуражку, присаживается на траву.
– Метров триста тянется болото, – говорит он, стягивая сапоги. – Метров триста. – Селезнев морщится, разматывая белую в черных потеках портянку. – Пройти, конечно, пешему можно, но с трудом…
Сержант расстилает портянки на Земле и, поглядев на лощину, поросшую кустарником, на взгорок справа, добавляет:
– Пару ячеек выкопайте тут. – Босой, он проходит и показывает, где копать. – Давайте, кто у вас отдыхал. Ты, Симоненко, станови своего козла, – он показывает на окоп. – Поживей давайте, – повторяет он сердито.
Селезнев снова садится на траву, достает из кармана никелированный портсигар с легким табаком, крутит цигарку. Лицо сержанта замкнуто, из-под нависшего чуба, из-под черных бровей настороженно поблескивают глаза. Он все глядит на лощину, откуда только что пришел, где сейчас тихо, спокойно. Легкая парная дымка вьется над кустарником у самого леса – лес там идет сплошняком, и до него около километра. «Через болото, конечно, можно пройти, – размышляет сержант. – Болото тут с изъянами. Если немцы нащупают тут, тогда…»
Селезнев поворачивается и видит, как Забелин с Шиниязовым машут лопатами. Симоненко в окопе занят своим пулеметом.
«Если немцы сунутся через лощину, – на Симоненко и на его пулемет вся надежда. Тарабрин тоже не подведет. А вот эти двое, черт их знает!»
Особенно беспокоил сержанта Шиниязов, он после контузии страдал глухотой и о том, что говорят люди, догадывался больше по движению губ. Ему говорят: иди к старшине, а он топает к командиру роты, его просят принести патроны, а он приносит винтовку… Самолеты бомбят, все бегут в окоп, а он сидит себе недалеко от бруствера и, пока не увидит, что кругом пусто, не догадается спрятаться. Перед тем как идти сюда, Селезнев взмолился:
– Товарищ старший лейтенант! Ну вы же видите. Ну, какой это солдат. Дайте другого…
– Ничего, ничего, – успокаивал командир роты Селезнева. – Там у тебя полегче. Ничего… Если стрельба будет, услышит. Погромче говорите с ним, все будет в порядке…
Так и пришлось согласиться. Да и как ты не согласишься, когда командир приказывает. Может, и в самом деле у них ничего не случится. А там, конечно, главное, там переправа…
Селезнев последний раз глубоко затягивается и бросает цигарку далеко в траву. Еще некоторое время сидит и неподвижно смотрит, как вьется из травы синий дымок от окурка. Ни ветерка, ни облачка – тонкая струйка дыма колеблется, расплываясь в воздухе.
Сержант берет портянку, машинально встряхивает ее, обувается, натягивая с усилием хромовый, сшитый без всякого запаса сапог. Обувшись, спускается в окоп.
– Ну, как у тебя тут, Симоненко? Поставил?
– Порядок, сержант, – Симоненко отступает в сторону от пулемета.
Селезнев, обхватив приклад, приникает к пулемету. Наводит в сторону лощины, в одну точку, в другую. Потом, выпрямившись, говорит задумчиво:
– Понимаешь, оттуда они не полезут, – он протягивает руку, показывая на ту часть лощины, которая ближе к реке. – Тут утонуть можно. А вон там, видишь, кустики и еще правее березка. Там могут. Хоть и болото. Понял? Пристреляй по-малому. И еще этот взгорок. Пэтээровцы за ним. Но все же… Дай-ка я попробую.
Селезнев снова обхватывает приклад, и через минуту короткий сухой треск разрывает воздух. Потом ствол пулемета еле заметно отводится вправо – и снова короткая очередь. Ничто кругом не шелохнется, только с маленькой, причудливо изогнутой березки будто кто-то вспорхнул; плавно, как взмах руки, пошел книзу сучок и повис, не до конца отсеченный пулей.
– Вижу, сержант, – произносит Симоненко и хочет склониться к пулемету.
– Подожди. Пойдем сюда.
Они проходят по окопу вправо, к крайней его точке. Сержант кладет руки на бруствер.
– Здесь тоже подготовь. Понял?
Потом проходят влево, и сержант опять повторяет:
– Здесь тоже…
Неожиданно взгляд Селезнева задерживается на привольно лежащем неподалеку Тарабрине. Усмешка пробегает по лицу сержанта.
– Тарабрин, ты не заснул? Ну-ка подмени Шиниязова, – кричит он и думает: «Почему Шиниязова? Забелин слабее. Надо бы его». Но он недолго разбирается в тонкостях своего отношения к этим двум солдатам. – Кончайте скорее, – добавляет он сурово.
Стучат лопаты о землю. Слегка наносит от окопа утробной сыростью. Селезнев снова закуривает и идет к обрыву, за которым течет река. Мелкие кустики ольховника мягко тянутся по вершине склона. Река серебрится в лучах солнца, рябит у противоположного берега, где под старыми ивами дремлет маленький заливчик. В осоке раздается всплеск, будто вспышка неведомого выстрела ослепляет глаза. «Ишь разыгралась, – думает Селезнев и тут же уточняет: – Всего скорее щука…» Несколько минут он смотрит на воду, не всплеснет ли где еще, потом медленно шагает обратно к солдатам.
Ну вот и готов окоп. Три шага в одну сторону, три – в другую. Если сверху взглянуть, он немного похож на опрокинутую латинскую букву «S». Маскировка закончена, пулемет установлен и хищно смотрит в сторону лощины.
Солдаты, закончив работу, поели и, разморенные теплым солнцем, лежат около кустиков на шинелях. В окопе только Шиниязов – он дежурит.
Где-то глухо стукает артиллерия, глухо и непонятно: наши бьют или немцы. Разрывов не слышно. В кустах порхают серые маленькие пичуги.
– Эх… – глубоко вздохнул Симоненко, мельком взглянув вокруг.
Синий махорочный дым ползет от Тарабрина. Забелин не курит, он лежит на шинели боком, повернувшись лицом к кустам. Худые, костлявые ноги в широких голенищах, и весь он неповоротливый, угловатый, как подросток.
Говорить никому не хочется, все устали, желудки пока полны, сержант, слава богу, лежит спокойно рядом и не ищет им никакого занятия. Состояние такое, когда и не уснешь, и делать ничего не сможешь. Самое лучшее лежать вот так и глядеть вверх, на небо, на кусты, на ржаное поле, на все это знакомое родное раздолье.
Бросив цигарку, Симоненко вздыхает и тянется к вещевому мешку. Мешок старый, в масляных пятнах. Симоненко морщится, распутывая узел, что-то бормочет про себя. Но никто вокруг, кроме Забелина, не обращает на него внимания. Всем давно известно содержимое этого мешка. Белый кусок ткани, выданный недавно на портянки. Симоненко извлекает его из мешка и кладет аккуратно рядом. Чистая нижняя рубашка – как ему удалось утаить ее от старшины? Два носовых платка с зеленой каемочкой по краям, взятые еще из дому. Кусочек черного мыла…
Тарабрин косит глазом на растущую около Симоненко груду тряпья.
– Все боишься, чтобы моль не завелась?
– А как же. Чтобы моль… – добродушно отвечает Симоненко, доставая из мешка завернутый в газету и перетянутый крест-накрест резинкой пакет. Шуршит разворачиваемая бумага. В руках у Симоненко пачка писем. Замусоленные треугольники и конверты. Симоненко про себя читает адрес, потом не спеша разворачивает, нахмурив широкий лоб, сосредоточенный и серьезный, как будто эти письма он получил только сегодня.
Тарабрину поведение Симоненко кажется смешным, в другое время он бы, возможно, начал подтрунивать над товарищем, но сейчас он великодушно отворачивается, не желая разглядывать Симоненкину возню…
Зато в душе у самого Симоненко все тает и плывет в эти мгновения. Ему вдруг вспоминается вся прежняя жизнь, от которой он еще не отвык, ночуя по окопам, и он заранее готовится к молчаливому разговору с собой – о жене Лизе, о домашних делах – и радуется этому разговору, такому необычному здесь, на фронте, где стрельба да убитые.
Может, поэтому Симоненко и перечитывает письма, и все будто старается отыскать в строчках какой-то новый, недоступный ранее смысл. «Кузмичева с дочкой уехала в деревню». Может, Лиза и сама тоже не прочь уехать из города, только не решается прямо сказать об этом. «В цеху теперь начальником Романова, и мастерами тоже бабы поставлены». Ну и ладно, размышляет Симоненко. Сидите там, вкалывайте. Все же дома. Все же ты не ползаешь тут по земле, обдирая рожу, как зверь какой, не бьют по тебе из самолета сверху, в нормальных условиях существуешь, и ладно, и хорошо. От этих мыслей, обращенных к Лизе, Симоненко всегда делалось спокойнее, и он еще добавлял обычно к этому, конечно, тоже про себя: «Я ладно, я перенесу, я мужик. А вот бабе это никак нельзя…»
Когда Симоненко был на формировке, письма приходили чаще и почти все в конвертах. Пехотная часть их тогда располагалась недалеко от Внукова. Лиза писала, что работать стали в две смены, что Надюшку отправила к бабке в деревню.
А эти треугольники пришли уже позже, под Оршу. В Москве стало туго с продуктами, сообщала Лиза и горевала, что не заглянул, когда проезжал эшелоном на фронт. «Глупая баба! – возмущается Симоненко, – как бы он сумел заглянуть, если эшелон прошел ночью, не останавливаясь. Тут заглянешь под трибунал…»
Но в душе у Симоненко и сейчас еще живет то горькое чувство, которое он испытал, когда поезд по кольцевой перешел на Белорусскую дорогу. Они ехали тогда не в товарных, а в обычных пассажирских вагонах, и он стоял в тот момент в тамбуре и смотрел в открытую дверь, где мелькали в темноте июльской ночи дома и станции московского пригорода. Там, под Внуковом, – смешно подумать сейчас – война все еще казалась чем-то нереальным, кое-кто поговаривал, что вот еще недельку-другую – наши опомнятся и погонят немца обратно, а как погонят, тут и войне конец, и по домам их отправят. А когда эшелон с притушенными огнями миновал Москву, стало ясно, что войну им придется увидеть лицом к лицу, что без них тут не обойдется. И хоть что бы могла дать ему какая-то двухчасовая встреча с женой, с которой он прожил шесть лет, ну обнял бы напоследок, да ведь и сама Лиза за неделю до этого была у него под Внуковом, и гуляли они по лесу часа три и переговорили обо всем. А вот надо же, такое чувство, будто как раз этих двух, да какое там двух, хотя бы часа, хотя бы минуты и не хватает ему в жизни, не хватает последнего свидания с женой. Жил до этого и никогда не думал, какая это жизнь, она текла своим чередом, и все казалось устоявшимся и привычным, и брал он в ней все, что положено; и никогда не приходило в голову, что все это может оборваться, что будешь вспоминать и ругать себя за спокойствие в той жизни, за привычку вставать утром в уверенности, что и завтра будет такое же утро и рядом будет Лиза. Не было последнего свидания. А в той прежней жизни за ее обыденностью и суетой ему сейчас вдруг показалось что-то важное упущенным, упущенным по его вине, по какой-то непонятной, недопустимой халатности.
Симоненко складывает аккуратно письма, завертывает снова в газету и перехватывает пачку резинкой. Тарабрин откидывается на траву, тянется, жмуря с истомой глаза, чувствуя даже сквозь веки, как палит солнце. Что-то в этой палящей жаре, в этом ветерке, который лениво порхнет по лицу, открывается старое, совсем недавнее.
– Сейчас, кабы не война, – произносит Тарабрин медленно, не открывая глаз, – закатился бы куда-нибудь. Ни тебе окопов, ни выстрелов, ни этой лопаты… Иди куда хочешь…
– А куда тебе идти, Тарабрин? В пивную да в кино, – замечает с усмешкой Симоненко.
– А что же? В пивную не плохо, – отвечает спокойно Тарабрин и поворачивается на бок. – Я любил знаешь как? В воскресенье, например, пойти на целый день. – Тарабрин оживляется. – Дева, конечно, рядом. На острова там или куда. И чего захотел – водочки, пива, мороженое разное, на лодке покатались, в кино зашли. Чтобы все удовольствия были. Я каждый день, как другие грамм по двести – по триста паяют там на троих, я так не люблю. Раз в неделю, и чтобы все, что душа захотела.
Симоненко неторопливо складывает свое имущество в мешок. Лицо его непроницаемо, но где-то около губ таится усмешка. Селезнев и Тарабрин знают: сейчас будет спектакль. И сам Симоненко знает об этом, поэтому не торопится. Завязывает мешок, аккуратно опутывает горловину бечевкой, подтряхивает и поворачивает, оглядывая со всех сторон, потом лезет в карман за махоркой и начинает крутить козью ножку с таким видом, будто нет для него сейчас важнее дела, чем эта цигарка. Глаза его при этом опущены вниз, чтобы никто не видел их выражения. Но Селезнев, да и сам Тарабрин догадываются: сейчас Симоненко соображает, как лучше начать. Из всех присутствующих, пожалуй, только один Забелин воспринимает слева Симоненко всерьез.
– Эх, товарищ Тарабрин, – начинает со вздохом Симоненко, справившись наконец с козьей ножкой, – твое времяпровождение – самая настоящая пустота. Пиво, лодочка, дева… Для головы, – Симоненко внушительно стучит себя по лбу, – для головы ничего нет. Понятно тебе? Отсталый твой уровень, Тарабрин. Нет, чтобы каждую минуту поднимать его и каждое свободное время на это использовать, ты только брюхом занят. Понял? А ведь ты питерский, не из какой-нибудь там чухломы. С тебя пример должны брать, понял? – вздыхает горько Симоненко и снова затягивается цигаркой.
На лицах у Селезнева и Тарабрина блаженные улыбки: вот дает Симоненко. Откуда только набрался. А Симоненко доволен, окутал себя густо табачным дымом и, погасив в глазах хитрые огоньки, все больше и больше входит в роль.
– Нет чтобы на лекцию какую сходить, – укоряет он Тарабрина, – в планетарий на звезды и на разные светила посмотреть, книжку опять же можно в библиотеке интересную найти и девушку на этот счет просветить, он пиво хлещет… В культурном центре живешь, Тарабрин, пользоваться надо. Правильно я говорю, Забелин?
Забелин вздрагивает и недоуменно смотрит на Симоненко. Вопрос застал его врасплох. Моргая вылинялыми, белесыми ресницами, он растерянно кивает головой.
– Ну, вот и товарищ Забелин согласен, – продолжает удовлетворенно Симоненко. – Вот он тебе и сам сейчас скажет. Скажи, Забелин, ты по воскресеньям что делаешь?
Забелин переводит взгляд на Селезнева, потом на Тарабрина, хлопает глазами.
– В воскресенье? – задумчиво переспрашивает он. – У нас с двенадцати репетиция в театре была.
– Вот видишь, – вставляет тут же Симоненко, – уровень свой повышали.
– Так это же у них рабочий день, – серьезно возражает Тарабрин, зная, что теперь Симоненко не уймешь, а самое главное, чувствуя, что в этом спектакле козлом отпущения суждено быть уже не ему, а этому нескладному, неуклюжему Забелину. – В рабочий день я не говорю, – поясняет еще серьезнее Тарабрин. – А вот что он в выходной делал?
– Ладно, – соглашается снисходительно Симоненко. – Узнаем, что он делал в выходной день. Ты, Забелин, пиво пьешь?
– Нет, – отвечает простодушно Забелин.
– Вот видишь, – подхватывает Симоненко, метнув взгляд на Тарабрина. – А водку?
– Водку однажды выпил, – вспоминает Забелин и стыдливо улыбается. – После премьеры товарищи в ресторан позвали. Я и выпил. Да, видно, натощак. Рвало потом…
– Ну-ну, – строго смотрит Симоненко на Забелина, – зачем же ты?
– Да так получилось, – оправдывается Забелин, опуская глаза и совершенно смущаясь.
– Водку пить нельзя, – категорическим тоном заявляет Симоненко. – Яд. Это врачи говорят, и, значит, правда.
Забелин ерзает на шинели и глядит в сторону. Симоненко деловито притушивает в земле цигарку и, стараясь не выдать себя улыбкой, как можно добродушнее спрашивает:
– Так вот, что же ты в свой выходной делал, как время проводил? Это интересует.
– В выходной? – На лице у Забелина такая искренняя задумчивость, такое волнение и сосредоточенность, что ребятам становится не по себе. – С утра я немного занимался. У нас не заниматься нельзя, – поясняет он. – День не поиграешь – сразу пальцы другие.
– А потом?
– Потом на Волгу пойду, по набережной пройдусь. Недалеко там нотный магазин есть, покопаюсь, посмотрю, какие новые ноты пришли.
– Вот видишь, товарищ Тарабрин, – бросает сухо Симоненко. – А после магазина?
– После обеда, значит, – вспоминает Забелин, – мы у одного товарища собирались, квинтетом Баха разучивали.
– Это что такое – квинтетом? – спрашивает Тарабрин.
– Пять человек, значит, – объясняет терпеливо Забелин, – две скрипки, виолончель, кларнет и контрабас.
– Вы что, готовились куда? – добродушно допытывается Симоненко.
– Нет, никуда. Просто самим захотелось. Бах – это такая музыка…
– Видишь, – тычет рукой Симоненко в сторону Тарабрина, – Баха учили.
– Ну, а вечером? – торопит Тарабрин, которому, видно, уже надоел спектакль.
– Вечером в выходной я дома сидел, – говорит Забелин. – У меня мама больная, а я и так все вечера в театре…
– И чего же ты делал?
– Да по-разному. Книжку почитаю, по радио концерт передают – слушаю.
– Все правильно, – резюмирует гордо Симоненко. – Культурный выходной день, как и положено. И не в Питере человек живет, а в обыкновенном рядовом городе. Учитывать надо, товарищ Тарабрин. А у вас пиво, водочка, лодочки, дева…
– Болтун ты, Симоненко, – говорит Тарабрин и поднимается.
Солнце уже перевалило на другую сторону поля, туда, за лощину. Припекать стало меньше. У окопа на бруствере, прикрытом свежими ветками, сидит Шиниязов. Селезнев пристально смотрит на него, потом на окружающих.
– Да не надо, командир, – говорит Тарабрин, сообразив, что Селезнев собирается заменить Шиниязова. – Все равно, что здесь, что там – одинаково. А ему даже лучше. Ничего не слышит. А тут кричи ему каждый раз в ухо.
Селезнев молчит, о чем-то думает. Потом достает откуда-то из-под шинели новенькую полевую сумку, долго копается в ней.
– Значит, так, Симоненко, – произносит он, доставая из сумки тетрадь. – Пойдешь сейчас в полк, спросишь командира роты, не будет ли каких приказаний, заодно, может, дадут нам паек на завтра. Я тебе записочку напишу, забежишь в санчасть.
– Есть, товарищ сержант, – отвечает Симоненко, вставая с шинели и оправляя гимнастерку. – Все будет сделано.
Селезнев пишет на тетрадном листе, вырывает и складывает четырехугольником.
– Только не задерживайся. Понял?
– Чего мне задерживаться, – пожимает плечами Симоненко, явно довольный предстоящим путешествием. – Командира увижу, продукты получу и обратно…
О санчасти он почему-то не упоминает.








