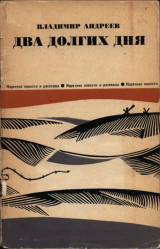
Текст книги "Два долгих дня"
Автор книги: Владимир Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
7
 Около семи часов Селезнев просыпается. Тарабрин уже не спит. А Симоненко встал раньше, под откосом у речки уже горит небольшой костер, и на нем в ведре греется вода. Поджав высоко, чуть не к подбородку, колени, спит рядом Забелин. Неподвижно над бугром окопа маячит нахохлившаяся фигура Шиниязова.
Около семи часов Селезнев просыпается. Тарабрин уже не спит. А Симоненко встал раньше, под откосом у речки уже горит небольшой костер, и на нем в ведре греется вода. Поджав высоко, чуть не к подбородку, колени, спит рядом Забелин. Неподвижно над бугром окопа маячит нахохлившаяся фигура Шиниязова.
Селезнев и Тарабрин, накинув на плечи шинели, спускаются по откосу к реке и, поеживаясь от утреннего холодка, садятся на корточки перед костром.
Порозовевшее небо, пронизанное нитями солнечных лучей, поднимается медленно на горизонте. Темная вода, влажный блеск кустарника.
Симоненко, щуря от дыма глаза, подкладывает в костер сучья, приговаривает:
– Сейчас глотнем кипяточку, погреемся…
– Был такой случай, – вдруг говорит Тарабрин, поглядывая на воду. – У нас в аэроклубе одна девка на парашюте в реку спустилась. Ей надо бы на поляну, а она не сумела и в реку, – он качает головой и хмыкает.
Симоненко смотрит на него, хочет что-то сказать, но его отвлекает ведро. Палкой он поправляет горящие сучья и ругает старшину, который вчера не дал ему заварки для чая.
– Жмотистый старшина… Небось для начальства бережет. – Симоненко снова глядит на Тарабрина. – Девку-то вытащили из реки?
– Чего ее тащить. Сама выплыла, – отвечает Тарабрин.
С откоса, неловко цепляясь руками за сучья, то и дело оступаясь, спускается Забелин.
– Ну, вот, – хмурится Селезнев, – все оставили позицию. Случись что…
– Да там Шиниязов, сержант. Чего может случиться? – говорит Тарабрин.
– Глухой же он, – сержант машет рукой. – Ладно. Кажется, закипает твой чай, Симоненко. И давайте все наверх.
Симоненко снимает с костра ведро, ставит его в сторонке и ногой пинает головешки в реку, потом зачерпывает кружкой воду, льет на угли. Белый дым ползет по кустам.
Все поднимаются на обрыв и присаживаются на плащ-палатку. Симоненко быстро делит сухари, режет сухую, твердую колбасу. Потом каждый берет свою долю и, черпнув кружкой в ведре, начинает есть.
Тарабрин с хрустом откусывает сухарь, запивает его, обжигаясь кипятком. Забелин сначала макает сухарь в кружке, потом аккуратно подносит его ко рту, облизывает. Наморщив широкий лоб, шумно дует на кипяток Симоненко. Только Селезнев не торопится, кружка стоит рядом, а он сидит и курит, задумчиво устремив взгляд в сторону.
Едят молча, как люди, привыкшие не тратить много времени на подобную процедуру, поглощенные к тому же мыслями о предстоящем дне, в котором все – сплошная неизвестность.
– В Ленинграде, говорят, хлеб начали по норме выдавать, – произносит Тарабрин каким-то приглушенным голосом.
Ему никто не отвечает.
После чая пыхтят самокрутками. Млеет, просыпаясь от солнца, земля.
– Забелин, подмени Шиниязова, – говорит Селезнев.
Забелин встает, поправляет ремень и шагает к окопу. Все смотрят ему вслед. Они видят его выступающие под гимнастеркой лопатки, косолапую, нескладную походку, широкие голенища сапог, шаркающие друг о друга. Симоненко качает головой и собирается что-то сострить по поводу Забелина, но не успевает. «Трах! Tpaxl Трах!» – стучит на переправе. Бьют зенитные орудия. И тут же до слуха доносится тяжелое урчание, в синем утреннем небе ясно обозначились точки – одна, вторая, третья, четвертая…
– Летят, сволочи, – шепчет Симоненко и привстает.
– Давай в окоп! – приказывает сержант.
Накатный злой звук усиливается. Уже видны широкие кресты на фюзеляжах. Машины идут плотно, одна за другой.
– …Восемь, девять, десять… – считает Симоненко.
Сухие выстрелы зениток, захлебывающаяся трескотня пулеметов. А они идут, идут. Вот первая тройка самолетов разворачивается для захода – и сразу же в воздухе заныло по-жеребячьи, качается земля, серия отхаркивающихся, дробящихся звуков заполняет все. Самолеты, выйдя из пике, делают разворот, на их месте теперь другие. Земля дрожит, реже и реже бьют зенитные орудия, и только трескотня пулеметов неистовствует.
Клубы черного дыма повисают на том месте, где находится переправа. Селезнев неотрывно смотрит туда сухим, остановившимся взглядом. Самолеты, отбомбившись, разворачиваются и уходят на запад.
– Хотя бы тройку истребителей! – кричит зло Тарабрин.
– Ай-ай, проклятый Гитлер!.. – тянет Шиниязов и шагает к обрыву, где на плащ-палатке лежит его завтрак.
Селезнев отводит взгляд от плывущих дымов на переправе, и вдруг глаза его жестко щурятся. Он кричит на Забелина:
– Ты куда смотришь? Тебя что – за воздухом просили смотреть? Ворон считаешь… А ну!..
Забелин растерянно моргает выгоревшими ресницами, хочет что-то ответить, но ничего не говорит. Поворачивается в окопе и глядит в сторону лощины.
8
 Симоненко после странного окрика командира подходит к пулемету, проверяет диски, щелкает затвором. Глядя на него, Тарабрин тоже находит себе дело – передвигает ветки на бруствере, чтобы лучше была маскировка. Селезнев сидит неподвижно на краю окопа и курит. Уже рассеялся дым на переправе, давно замолкла стрельба, а он хмурится, сидит и курит.
Симоненко после странного окрика командира подходит к пулемету, проверяет диски, щелкает затвором. Глядя на него, Тарабрин тоже находит себе дело – передвигает ветки на бруствере, чтобы лучше была маскировка. Селезнев сидит неподвижно на краю окопа и курит. Уже рассеялся дым на переправе, давно замолкла стрельба, а он хмурится, сидит и курит.
Так же, как и вчера, день обещает быть теплым. После взрывов, рева моторов, пальбы простирающееся впереди безмолвное поле, сияющее солнечными бликами, кажется чужим, непривычным. Селезнев вспоминает разговор с Тоней. Последние напряженные дни, когда полк отходил, сказались. Тоня не подавала виду, и посторонний едва ли мог заметить, но он, Селезнев, все видел – и опавшие щеки, и морщинку у губ, и какую-то серьезность в глазах, которой раньше не было. «Достается девчонке, чего там, – думает он, – одного страху сколько натерпишься. А работа какая… Мы, мужики, и то теряемся». Ему припомнилось, как дней пять назад, когда они занимали позицию у какой-то деревушки, немец страшно обстреливал, и солдату, который лежал с ним рядом, оторвало ногу чуть повыше колена. Осколок, словно пилой, перерезал кость, нога держалась на какой-то непонятной жилочке. Он помнит, как стало бледнеть, а потом покрываться серой синевой лицо солдата, помнит собственную суетню около раненого. Почему-то не удавалось наложить жгут, бинты не слушались… Всех смущала нога раненого, обутая в кирзовый сапог, и, хотя она держалась на единственной жилочке, однако никто не решался перерезать эту жилочку, как будто в ней еще таилась какая-то надежда на восстановление всей ноги. Помнит внезапно появившееся рядом лицо Тони, стиснутые губы и ушедшие в себя глаза. Маленькие руки Тони торопливо орудовали бинтами, нагромождая их на голень раненого, перерезать ту единственную жилочку Тоня, однако, тоже не решилась.
Вчера, когда Селезнев пошел провожать Тоню, ему так хотелось побыть с нею наедине, но он специально выбрал место на взгорке поблизости от ребят, чтобы они видели и чтобы никому из них не пришло в голову что-нибудь плохое о Тоне. Обидеть ее, такую беззащитную, это казалось Селезневу невероятным.
Вчера же Тоня смущенно сказала, что очень боится, когда стреляют или бомбят, так боится, что сердце вот-вот разорвется на части.
– Все боятся, – сказал тогда Селезнев, чтобы поддержать ее. – Это только так кажется со стороны, что у другого никакого страха. А на самом деле душа в пятках.
– Ну, не скажи, – возразила она. – Наш командир роты, например, так не переживает. Я сколько раз видела: кругом стрельба, впору только голову пригнуть, а он будто не замечает. Еще на других кричит…
– Так ведь и ты, Тоня, когда тебя касается, как будто ничего не замечаешь. Помнишь, с этим раненым, под таким обстрелом прошла.
– Ну, подумаешь, – протянула Тоня. – Нет, я все же не из храбрых и себя за это часто ненавижу. Мы ведь воюем, – помолчав, добавила она, – немец вон куда дошел, как же тут бояться. Тут нельзя бояться, а то он будет идти дальше и дальше. Я все это понимаю, а вот справиться с собой пока не могу. Как начнут стрелять, так у меня все дрожит… И мама у меня тоже трусиха. Я просто не представляю, как она там. В газетах писали, что были налеты на Москву, а где упали бомбы, на каких улицах, неизвестно. Просто не представляю, что с ней творится.
– В Москву, Тоня, не допускают, – сказал категорическим тоном Селезнев. – Так, прорвется один-другой. Заслон там воздушный поставлен. Все же Москва, это надо понимать…
Весь этот вчерашний разговор звучит в ушах Селезнева, он вспоминает, как проводил ее до половины пути, как вынула Тоня из санитарной сумки пачку «Беломора», как протянула ему руку, как шел обратно, овеянный незнакомой, непонятной радостью, и будто вокруг ничего не было – ни выстрелов, ни окопов, ни полыхания далеких ракет, а были только он и Тоня.
То было вчера. А сегодня?
Пристально смотрит Селезнев на изгиб луга у реки. Вон шагает вдали, чуть пригнувшись, цепочка солдат. Солдаты всходят на холм и скрываются за бугром. Двое из них несут на плечах ящики с противотанковыми бутылками.
– Танков ждут, ворчит позади Симоненко. – Догадались ли заминировать?
– Без нас с тобой, Симоненко, наверно, не сообразили, – отвечает Селезнев.
– Нет, правда, сержант, – бросается в объяснения Симоненко. – Мы же ничего не знаем. Вот лощина, а танк может обойти – и на нас. Орешки грецкие получатся…
Селезнев молчит. Он опускается в окоп, подходит к пулемету, смотрит на запасные диски, патроны. Взгляд его изучает взгорок справа, за которым должны находиться пэтээровцы. Тишина вокруг необычная – ни звука, ни выстрела. Солнце уже бьет им в глаза, и синева неба бледнеет под его лучами. Обрадовавшись наступившему дню, где-то рядом в траве стрекочет кузнечик. Этот звук после недавнего грохота бомб и воя моторов тоской отдается в сердце. Тарабрин и Забелин, насупившись, слушают стрекот кузнечика, и только контуженный Шиниязов равнодушен к этим звукам. Он сидит на бруствере, расставив широко ноги, и мнет сосредоточенно в узловатых, задубелых руках с пожелтевшими от табака пальцами комья земли. На длинном, заросшем седой щетиной лице его мелькает какое-то оживление. Узловатые руки мнут землю, а взгляд нет-нет да и скользнет по ржаному полю.
– Не богата кормилица, – говорит он ни к кому не обращаясь. – Делов много требует…
– Каких делов? – спрашивает громко Тарабрин. Спрашивает так, без интереса, лишь бы что-то сказать.
– У-у… – тянет Шиниязов, почесывая грязной рукой щетинистую щеку. – С утра до утра работай…
– Зато зиму с утра до утра спи, – кричит Тарабрин.
Шиниязов косит на него глазами и машет рукой. Он не настроен разговаривать с несерьезным человеком.
– С утра до утра – это только на войне, – не унимается Тарабрин.
Но Шиниязов будто его не слышит. Он снова мнет в пальцах землю, скользит оживившимся взглядом по ржаному полю и продолжает:
– Землица неважная… глины много. А народ живет справно, – говорит он с удовольствием сам себе. – Домок – пятистенка. Баньку каждый имеет…
Когда, отступая, проходили деревнями, никто на это не обратил внимание. А Шиниязов заметил.
– А у вас что? – кричит снова Тарабрин. – На всю деревню одна банька?
– Зачем одна, – крутит головой Шиниязов. – У нас большой бань есть, хороший бань, теплый. Вода сколько хочешь, пар сколько хочешь, шайка чистый…
Тарабрин удивленно смотрит на Шиниязова и, мгновенно сделав серьезное лицо, вдруг спрашивает уже другим тоном:
– Слушай, Шиниязыч, ты в Москве бывал?
– Далеко от нас, – качает головой Шиниязов.
– А в Ленинграде?
– Тоже шибко далеко.
– Ну, а в городских банях ты бывал?
– Когда ехал в Казань, в казарме ночь спал, потом в баню водили. Плохой очень бань, грязный, плохой. Наше село лучше есть бань…
Тарабрин громко смеется.
– Ты чего? – сердится Шиниязов. – Я правду говорил. Наш баня лучше.
– В вашем селе самая лучшая земля, самые хорошие бани, – снова, меняя тон, говорит Тарабрин. – А еще что?
– Еще? – с искренним чувством задумывается Шиниязов и тут же, сияя: – Кони еще очень харош…
Селезнев сидит по другую сторону окопа, он слушает и не слушает разговор солдат. Что если бы так все остановилось, замерло – и ушла бы в неведомую пропасть война. И не надо бы беспокоиться, ждать… Он сразу обрывает себя – нет, не может так все остановиться. Куда немец зашел! А он еще прет и прет. Нет, тут, видно, надолго, тут придется хлебнуть…
В уши назойливо ползет разговор солдат.
– Ты, думаешь, животная, так и глупая? – рассуждает Шиниязов про лошадей. – А она есть которая умней нас. Она очень хорошо все сознает. Плохо тебе, плачет, слезы у ней, как у человека, а если тебе хорошо – конь тоже настроение показывает, в шею тебя лизнет, все, как у человека, только говорить не умеет…
«Ну, ладно, надо делом заниматься», – думает Селезнев и, привстав, прыгает в окоп.
– Шиниязов! – кричит он. – Где твоя винтовка? Поди сюда.
Симоненко толкает в бок Шиниязова, показывает на командира, тот спускается в окоп и смотрит внимательно на сержанта.
– Видишь деревцо, – говорит громко Селезнев. – Вон, метров сто двадцать отсюда? Ну-ка ударь по макушке.
Шиниязов, сгорбившись, долго и напряженно целится. Раздается выстрел – один, второй. Макушка ольхи, вздрогнув, медленно падает.
– Подходяще, – произносит тихо Селезнев, качнув головой, и разглядывает внимательно Шиниязова.
– Не волнуйсь, пожалуйста…
Селезнев опять кивает головой и уже смотрит пристально на Забелина. «Попробовать и этого, что ли?» – думает он, но вслух произносит другое:
– Симоненко, смотри тут. Я к соседу наведаюсь.
Потом он с минуту стоит молча, прислушиваясь, стараясь понять что-то свое, и ни на кого не глядит. Проходит по окопу в ту сторону, где лежит оружие, берет немецкий автомат, который пять дней назад достал в бою, и, выпрыгнув из окопа, направляется в сторону бугра, где, как сказал командир роты, стоят пэтээровцы.
И едва он скрывается за бугром, как с противоположной стороны, у золотистой грядки прибрежных кустиков, показывается переваливающаяся под тяжестью ноши неуклюжая фигура.
9
 – Ты чего? К нам? – спрашивает Симоненко рыжего, уже в годах солдата в бурой от пота гимнастерке. – Пополнение?
– Ты чего? К нам? – спрашивает Симоненко рыжего, уже в годах солдата в бурой от пота гимнастерке. – Пополнение?
Солдат крутит головой и складывает на землю свою ношу: ведро – из одной руки, мешок – из другой, мешок с плеч. Последним снимает карабин. Сумрачно вздыхая, присаживается на землю.
– Где командир?
– Ушел, – отвечает Симоненко.
– Кто за него?
– Я.
– Ты? Ну, вот принимай. Тут продукты, гранат десять штук и бутылки танковые…
– Игрушки, – хмыкает Симоненко.
Солдат строго смотрит на Симоненко, потом обводит глазами товарищей, говорит глухо:
– Наделал нам немец… Переправа в прах. От зенитчиков рожки до ножки. И в полку тоже… – Он минуту раздумывает, шарит в кармане, ищет табак. Симоненко подставляет ему пачку. – Командира роты ранило, старшину наповал и потом военфельдшершу эту…
– Воробьеву? – ахает Симоненко.
– Вот ее. Она как раз ротного перевязывала, а осколок ей в грудь. Пожила минут двадцать…
Тарабрин хмурится. Симоненко глядит на солдата, будто не верит ему, потом, спохватившись, поднимает глаза на бугор и быстро отводит их. У Забелина на лице страдание. Только Шиниязов не сразу понимает, о чем говорят, а когда узнает, обхватывает по-бабьи голову руками и начинает причитать: «Ах, сволочь, ах, гад, что же он делает…»
Солдат морщится и бросает окурок.
– Мне велено назад сейчас же, – обращается он к Симоненко, – а ты передай сержанту: значит, гранаты и бутылки тут. Ведро я возьму, – он высыпает на траву из ведра консервные банки, мешочек с крупой, подтягивает на гимнастерке брезентовый ремень и, постояв с минуту, снова повторяет: – Сейчас же велено обратно.
– Так чего тут, – делает удивленное лицо Симоненко. – Иди, конечно. Я все передам.
– Ну, смотри, – непонятно о чем предупреждает солдат и, подхватив ведро, ковыляет через луг к тропинке, что тянется вдоль речки.
Оставшиеся молча стоят и смотрят ему вслед.
Первым приходит в себя Симоненко.
– Слушайте, – он морщится и глядит снова на бугор, – сержанту насчет Тони ни слова. Понятно? – Он обводит всех сощуренными глазами. – Слышишь, Шиниязов, – повторяет он громко и опять морщится. – Передай ему, Забелин, не могу я так орать.
Забелин говорит громко, в ухо Шиниязову, тот часто кивает головой.
– Ну, вот, – тоном старшего произносит Симоненко. – А теперь давайте разберем гостинцы, что тут нам принесли. – Он склоняется и выкладывает содержимое из мешков. Гранаты, бутылки, патроны. – Давайте все это, ребята, в окоп, – и сам первый, подхватив несколько гранат, направляется туда.
Тарабрин искоса глядит на Симоненко, в серых, чуть выпуклых глазах его тяжелая сосредоточенность.
– Забелин, – говорит он глухо, – иди помоги, я за тебя понаблюдаю.
Забелин покорно встает и шагает к Симоненко.
– Бери лопату, – командует тот, – здесь надо нишу вырыть. И здесь, – он тычет носком сапога в стенку окопа. – Чтобы под ногами не путались эти игрушки.
Возбуждение овладевает ими. То возбуждение, которое возникает вблизи опасности, когда каждый ясно осознает – надеяться можно только на себя – и когда любое дело, любое действие хоть ненадолго, но приглушает мрачные раздумья. Гранаты, бутылки, патроны – один этот запас смертоносного материала отчетливее всяких слов говорил о том, что им предстоит и какую надежду на них возлагают.
– Ты вот что, – Симоненко дергает за рукав Шиниязова. – Вот проволока. По три гранаты вместе? – Он едва уловимым движением ловко разрывает проволоку, натренированные руки его мелькают. – Вот как, видишь? Вот… – приговаривает он.
Из окопа на бруствер летят комья земли, слышится стук лопаты. Голова Забелина то поднимется над окопом, то опустится. Выбросив несколько лопат, он делает паузу, отдыхает, а после отдыха бросает землю часто-часто. Симоненко, проходя мимо, хватается за голову.
– Ты, музыка! – кричит он на Забелина. – Соображаешь, на маскировку землю. Снял бы вначале.
Забелин вытирает рукавом пот и смотрит на комья желтой земли, придавившие зеленые, чуть присохшие лапки ольхи.
– Я принесу другие, – оправдывается Забелин.
– Принесу, – передразнивает его Симоненко. – Смотреть надо…
За этим занятием и застает их Селезнев.
Сержант идет от бугра спокойным, медленным шагом. Все видят его крутоплечую ладную фигуру, освещенную теплым солнцем, и все начинают усиленно копошиться, стараясь быть при деле. Только Тарабрин неподвижен. Уставившись в сторону лощины, он о чем-то думает.
– Там порядок, – говорит сержант, обращаясь к Симоненко, и кивает на бугор. – Правее пушечки стоят, а рядом, поближе к нам, бронебойщики окопались.
Симоненко делает вид, что очень занят гранатами. Лицо его напряжено, глаза сухо блестят.
– Приходил тут посыльный из роты, – сообщает Симоненко, бросая короткий взгляд на сержанта. – Натворил там немец делов… Переправу порушил, командира роты ранило… Вот гостинцев подбросили нам, чтоб, значит, нужды не было…
– Понятно…
Селезнев по-хозяйски осматривает гранаты и бутылки, проверяет, куда это все складывается, удовлетворенно кивает: «Все верно».
Солнце уже совсем высоко. Со стороны переправы снова доносится гудение. Батарея тяжелых орудий открывает огонь. Разрывы не прослушиваются. Видно, далеко куда-то бьют орудия, только раза два над головами солдат со свистом и ветровым шорохом проносятся снаряды. Селезнев присаживается на бруствер, снимает фуражку, подставив голову под солнцепек. К нему подходит Шиниязов, пригнувшись на корточки, открывает ситцевый, в белую и желтую горошинку, кисет. В кисете духовитая махорка, смешанная с легким табаком.
– Спасибо, Федор Капитоныч, – отвечает Селезнев, сам не зная, почему вдруг назвал солдата по имени и отчеству. – Не хочу сейчас курить…
– Тогда разреши я тебе, товарищ сержант, автомат почищу, – предлагает Шиниязов.
– Да нет, не нужно, – говорит Селезнев и, чтобы не обидеть солдата, добавляет: – Его чистят редко. Можно целый год не чистить.
Шиниязов стоит в раздумье, потом спускается в окоп.
Через некоторое время он возвращается, неся в руках лоскут белой плотной материи.
– Подворотничок хороший, товарищ сержант. Тебе как раз. Давай пришью…
Селезнев смотрит удивленно на Шиниязова и улыбается.
– Вот не знал, что ты такой беспокойный, Шиниязыч, – говорит сержант мягко. – Ты отдыхай, пока есть время. Воротничок сойдет и старый…
– Я и так отдыхаю. Уже несколько дней отдыхаю. Ты не волнуйся об этом, – смущенно бормочет Шиниязов. – Воротничок, думаю, все равно лежит, а тебе как раз…
Селезнев молчит, и Шиниязов снова уходит от него.
Батарея на противоположном берегу стукает все чаще и чаще. Но свиста снарядов над головой они по-прежнему не слышат. Видно, артиллеристы стреляют теперь в другую сторону. Селезнев до войны два года на действительной прослужил и в разных учениях участвовал и знал, как должно действовать отделение, когда противник наступает, и когда надо броситься в атаку. А сколько на этих учениях они разных высоток брали и в траншеях вели «боев», а на плацу за штыковые приемы ему всегда благодарность объявлялась. Все было там аккуратно и точно: и танки с авиацией вовремя появлялись, и артиллерия была, как в настоящем бою, и связь, телефоны разные и переносные рации были. А тут он ничего не поймет. Полк чуть не от самого Минска идет, только закрепятся где-нибудь и немца отобьют – команда: отойти. «Перегруппировка, выравнивание фронта» – эти слова он слышит часто, но смысл их ему не всегда понятен, потому что, командуя стрелковым отделением, он, конечно, не может представить эту линию и все, что на ней происходит.
– Не проголодался, сержант? – спрашивает из окопа Симоненко. – Может, закусишь?
– Что ты меня спрашиваешь, – отвечает Селезнев. – Как ребята…
Симоненко ныряет снова в окоп и через некоторое время появляется с плащ-палаткой. Аккуратно расстилает ее перед сержантом, ставит две банки консервов, сухари, кружку.
– Может, подогреть консервы?
– Зачем? Не надо.
– Чай сейчас будет.
– Ладно. Давай ребят сюда.
– Хлопцы! Кончай работу…
Досказать Симоненко не успевает. Тю-у… – свистит в воздухе, и тут же слева от окопа, метрах в двадцати, возникает черный земляной столб, хрякающий знакомый звук разрывает тишину.
– В окоп. Все в окоп! – кричит Селезнев, вскочив. Около ног его цепко и ловко Симоненко свертывает плащ-палатку. И не уходит в окоп до тех пор, пока сам сержант не прыгает туда.








