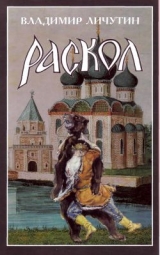
Текст книги "Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Алексей Михайлович горестно вздохнул, почувствовал, что окончательно промочил ноги, вернулся на склон веретья и, пересиля гнев Исусовой молитвой, направил дозорную трубку в супротивную сторону. Он увидел, как потекли в приказное место сокольники, и пешие псари, и приказчики, как упрятывались в шалаши птичьи охотники, чтобы напоследях, когда стихнет, настрелять дичи к царскому столу. Но что это? из урочища, с залитых талой водою болот слетела цапля и направилась на охотничью ватагу, несуразно протянув ноги, похожая на саранчука, нелепая и вроде бы совершенно беспомощная птица. Но государь-то добро знал, какой у цапли верх и беспощадный удар, и разящий вспарывающий клюв, и когда кречета в науку пускали на цаплю, то прежде ей надевали на клюв деревянный футляр для обережения драгоценного сокола, за коим, быть может, не один месяц блуждали помытчики по тундрам и лесным засторонкам.
И вдруг незнаемый прежде поддатень посунул белого кречета с рукавицы вслед цапле. Царь видел, как ярился Табалин, грозил помощнику. Обыкновенная охота шла по росписи, каждый шаг был достоверно указан царем самолично, и нельзя было отступиться от заведенного обычая во всякой мелочи под страхом сурового правежа и тюрьмы. А тут, ишь ли, сыскался такой смельчак, что самому государю впоперечку. Ну, алгимей, ах б… сын! – невольно вскричал Алексей Михайлович, не отрываясь от зрительной трубки. Но тут же позабыл свой гнев, не оглядываясь, поманил пальцем боярина Морозова; лицо его рассиялось, и все громоздкое, приземистое тело, утонувшее в широком дорожном кафтане, подбитом лисами, вдруг потонело и приняло легкость.
«Это ж Гамаюн… Истинная царь-птица! Я не видал такой допрежь», – бормотал царь, не заботясь, слышит ли его боярин.
Цапля, почуяв разбойника, на удивление споро пошла вверх, а кречет, слегка осторонясь, как гончак за зайцем, без натуги, казалось бы, с ленцой упираясь крылами, взмыл следом на самое дно приголубленного неба; они взбирались кругами все выше и выше, пока почти вовсе не исчезли из глаз, и только острый приимчивый взгляд государя находил в щемящем просторе два просяных зернышка, соединенных меж собою невидимой вервью. Такого верха достигает редкий кречет. Гамаюн встал в лету и принакрыл как бы цаплю сверху, и тогда они стали падать с неуловимой быстротою: над землею кречет мякнул, заразил цаплю в голову и тут же отпрянул, ибо птица щелконула клювом, как кузнечными ножницами. И снова Гамаюн взнялся вверх для новой ставки, чтобы зависнуть над добычею, и как бы случайно, легко осадил в скользящем полете цаплю, оседлал сверху, ткнул ее в хребтину, вырвал щепотку перьев и отвалил в сторону… Этот кречет еще и куражился, он вроде бы покидал жертву, миловал ее, уходил прочь, размываясь в небе, так что сокольники пугались, что он собрался утекчи, но, делая круг по-за лесами, он снова настигал добычу и с какой-то холодной, безжалостной яростью долбил и долбил ее в зашеек, как долотом. Да, это был великий воин, каких поискать, и с великим верхом.
Он гнал жертву свою версты с полторы и затюкал над сырым урочищем, над самым ее гнездовьем, и на двадцатой ставке смертельно заразил ее и, уже не выпуская добычу из когтей, упал вместе с нею в чернолесье. И все служивые, забыв всякий свое дело, сбились в ватагу и заломили головы, и переживали с тем азартом, что свойствен лишь соколиным охотникам, ибо эта потеха самая благородная, тут нет счету добыче, но тут чувствуют душою, тут азартничают, и сам полет кречета, его недостижимые верхи, когда он почти размывается в небесной молочной сыворотке, резвость и удар птицы доставляют сердцу столько неизъяснимой радости, кою не заменит никакая крупная добыча, взятая тенетами, засадой иль пищалью. Ибо красотою живет птичий охотник, и ей, красоте, предан всякий чин, от младшего кормленщика и стойлового конюха до великого государя. Здесь в полевой охоте, несмотря на всю строгую роспись устава, они братовья по чувству, и сердца их бьются удивительно воедино, без сбоев и ревности.
Это уж когда перекинулась цапля и Гамаюн свалился с нею, набивая зоб пером и кровью, и Любимко торопливо поскакал в ивняки, чтобы перенять, повабить кречета, тогда, быть может, некоторые и позавидовали Парфентию Табалину, что он и на старости лет, у края могилы, заимел такую птицу во власти и перехватил государеву любовь на себя. Охотники долго не могли остыть, да и сам царь распалился жаром и все домогался до боярина Морозова, искреннего, запойного охотника, кричал: «Ты видел, каково ен мякнул?.. Ссадил, как свея на пику. Ты посмотри, Борис Иванович, двадцать ставок, да таким верхом. Думал, утечет. Уж все… Ах ты, думаю». – «Добрая, добрая птица, ничего не скажу, – соглашался Морозов, радый, что так все ладно сложилось и сладко умаслило царя. Иначе бы нуда сплошная целый день пробыть возле угнетенного государя. А тут сам Господь поноровил. – А ты помнишь Кизилбея моего?» – «Чего там помнить? Пред Гамаюном курица», – нахмурился государь, крапивные пятна проступили на скулах, перешибая загар.
Морозов отъехал, обидчиво померк, но скрепил душу, чтобы не связываться в пустой пре. Царь тут же и обернулся, вроде бы почуял пустоту справа, отыскал взглядом боярина, увидел его кислое лицо с зернами табака на короткой скобе усов. Засмеялся, тут же отмякая: «Слышь, Бориско Иваныч! А ну велика отпустить нам водки! – Ишь надулся, как мышь на крупу, как жид на свиное ухо». Споро подкатил стольник с крытым поставцом, отомкнув дверцу, достал чары, тут же налил и отпил из своей.
«Ну, с доброй охотой, дядько! Ой увеселил! – чокнулся с боярином, лихо выпил. – Не кисни… Помню твоего Кизил-бея. Добёр был махметка».
Тут подъехал подсокольничий и первый сокольник Парфентий Табалин, а сзади, держа на рукавице кречета, и Любимко. Алексей Михайлович нахмурился, гроза пробежала в очах его: «Худо пасешь, Хомяков. Даве струнил тебя и сейчас скажу. Иль на правеж тебя? И ты, Парфентий, никуда не гож, даешь послабки. А ну ты, неслух!» – государь поманил Любимку пальцем из-под солнешника, измерил его взглядом. Глаза у царя были медовые, и темно-каштановая, счерна, борода кудряво пласталась на груди, на рыжих лисах, и дикий собачий мех с белесой искрою казался чудным продолжением ее. И снова царь был иным. Не сводя с государя любящего взгляда, Любимко зачарованно тронул лошадь, хлюпая, перевалил через проточину. Хомяков перехватил гнедка за удила, означил место, где стоять поддатню. Любимко спешился, содрал шапку, отбил поклон.
«Дарык чапу, врести дан… Дай птицу-то, дай сюда! Экий ты выскеть», – повелел государь. Любимко и не понял, что говорят ему.
Хомяков ловко насунул на десницу государя полевую рукавицу, перенял кречета от замешкавшегося поддатня и с поклоном поднес царю. Алексей Михайлович перекрестился, с давний навыком властно прихватил кречета за опутенки, усадил на руку, погладил по взгорбку, широкой ладонью приобжимая на горле пуховое ожерелье. В прорези клобучка глаза птицы горели, как два янтаря в малахитах.
«Кто вынашивал птицу?» – строго спросил государь, вблизи приценивая полярного владыку, его стати, и остался доволен.
«Любимки Ванюкова, двинского помытчика, привоз. Сам и вынашивал дикомыта», – ответил Хомяков.
«Это он, что ли? – кивнул государь на Любимку. – И что, там все такие ослушники и поперечники? – Кречет угрозливо загорготал, заскрежетал клювом, забулькал зобом. Царь слегка отстранил тяжелую птицу, стережась сполошного удара махалок – Ой, страшный, ой, боюся! – вдруг засмеялся он, и все охотники тоже засмеялись. – За стойную охоту, за великодушество велю выдать пятнадцать рублев на кафтан… А за самовольство и самохвальство отпустить пятнадцать плетей в науку. Но ежли и в другой раз провинится, то и в чепи. Чтоб неповадно было мудрствовать…»
Охота споро сбилась в ватагу, через луговину и по замежкам оттаявших полей гуськом тронулась в весь Тюхали на кушанье.
Вечером, уже в селе Покровском, в конюшне царского путевого Дворца выдали Любимке не жалеючи пятнадцать плетей для острастки. Любимко поднялся с лавки, натянул портки, встряхнулся, поклонился приказчикам и сказал без осердки, скалясь толстогубым ртом: «Спасибо, мужички, добро поучили… Ну и слава Богу, что не позабыл меня…»
Глава третья
Царь по привычке встал рано; помолился в походной церкви, сам прислуживая дворцовому попу. Душа радела от давножданного покоя, казалось бы, особую милость получил Алексей Михайлович от Господа за долгие старания. В этой тишине все мирское померкло, и монашеское уединение показалось счастием. И то, что польскую корону настоятельно обещивают, и своей отступился, затих в берлоге, и немец поклонился Ригою, и Белая Русь наконец-то развесила свои рушники на Московской Заступнице, – все это показалось вдруг настолько неважным, что государь даже подивился в мыслях, что вот эти заботы и томили, досаждали ему столь долгое время…
Он вернулся в брусовую опочивальню, больше похожую на келеицу, жарко вытопленную с вечера, распахнул окно. Влажно потянуло с воли, глаза скоро привыкли к предутренней темени, и царь понял, что ночь сдвинулась, с востока небо слегка прираскрылось, как речная раковина, и там перламутр смешался с нежной зеленью и морошковым соком. Отчего-то в эти минуты особенно проникаешься, что Господне око всечасно зрит за тобою, а ты столь мал, беззащитен и грешен, что Бога-то зовешь в подмогу с особой страстию, как осиротевшее дитя у гроба родимой маменьки.
Вскричала тревожно выпь у болотца; проблеял чибис над польцом; простригли со свистом чирята стайкой и хлопнулись на ближний прыск, отсвечивающий в подугорье мутным бельмом; забормотали, загулькали тетерева, головешками развесились по березам о самый край селитбы, их токованье просквозило улицу, подняло звонаря, и он торопливо раскачал колокола у церкови, зовя богомольников на утренницу.
Господи, хорошо-то как, будто при молитве. Да пусть не кончается это утро. Но чу! Где-то далеко всхлопали двери в деревянном дворце, многий служивый люд зашевелился в клетях и подклетях, в повалушах и чуланах, зачмокали по полу босые ноги, пролилась из кувшина вода в таз, заскрипели ворота – это сменилась караульная вахта; стольники друг за дружкою, ежась от утренней мозглети, бежали по двору в заход, их белые сорочки влажно светлели на площади, когда они сбились гомонливым гусачьим стадом, уже не боясь нарушить тишину. Царь, улыбаясь, отступил внутрь спаленки, чтоб не заметили надзора, а служивые мельком нет-нет да и взглядывали на государево окно, гадали, стережет ли царь; им так не хотелось спускаться под горушку, где с осени была вырыта иордань, сейчас всклень налитая снежницей, с глинистыми скользкими берегами, забродить в воду по окати, оскальзываясь, с замиранием в груди; и вот в эту купель надо было каждый день погружаться, ибо так постановил государь; а кто ловчил, избегал купанья, тех до брашна не допускал. Ну Бог с ней, с ествою, можно перехватить и на кухне у стряпухи, стянув оковалок вареной говяды иль ломоть от свиного стяга…
Но в потехах лесовых, в охотничьих ватагах и в путях богомольных в монастыри государь слуг своих – стряпчих, и стольников, и городовых дворян, и боярских детей, и начальных сокольников, и стремянных, – по обыкновению, сажал за един стол, и кушанья эти, поначалу степенные, после обретали то редкое дружество, ту веселую праздничную легкость, коя, милуя сердце, запоминалась надолго. И государь в таких пированьях был простец человек, и лихо порою закидывал чару, и особо не чинился, не строжился, а после счастливой забавы иль крупной зверовой осеки и самолично обходил стол с кубком вина, награждая отличившегося охотника. Такой дружиной, известной лишь по преданьям, только в поле и можно посидеть младшему чину, которому в Верх Московский доступ зачастую заказан, и толчется человек низкого звания обычно где-то внизу, на Дворцовой площади, у первой ступеньки Спального крыльца…
Воистину как гусаки: поскрипели, а завидев подсокольничьего Хомякова, построились и вереницею покорно потянулись на иордань.
Тут вошел ближний боярин, украдчиво постучавшись, осторожно прикрыл дверь. Был он в горносталевых чулочках и в мягких чуньках, шитых из зеленой юфти. И царь заговорил вдруг, не оборачиваясь, зная верно, что навестил дядька Морозов: «Вот много ли я из окна схватил взглядом, а как Господа въяве увидел. Ибо Русь. Он везде у нас отпечатался. Лесной угол, для чужого обавника нежить и невзглядь, а нам мир и покой. – Царь вроде бы продолжил разговор, затеянный неведомо когда, может, и дедом его, но супротивник тот был не вовне, а в самом государевом сердце. Греховный человек, стремяся заполучить хоть искру Божию, и государь сошлись в рати. – Да… покой и мир. И так в каждом углу. А мы воюем, мы ратимся, нас отичи и дедичи куда-то зовут. Из их могил свет призывный встает. Вот я с полками летось сколько верст сломал, а чужого места не нашел: кругом наши приметы, наши вешки расставлены, по нашим святым упокойникам всевечные свечи горят. – Морозов шумно дышал, он нанюхался с утра табака, не прочихался и сейчас с трудом крепился, мял переносицу. В припухших глазах тлел в спину царя безлюбовный огонек. Морозов уже знал, куда клонит государь. Снова махмет, басурманы, плачущий вселенский патриарх, что натолковано с малых лет. Но на сей раз боярин ошибся. Этот тихий закут под Коломенским – с протяжным криком выпи, с тетеревиным гульканьем, с вязкими серыми сумерками, струящими в окно, пахнущими сладкоснежными последями, костровым дымом, московской дынею, прелью, березовым соком, – вдруг почудился царю той заветной обителью, коей хватило бы для полного земного счастия.
Царь не пал духом, нет, но он как-то вдруг поразился вселенской громадностью этого тихого лесного засторонка. – Чего ж еще-то надобно человеку? Не напрасно ли мы ширимся, окутываемся чужой верою? Ой, боярин, укрупят нас обавники, очаруют чернокнижники и фарисеи прелестями. И ты вот, гляжу, поддался, а как силен был до веры! Молчи, молчи… Так не лучше ли замкнуться в этом куту, закрыться, переждать. Божье время неиссекновенно. Куда спешить? Не рано ли раздеваемся на посмотрение, себя кажем? И как долго ждать еще? Убитыми православными замостили землю, они еще не истлели, они зовут. Стародавних праведников мощи святые нетленные зовут. Мы не берем чужого, но Господь, поворотясь к нам, наконец, за муки наши, возвращает некогда ухапленное ворогом. Не в чужую землю вошли мы, она вся принакрыта словенским духом и светом Богородичным. Дух тот стенает, зовет. А все попрекают чужим куском: де, сухомятка горло дерет. И ты попрекаешь, в спину сверлишь взглядом: де, зачем в Польшу залезли, де, и Ригу-то надо немцам вернуть, и Украйна, де, нам в тягость. И, де, поборами изнасилили Русь, и стоном стонет холоп. А напрасно попрекаешь, и тебе с тех походов не осевки достались, не одонья из коробья. Гли-ко, умостил дворец пригородный золотом пуще царского, меня затмить хочешь. Э… Молчи, молчи…
Скажешь: де, богатство в тягость, де, кровь стынет. И сама жизнь в тягость, но в радость лишь смерть. Да, чужой кусок, черствый кусок, в горле костью встанет. Его, водой не промочив, не проглонуть. А где чужое-то? С чего ополчились, Бориско Иваныч? У меня во Дворце под боком скрытни строите, как латинники дозорите за каждым шагом моим. Мало вас дедко Иван сек. И вас укупили фараоновы силы? Знаю, знаю, де, по Украйне дух святого князя Владимира царюет, по нас кличет. А над Сербией дух святого Саввы царюет. А греки под махметкой лицо свое потеряли и веру испроказили, смиряясь силе. То исход наш, те тропы не заросли, они в сумерках лет адамантом сияют. Но погодить надо, погодить… Молчи, молчи. Сна нету. Как филин нынче. Все думаю: а не Господь ли попускает за грехи наши? Вот пораскрылись для чужебесных, а ведь страшно! Как голый на морозе. Вино от выдержки крепче, земля от запоров стойнее, меньше соблазнов. О чем не знаешь, о том не тоскуешь. Вот и дитешонка жалко порою, но через слезы лупцуешь за провинность. Бо то наука. А дай спуску, упадет в изврат либо в кручину, кусочничать станет иль шалить, на отца будет жалиться, веру распродаст, землю распустит. Толкаете вы меня, бояре, на чур да на эх! Ну что молчишь-то? Язык проглотил? Помирал отец, с тебя клятву взял: целованием меня в вере крепить и делу учить, а ты и молиться нынче позабыл, табаку вот пьешь. Шебаршишься, как мышь в валенке. Чего делишь-то, иль мало накопил? Детей нету, кому гобина? Отдай в монастырь да постригися в схиму. Батьку моего Никона живым хочешь закопать…»
«Я его чту, государь. – Морозов неслышно приблизился к окну, глубоко вздохнул. – Но тебя люблю. Что мне гобина? Моя жизнь – твоя. Но он, б… сын, позабыл монашеские заповеди, на мирское перекинулся. Ты под его дудку пляшешь, его погудки поешь. Тебя долго не было. Он царить хощет. И неуж не видишь? Он себя папою возомнил, еретик, он вздумал Русь перетряхнуть, новины затеял. Священницы от него восплакали, он Божьи лики ни во что ставит…»
«Не он затеял, а я», – сказал государь твердо.
«Ты, ты затеял, – торопливо согласился Морозов. – А теперь отстранися, прошу тебя. Отовсюду изветы и лай, средь бояр твоих смута. Старой веры хотят. Ты и их пойми. Свой халат, пусть и в дырьях, милее чужого. – Морозов почти шептал, заступая в тень; елейница от крутого сквозняка под божницей качалась слабыми кругами, и этот полутайный голубоватый свет блуждал по лицу боярина, вылепливал то водянистые мешки под глазами, то сивый короткий волос, то прикляповатый грушею нос – Прошу тебя, отступи в тень, отстранися. Тебе достало своей славы. Пусть на него изветы и доносы…»
«Лукавец, ты всех пережил! Нет-нет, я не выдам собинного друга, великого государя…»
«Но две головы на одной шее не бывает. То дракон… И неуж дракон на престоле? Ты ж Богом венчан…»
Во дворе ударили в деревянное било, сзывая на утреннее кушанье. Морозов вздрогнул, словно бы кто со стороны остерег его: де, прислушайся к словам своим, не проговорился ли в чем? Долгая дворцовая служба приучила не доверять тишине; много перелазов и всяких ухоронок в Руси, к коим прилепляются враждебные уши. Много врагов у Морозова. Тяжелый нос выступил из полумрака, живущий вроде бы сам по себе, и Морозов напомнил государю лесного вепря.
Царь, почитавший комнатного дядьку за отца родного, взлелеянный на его коленях, сейчас необъяснимо, но почти ненавидел его. Потому что боярин говорил тайными государевыми словами. Морозов покусился на его сокровенное, он открыто заступил цареву волю, напомнил детство.
«Это немцы научили тебя избыть патриарха? – натянуто, но стараясь быть добродушным, спросил государь. Но голос его пресекся. – Иль Омера, Платона начитался? Вдохнул яду еретического из Аристотелевых врат?»
«Государь, пойми… В затворе жить – это как бы без зеркал жить. Да-да… Я уже стар, и лыс, и сед, а все вьюнош. Так уверился. Пока не смотрюся в зеркало, все молод. Так и мы. Загорделись, как лапоть пред сапогом. Чего ж, и то верно. Немцы – кроты. Но ходы во все земли понарыли. Они истину чуют, они богатство копят. Они долго жить хотят. А мы, как птицы небесные, все растрясаем. Моя бы власть, государь, я бы в каждом приказе по немцу с плетью посадил».
«Ваш немец на дудочке заиграет, все крысы из дому вон. Русский заиграет – все нищие в дому. Нищий же богатого в рай ведет. Они, лутеры и латинники, в Господа нашего пятый гвоздь забили, гобины ради, а ты врага величаешь. Ты давно прелестник и меня завлекаешь».
«Какой прелестник, ты что, государь? – натянуто засмеялся Морозов. – Я ли о Боге не стражду? Но я и о земле нашей радею. Надо отворить жилы и выпустить дурную кровь. Кровь надобно выметать. Кабы удар не случился. От дури. Алексей Михайлович, впусти в Русь торговца. Золото и жидкую кровь делает горячей. Ты мне, старому, поверь. Худому не наставлю. Не раться с немцем, замирися, но возьми его в слуги».
Алексей Михайлович отворотился, спрятал взгляд, вроде бы потерял речь. А добрый ангел нашептывал остереженье, пас христовенького… Государь, укороти немедля боярина, сорви с ушей покровцы обманчивых слов, ибо в каждом отрава и соблазн. Захочешь опереться на них, а это плывун, павна, дижинь и жидень. Отпрянь, сердешный, окстись, православненький, пока не очаровали. Опой от слов коварных куда хуже хмеля.
В любой реке бывают залавки, подводные обрывы. Ступаешь по отмели, забродишь в парную воду, не чуя беды: и вдруг – ах! провалище студеное, аж сердце захватит. Порой и смерть тут сыщешь. И к такому залавку уже приблизился государь, душою ведая стылость тайных гремучих родников, змеино сплетающихся в глуби. Но он лишь погрузил пятку в это провалище и, страшась бездонной, крутящейся, засасывающей воды, отпрянул на время, переживая сердцем непонятную сладость и терпкость испуга…
Отпрянул и погрозил кому-то пальцем.
Только что румянилось небо, и вдруг исподтишка затянуло наволочью из гнилого угла, закрапал мелкий весенний дождь; под этим обложником добро преет, готовится к родинам земля.
На потеху после раннего кушанья решили не ехать, разобрали клади, накормили птицу, стали ждать государева веленья. Служивое дело приказное. А царю хотелось потех, он томился от пустого сидения. Спросил зверовщика: что с волчьим двором в Покровском? И оказалось вдруг, что в зверинце подгадан медведь, недавно взяли живым на осеке; так удачно подноровили вместе с начальником Потешного двора Василием Голохвастовым, чтоб царя порадовать.
Алексей Михайлович после памятной встречи с медведем, когда едва не погиб, перестал баловаться серьезной охотою, с рогатиной и вилами на хозяина не хаживал, но забавы зверовые любил. И для того были срублены близ охотничьих угодий волчьи дворы, где содержались и волки, и лисы, и медведи для травли и боев. И куда бы ни отправился тешиться государь в подмосковные угодья, во все пути отчины – то ли в Измайлово, иль Хорошево, Чертаново и Осеево, Ермолино и Дмитриеве, Тонинское и Семеновское, Покровское и Балабаново, – везде ставлены зверинцы со всею угодной царю живностью и срядою, и дожидаются там медведи дворные, и гонные, и дикие; а если надобно душе, то притянут зверину прямь из леса. И для того были присмотрены медвежьи лежбища, и притравы, и кормные места. И за всяким лесным ухожьем царевым следил глаз зверовщика, коему был дан строгий наказ блюсти лес и никого из чужих охотников под страхом смерти в угодья не допускать…
Чаще медведями тешились в Кремле, иль под горою, иль на заднем государевом дворе близ палат патриарха, зимою же на льду Москвы-реки, когда травили зверя британами. Иногда тешились на Псарном дворе, где гоняли медведя собаками, иль справляли забавы в загородных дворцах. Боролись обычно с медведями дверными, учеными. Хозяин частенько драл смельчакам зипуны, и кафтаны, и штаны, мял и ломал забияк, изъедал им руки и голову, выламывал зубы, портил губы и глаза, но до смертного убойства не доходило. Куда же рисковее были бои с дикими медведями, коих приваживали прямо из леса, иль мало обжившимися на потешных дворах. Бойцы выходили с вилами иль рогатиной, и требовалось много силы, и хладнокровия, и бесстрашия, и ловкости, чтобы посадить топтыгина на вилы. Это была борьба страшная, зрелище для людей с крепкими нервами.
Дождь-ситничек наконец перестал. Влажное небо нависло иссиня-черной лещадной плитою. Загон был посыпан свежим желтым песком, чтоб не солодилась, не растаптывалась грязь и не проступала кровь. Ристалище – пять сажней на пять – обнесено высокими бревенчатыми палями, заостренными сверху. Мокрые бревна блестели. Поверх стены был настлан мост из колотых плах. Сейчас царево место покрыли толстым брусеничным ковром с густым ворсом, поставили креслице с приступком, обтянутым синим сукном. Служивые уже толпились на обломе, расхаживали по галдарее, проглядывали крохотное польцо, словно бы никогда не видали ранее, примерялись к загону, ревниво дозирая друг дружку, гадали промеж собою, кто насмелится нынче брать потапыча. А стремянный конюх, начальствующий над Покровским волчьим двором и над псарнею, сказывал, де, нынче приволокли на телеге матерущего сергацкого барина пудов на шашнадцать, взяли тенетами на привадах. Был меж потешников и галичанин сын боярский Федор Сытин, что не раз барывался с хозяином, и Петрушка Горностаев, что дважды вельми удачно тешил государя на Дворце, бился с лешаком, и Петрушка Мякотин, что дворных медведей дражнил, да и среди стольников могли сыскаться охочие до свирепой страсти. В общем, дожидались государя бойцы именитые, страху не ведающие, верная царева служба, что ради государева веселья была готова без колебания и голову на плаху сложить…
Чуть погодя и царь явился, поднялся по лесенке на мост, придирчиво оглядел кулижку песка; служивые встретили государя большим поклоном и не смели поднять взгляда, пока Алексей Михайлович опускался в креслице. Маленькая бархатная сломка была на залом, темные волосы, опадающие на серебряный кружевной ворот походной темно-синей епанчи, были под цвет отпотевшей весенней пашни. Царь откинул голову на бархатный подзатыльник кресла, призакрыл глаза, собираясь с чувствами, он еще побарывал в себе утренний разговор с Морозовым; хорошо, того не случилось возле, сказался больным, старый, лег почивать, заушатель. За спиной застыли два стряпчих с суконным покровцем от мороси и стольник князь Гундоров. Лоб государя, до того страдальчески изморщенный, разгладился, какая-то безмятежная, беспечальная улыбка тронула губы.
Еще не разомкнув очей, Алексей Михайлович взмахнул рукою, и тут разом ударили барабаны, взбренчали трещотки, загулькали сопелки и гудки по всем углам боевого поля. В волчьем дворе распахнулись ворота, и из прохода под обломом с крёхтаньем, подслеповато щурясь после темного закута, вышел михайло иваныч, лесной архимандрит, матерущий старый пест. Он двинулся по кругу валко, неспешно, косолапо выкидывая вкрадчивые плоские пяты, убрав приплюснутую голову в мохнатый воротник. Шерсть на рыжих ляжках, и на гузне, и на подчеревьях болталась клочьями, линяющий с зимы мохнач был в опрелостях и подпалинах; еще два дня тому он жировал на поедях на оттаявшем болоте, искал коренья и торфяных живулин, выгоняя из нутра застоялые зимние погадки. Потом пришел на приваду (кислую требушину), и тут его полонили. Это был стервятник, каких поискать, уремный князь, володетель раменских урочищ, и даже на истощелых за лежку мясах шкура переливалась волнами, выказывая силу окаянную. Царь зачарованно свесился с креслица, заерзал в толстом ковре юфтевыми сапожонками, словно бы замечтал спрыгнуть вниз, когда медведко проходил мимо, равнодушно зевая, выказывая частокол еще не съеденных зубов и черное небо.
Он даже остановился прямь государя, почуяв запах родостама и розового масла, задрал голову, свинцовые глазки в буроватых озеночках были пристальны и вроде бы улыбчивы. На царя пахнуло звериной утробою. И мог поклясться Алексей Михайлович, что этот лешак и подмял его тогда в звенигородских лесах. Чур мне, чур! Навидится же пустое! Во многих государь бывал осеках, и всякий раз его дивила эта дикая неукротимая сила. А барабаны все били не умолкая, задорили потешников, разжигали азарт. Алексей Михайлович снова дал знак, и ловчие стали поддевать медведя длинными пиками, колоть в загривок, бесить мохнача и задорить. Косолапый взревел, ярясь, и пошел на рысях, взлягивая задними лапами, как борзой кобель.
И в третий раз, как то велось по росписи, государь дал весть, барабаны смолкли, на облом вышел ражий бирюч и возвестил в совершенной тишине: «Эй! Братцы-молодцы! Чай, засиделись на государевах харчах! Кто смелой ратиться с михайлой иванычем, того ждет царская милость!»
И вроде бы заробели служивые: всяк ждал зова, полнясь нетерпением, примерялись к медведке, а тут с жару вроде бы окатили родниковой водою из бадейки. И взоры попрятали, потупились, сердешные. Знамо дело, на медведя идешь – постель готовь. Чертова ведь сила, заломает – не пикнешь. Да и то: смерть в глаза не смотрит, она на тихих подкатит, неслышно, да и оборет. А жить-то хочется…
Царь, насмешливо прищурясь, обежал взглядом стену, где кучились и сокольники, и псари, и дети боярские, та самая челядь, что всегда у царя прислоном, его броня и защита. Он-то хорошо ведал русинский норов, де, за спинами не засиживайся, да и вперед не лезь. С поклона голова не отвалится.
И вдругорядь поклонился бирюч, зычно прокричал на все Покровское, аж в другом конце сельца забрехали собаки. Ежли где еще и таились молодцы иль сиднем сидели на лавке, и те бы должны притечь на потеху, повеселить Алексея, батюшку родимого.
«Аль повывелись богатыри на Руси, в ком кровь не водица! Иль по ошибке порты носите и в бабы вас надобно зачислить, в повойник обрядить да поставить к печи хлебы пекчи!»
«Дак мы што… Мы ништо, – слегка заершились мужики на обломе, нарочито обижаясь. – Наше дело подневольное. Слушай, рябина, что лес говорит. Дак ведь и не к теще на блины. Сам уразумей, пустобрех. Раз помаслит ломыга, год облизывайся».
Царь еще пуще присбил бархатную еломку на затылок, почуял сырое тепло, стекающее по спине, пристукнул, горячась, посошком. И в третий раз поклонился, вскричал бирюч:
«Ми-ла-и-и!.. Что, зайца напугались да в порты обос… И неуж жидки в ногах стали, как дижинни шаньги? И неуж столетнего дедка Микиту с псарни звать? Он-то и палкой зашибет. Велик ли медведко-то, сами глядите. Ни кожи ни рожи, одна шкура на мутовке. Малец потянет за хвост, дак сдернет…»
Снова закрепил мелкий дождичек, противный такой сеянец, что неприметно до костей промочит. Стены загона залоснились, ярый песок потемнел. В такое погодье бойцу твердая рука нужна.
И тут, пока расчухивались, полагаясь друг на дружку, ведь во всяком деле есть первостатейные зачинщики, из-за государевой спины выдвинулся князь Гундоров, отбил земной поклон, объявил твердо: «Дозволь ратиться, государь». В его руках откуда-то взялись круторогие вилы, влажное ратовище лимонно желтело. И всяк в эту минуту, кто воззрился с удивлением на князя, подумал, наверное: да куда ты лезешь, милый? С лоскутом да к целой шубе примериваешься. И то сказать, не особенно видок и плечист князь: сухой, тонкий, что виноградная лоза, нос ятаганом над тонкой струйкой усов, и толстые черные брови над жаркими глазами, что медведи, лежат. Гундорову царь мирволил, не раз прислуживал тот за трапезой, но больно горяч стольник и обидчив; скажи слово не в масть, так и губа на локоть. Царь благосклонно кивнул, ничего не сказал, и князь по-кошачьи соскочил с тына в набухший песок, слегка увязив сапоги с короткими широкими голенищами. Медведь, вихляющий по кругу, оторопел от подобной наглости, по-собачьи осел на гузно. И тут снова наддали ему пикою в зашеек, проточили шкуру.








