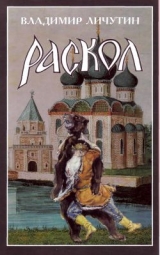
Текст книги "Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Нет, не мот Никон, но далеко торит тропу, испытующе подглядывая за сирийцем; знает, что Макарий вчастую гостится, как бы случайно, в Риме, и к папской туфле приникает, и верно, что скоро принесет сию печальную весть к латинникам и тем горько унизит самовольно возвысившихся, поправших веру Христову. Пусть стенают искусители: высоко ныне взнялася великая Русь, могучи и духоподъемны ее крыла, а звезда ее не затмится до скончания веку…
Но мысли эти неведомы Макарию. Он-то лишь свою бедность помнил и тешил в груди и тайно печаловался о своей пастве, и сердце его сейчас пожирала черная зависть. Им-то, барбарам, откуль такое благоволение? им-то за что Господь попускает таких побед? давно ли из-под татарина едва высиделись, давно ли березовому пню кланялись, а уж в ближние Господевы слуги записались, гордецы. Это мы дали истинную веру и грамоту, смертно стояли за Сына Господева, и всеми сокровищами не расплатиться им за свет Христов. Это мы украсили их барбарскую жизнь вечным праздником. И на что бы ни пал истиха наш взгляд, все это наше и нам принадлежит по праву. Сколько же тут облачений можно скроить нашим иереям, едва прикрывающим в Антиохии свою наготу. Даже идолопоклонники освещаются крещением, а ежли эти материи окропить святой водой, разве не воскреснут они и не станут родными для церковных одежд? Понапрасну растрясают московиты гобину свою, не зная ей цены, не копят на будущее, словно одним днем живы, упиваются Божьими щедротами, позабывая, что нынче Господь милует, а завтра и наказует. А каково-то нам, кто уж сколькой век немотствует в полоне, обложенный даньми. Разве мы в своей стране не взяли бы парчовых одежд, даже если бы их носили евреи, и не переделали бы в священнические облачения? Если Богу так угодно, да попустит Он, чтобы московиты разгневались на нас люто, лишь бы Он обогатил нас чрез них…
Чу! Слышишь возглас невозглашенный? Так вопрошает лишь совесть и честь, если они вовсе не остыли. Патриарх Киликии, ей, опомнись, сердешный! И неуж запамятовал, как из года в год, почитай целый век, да не одной поездкою, навещаете вы Русь, тайно презирая ее и уливаясь слезами, проникаете в жалостливое православное сердце и чего только по нашей доброте не волочете обозами обратно в свои Палестины: лишь щедрой милостынькой – золотой монетою и соболями, бобрами и кошлотами, песцами и рыбьим зубом, утварью и всякой дорогой объяринной материей – и перемогаетесь в турском полоне, уплачивая дани. Воистину сладкое разлижут, а нескудные подарки помнятся лишь до часа отъезда: с глаз долой – из сердца вон.
Пока сириец озирал новые хоромы, тем временем в сенях и в самой палате стало тесно от гостей: в свой черед подходили к руке архиреи и поднесли иконы, хлеб-соль, золоченые кубки, портища парчи и бархата; потом отдаривали настоятели монастырей, царевичи, сановные, городские священники, торговые гости, ремесленники. Никон принимал лишь иконы и хлеб-соль, всякий раз целуя каравай; остальные подношения забирал патриарший дьяк Кокошилов, а подьяки относили вниз, в приказную комнату, и сразу чинили роспись в приходную книгу.
Потом патриарх послал ближнего своего боярина звать к столу государя…
Алексей Михайлович прошел из Терема галереей через нарфекс новоустроенной церкви Святой Троицы.
«Царь-государь жалует», – возвестил князь Мещерский. В расписанной травами стене возле горящего золотом иконостаса вдруг открылась потайная дверь с медным частым переплетом, опушенная синим киндяком, сделанная под слепое окно. На воле давно замглилось, в оттайках стекол меж куржака виднелись фиолетовые проталины, и трудно было отличить фальшивое окно от настоящего. Сколько таких переходов, коридоров, долгих сеней и перебродов, всяких тайников и перелазов в Кремле: чай, и сам государь толком не знал всего хитросплетения этих дворцовых троп, давно замурованных и появившихся внове, что сочинялись в царских службах за долгие века устроения Руси.
Государь был без ватаги. Сопровождали лишь два ближних спальника и ключник. Никон ревниво отметил: опять возле царя отираются Хитров да Ртищев. Более дальних меж собою людей, чем эти два приближенных, трудно было сыскать, но вот Алексей Михайлович обоих отмечал и потворствовал, всякому находя близ себя постоянное и неотлучное место. Третьим был Зюзин. Зюзина Никон любил.
Все в Крестовой сразу замирилось, опала толкотня. В сенях и на лестницах слышно, как муха пролетит. Царь был одет по-простому: в голубом зипуне, комнатных зеленых сапогах и в червчатых бархатных шальварах, на поясе нож в костяном окладе, обложенном яхонтами. Был царь простоволос, на темно-каштановых волосах лежал легкий отсвет инея, предвестник близкой седины. Царь остановился в дверях, едва помещаясь в проеме… Он строго оглядел гостей, медленно переводя взгляд, и всякий, на ком замедлялся взор, робел вдруг, становился маленьким и жалким, норовил скорее пасть на колени.
Царь же отбил большой поклон патриарху, и Никон поднялся со своего места в переднем углу. Пол в Крестовой был устроен странно: выложенный цветными изразцами, он был опоясан каменной трехступенчатой выступкой вдоль стен, покрытой персидскими попонами. Трапезники, что толпились у кривого стола, выглядывая подобающее почету место, невольно оказались внизу, словно бы на дне приглубого садка, из коего выпустили воду; царь же и патриарх стояли в противоположных сторонах палаты, недосягаемо возвышаясь над всеми. И каждый из гостей, кто тайно завидовал Никону, сейчас возненавидел его еще пуще, ибо этот волдемановский мужик, воровски прокравшийся на патриаршью стулку с помощью чародеев и обавников, не только вызнялся в ровню самому государю, но оказался значительней его, дородней и сановитее. Даже ответный земной поклон Никона из-за его природной телесной мощи виделся со стороны жеманным и жалким. Хитров отстранился за присадистый каптур (ценинную печь), стоящий возле двери, и Никон, разгибаясь, случайно поймал его холодный прицеливающийся взгляд. Был Богдан Матвеевич разодет в золотную ферязь и горлатную шапку с собольим околом, а персты десницы, хватко упиравшиеся в посох с золотым яблоком в навершии, были все унизаны сверкающими перстнями…
От Хитрова, казалось, истекали десятки острых тонких сулиц, пущенных в патриарха с неясным умыслом. Алексинский худородный дворянин, прибиравший почасту к рукам все, что худо лежит, он готов был выгрызть самозванцу печенку. Он начитался Остромеи и Каббалы и, наученный домашней девкой-литовкой, с коей не повенчал его патриарх, решился напустить на Никона рассеянность и тоску, именуемые сглазом. Но стрелы Богдана Матвеевича не уязвили черных мужицких мясов, отразившись от чернецких вериг, и ничто не затомило сердце патриарха. Победительная радость, переполнявшая патриарха, нынче всех миловала, ибо с приступки этой, устланной шемаханскими коврами, он проглядывал сейчас всю великую Русь и чуял верно, как крепко возлюбил Отца своего православный люд… «А эти бесстудники пусть сикают, опившись хмельного фряжского сикера – Никон усмехнулся и потуже натянул на лоб тесный вязаный Филаретов клобук. – От фрыгов ты, худородный, вознесся на Борискиных плечах, да от них и падешь, прелестник. Уймешься ли когда? Ишь, уноровил все схапить, на что взгляд упадет. Доносят верные, де, опять сговорщики что-то путают супротив меня, опершись на лутеров. Вишь ли, им греки не по ндраву…»
Мысли пронеслись и сгинули; тревога лишь на краткий миг призатуманила патриарха. Он пристукнул посохом, приободрил себя и всю гоститву призвал к смирению… Овчи, овчи, я строго пасу вас и тем спасу!.. Тверже адаманта был нынче кир и воистину заслужил государев венец. Никон собрался идти встречь государю, но Алексей Михайлович опередил; он уже тащил поднос с караваем и сорока соболями: не пластины худородные и не пупки, но самолучшие дорогие меха обнизали поднос колыхающим блескучим опоном. Царь нес подарки, слегка присутуленный тяжелым подносом, и толстые косолапые ноги в зеленых мягких сапожонках были приспешисты, но устойчивы.
Никон расправил на груди обе панагии и услышал, что волнуется. Все свершалось как бы и при знатном московском сборе, но вроде и вне людей, ибо никто, оставшийся внизу, не заступал этого молчаливого царева пути. Государь тяжело, сдавленно припыхивал, перемогал в груди раннюю одышку. Он снова поклонился патриарху и молвил полнозвучно, велегласно, на всю палату, искренне радый своему смирению, но и несколько возгоржась им: «Великий государь! Твой сын, царь Алексей, кланяется низко твоей святости и подносит тебе хлеб-соль за-ради новоселья». И не успел патриарх отблагодарить, как царь поспешил обратно за новым подносом, торопя бояр и стольников несдержным зычным голосом, словно бы кто подгонял Алексея Михайловича иль оказался он у той крайней черты, за коей край земного быванья.
И всяк из гостей, а особенно из антиохийского посольства духовные были изумлены царевым непоказным смирением, той сердечной кротостью, коя позволяла государю свободно, без усилий унять гордыню. Ты, государь, слава своего века! ты подпятил и возвернул державе многие славянские земли, что немотствовали в полоне! твоими победами изумлена Европа и до сих пор, как после чумы, не может прийти в себя! И здесь, в самом сердце православного царства, ты, как малый света сего подручник, таскаешь, потея, многие дары, тщась заслужить Господней милости при сих земных днях, заменяя слуг своих. И не страшишься уронить себя, наместник Бога на земле? и не боишься, что всякий приказной станет насмехаться в тайности, ронять поносными словами твою власть и строить куры? Ах, государь, да увековечит Бог твое царство за великое твое смирение и за верный приклон к своему патриарху! Так, наверное, воскликнул всяк из почестных гостей, кто молитвенно, с замиранием грудным всматривался в собинных друзей и не улавливал меж ними ни малейшей задоринки…
А притартал государь подарки и от царицы, и от сына, от своих сестер и дочерей; а всего же совершил двенадцать ходок, и на каждом подносе лежали по хлеб-соли и по сорока соболей. Кто знает, как распорядится богатством патриарх? иль нынче же занесет в приказную книгу доходов, чтобы после пустить в оборот и на строительство храмов? Но всего вернее, что завтра патриаршьи подьячие оттащат их обратно в царевы кладовые, где им подобает быти, если не откажется Алексей Михайлович. Ибо не нынче заведен дворцовый порядок и не нам его менять…
Дальше-то будет много питий, и почасту понесут патриаршьи слуги разную еству, и всяк отпотчует то блюдо, что душенька схочет. А будет всего сорок перемен. Сам-то патриарх отведает стерляди вареной звенышко, да тыквенной кашки-мазули горшочек, до коей большой охотник, да сковородку гретых рыжиков.
…За аналоем посреди Крестовой анагност с замиранием сердечным, высоко подымая голос, прочитал житие святого Петра, как бы песню небесную пролил родниковой струею. И поднялся государь с почестными гостьми и отбил большой поклон. И вино, что лилось в ковши и чары, и стопы, и братины, и крюки, казалось воистину Христовой кровью. И всяк братался с соседом, изгоня из сердца зависть. Тут запели московиты бархатно, басисто, сами отроки в белых, обшитых золотом стихарях, и священное одеяние не скрывало широкой груди, более склонной к полю и рати; после подхватили церковную песнь казачата, вывезенные Никоном с Украйны, и медовые нездешние голосишки их вызывали сладкую грусть и воспоминания по полузабытой древлеотеческой родине, где долго хозяиновали татарва и ляхи. А нынче наше Поднепровье, слава государю! значит, и певчие нашенские, вроде бы кровные сынки из Скородома и слобод, благочестивые, смирные, с карими глубокими глазами, на дне которых тлеют неиссякновенные изумрудные искры. И у многих гостей то ли от хмеля, иль от счастия, что собрались у стола родные духом, иль от близкой слезы поселились в глазах непроливаемые окатные жемчуга. И даже старые, сивые, как песцы, завистливые бояре вдруг помолодели и обновились. Ах ты, Боже, прости и помилуй зловредных: пусть грехи наши иссякнут, как прошлогодний снег, осыплются за порогом Крестовой, как пелева с обмолоченных хлебов, как яблоневый пожухлый лист, как прах с древесных моховых колод…
Самолично государь обнес кривой стол чарою романеи; вернувшись на свое место, он возгласил здоровье патриарха и выпил в приклонку, как молвится, пригнул на лоб, высоко честя Никона; и гости усидели чарку, и каждый последнюю каплю пролил на голову, удостоверяя царя ли иль ревностно блюдущего приличия соседа, что посудинка опустошена до дна. А после завелись гулять заведенным порядком, помня, однако, краем ума, что невинно вино, но проклято пьянство и что тверезым из гоститвы не ходят. Патриаршьи стольники, усердно потчуя многопировников, носили с поставца, что был приставлен к ценинной печи и загроможден золотой и серебряной посудою, – вино белое и красное, двойное и ординарное, холодное и горячее, сухое и прикислое, бастр и секир, романею и ренское, пиво и полпиво, мед земляничный и вишенный, стоялый и квашеный. Потчуй, милосердый гость, что утроба дозволяет, попускай радость сердечную и гони прочь напрасную злобу…
С начала трапезы государь не забывал Макария, с младых ногтей возлюбив того: он посылал со своего стола то блюдо с лебяжьей грудиною, то кубок с напитком. Антиохийский патриарх сидел за особым столом с правой руки Алексея Михайловича и, не сводя взгляда с царя, постоянно улыбался чему-то. Никон ревновал, вострил слух, но не мог поймать беседы; левое воскрылье с золотым плащом будто невзначай он сбил на сторону, освободил ухо, и теперь оно непрестанно червленело от досады. Он уже и запамятовал, возгордясь, чем был обязан антиохийскому владыке, коему клялся быть подпятным слугою на Руси в делах веры. «Ишь ты, турский подпазушный пес, – думал Никон, набычась, – только из каморы нищей вылез, немытый, а уж и вознесся, неясыть ожидовленная. Ужо погоди-тка, дай мне на константинопольскую стулку взлезть, тогда покажу вам и ряд, и сряд, как штаны через голову вздеть; истинно возревнуете к Богу и приклонитесь мне, как Христову образу…» Но, однако, о чем таком, сугубом и тайном, могут беседовать на пиру, позабыв отца отцев?
– Как царь Ирод был снедаем червием за грехи, так и я загрызаем ежедень лютой печалью за вас, православных, сирых и безгрешных, что нескончаемо изливают слезы под басурманом, – переживал государь, слегка хмельной и ознобно-восторженный от вина; толмачил ему архиепископ сербский Гавриил, чернявый, цыганистый, с глазами, как два хризопраза чистой воды. – Денно и нощно молюся, как бы скорее приступить за вас, развязавшись с Казимиром. Вся Европа ему подталдыкивает, не дает сронить. Но дай срок замириться лишь…
– Слушать вас, как принимать сокромент. Каждое слово ваше, свет-царь, изливается, как миро, на душу.
– Будет, будет… Не вем, за что угодничать тебе предо мною, рабом твоим. Ты-то, Макарий, и при жизни, а уже в раю. Один Бог ведает, где мне-то скитатися за мои грехи, в какие теснины сокрушат меня бесы.
Государь побледнел, голос его сорвался. Алексей Михайлович склонил голову и мизинцем скоро стряхнул из глаза слезу; она упала на край серебряной тарели и засияла, как адамант. Макарий смутился, что стал свидетелем подобной картины, и принял ее, как дурной знак. «Господи, – взмолился он тайно, – дай скорейшего и доброго пути в родные домы. Пусть и под турка, но во спокой. Эти скрытные люди живут под чужим Богом. Они хотят того, чего сами не ведают. Они совесть ставят превыше богатства…»
Крестовая гудела, забыв чинность. Всяк самолюбец и корыстовец, улучив минуту, лез с кубком вина на приступку и возглашал сверху новую здравицу за сына иль цареву дочь. Ежли бесы ездят на пьяницах, то они и стерегут их и правят удачу. Похвалебщики, нагрузясь по темечко, худо чего соображали, но упорно ловили взглядом каждое движение государя. Свечи восковые горели яро, от ценинной печи волнами наплывал жар; ах, как парко и истомно в шелковых ферезеях и золотных кафтанах, вроде бы и не декабрь-студенец на дворе, а сады райские расцвели. Вон они, птицы небесные, беспечно скачут по сочным травам, писанным на потолке и стенах щедрой кистью постника-изуграфа: им надоело клевать невидимое пропитаньице, дарованное Господом, и они слетелись со стен палаты на гоститву к медным росольникам и точеным деревянным цветастым мисам, подбирают на скатертях, испятнанных вином, хлебное и рыбное крошево. Что молвить, христовенькие: на опойную голову и не то причудится.
Драгоман низко приклонялся к государю, наверное худо дослыша, иль ему мешал пир. От сербского архирея накатывал тяжелый дух чеснока, имбиря и оливок. Царь, брезгуя чужого запаха, раздраженно и неучтиво воротил нос. Царь досадовал и на свой норов, и на собственное невежество: нет, не похвалиться ему пред Востоком логофетством. Подумал: «Греков всяко возвышаю и в батьки им лезу сколькой год, а в ихнем языке ни толка, ни перетолка. Как векша, прыгаю по буквицам тем точно в лесу дремучем… Пойми, какие толмачит орации? – косился государь с подозрением на сербского Гавриила. – Говорим, как немой с немым, а этот свои слова меж нас приплетает, что на ум взбредет. Эти драгоманы что пауки. Ишь, зенками-то лупит…»
Государь дружелюбно улыбнулся, потянувшись к патриарху Макарию, погладил ласково морщиноватую ладонь, густо усаженную коричневыми пятнами, и вдруг попросил стесненно:
– Великий святитель! Помолись за меня Богу, как бывалоче Василий Великий молился за Ефрема Сирина, и тот стал понимать по-гречески. Вот и мне бы, русскому царю, так хотелось уразуметь этот язык.
Антиохийский гость не успел продумать велегласный ответ. Решительно стуча жезлом, высекая осном искры, приблизился Никон и попросил особых гостей в новые брусяные келеицы. Там тоже был уряжен стол с ествою и питьем.
– Моя хижа – твоя хижа, государь! – воскликнул Никон. У святителя были розовые озеночки от недосыпу. «Опристал владыко, отдоху не ведает», – участливо пожалел государь.
– Потрафляешь и искушаешь, святитель? Не боишься развраститься, дружок? Твоя-то хижа куда краше моего Терема, – коварно подольстил царь и рассмеялся, огляделся любопытно, примечая келейную сряду, и всю ее ревниво оценил зорким взглядом: и стопы книг на лавках и вислых полках, и утварь позлащенную, выставленную на посмотрение в поставцах, и шафы черного дерева веницейской работы, на звериных лапах, с висюльками и резной канителью. Словно бы и не русский монах обитал, но римский искушенный логофет и филозоп. «Какой филозоп, ежли ничего в латыни не пенькает», – с легкостью подумал государь и снова рассмеялся, неведомо чему радый. Никон чужим сторонним предерзостным взглядом проглядел Комнату и остался доволен: не сронил святительского чина пред пришлыми. Слава Те, Богу, что дверь в спаленку закрыта. Вот бы диву дались…
Никон торопливо поднес кубки с романеей. Стоячие часы в ореховом ковчежце отбили шестой час ночи. Скоро на раннюю утренницу. И опять без сна.
– Все мне позволительно, но не все полезно, – запоздало ответил патриарх с туманным намеком. Вино отдавало горечью и дубовой посудой. – Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
– Гордоус, и ты червь! Тобою обладает то, чем ты обладаешь, тщась, – одернул Алексей Михайлович Никона пред антиохийским патриархом. – Ты, святитель, себя постоянно с Закхеем равняешь. Но ты не сын Авраама. Посмотреть бы, как на дерево взлезешь вслед за иудеем, тряся гузном. Погляди, огруз весь.
Царь засмеялся, и Макарий ровненько, заливисто поддержал его, принакрыв умные пронырливые глазки моховыми бровями, сквозь кои уже пробивалась кабанья седая шерсть. Ласковое теляти двух мамок сосет. Да и то смешно: царь вроде бы в Никона метил, а выказал себя. Молодехонек молодец, да тучноват.
– А и полезу, куда хошь взлезу. В отроках под колоколами ночевал. Бывало, лезу, ветер пятки подбивает. Думал, что ветер. А то был Дух Святый. У меня, сынок богоданный, папарты невидимы бысть. Аль не видишь моих крыл? – затрубился патриарх, при госте заговорил с царем резко, но через насильную улыбку: лицо стало черным и злым. – Ты, государь, рано вознепщевал, что я твой подпазушный пес, доморощенный слуга, коли тобою из низу поднят. Но помни, Господь выбирает себе верных слуг. Скажешь, нет?..
– Нет-нет… Не взводи на меня напраслины. На пустое клеплешь. Но что отец наш Макарий подумает? Издаля к нам попадал не ради даровых опресноков, но за-ради веры. – Царь искренне опечалился и поспешил вкруг стола к Никону с кубком романеи. Серебряный кубок был обвит трехглавой змеею. – Давай изопьем на дружбу. Изгоним черную кошку прочь.
«Яду давает, известь хочет», – вдруг подумал Никон и устрашился мысли. Словно бы кто за плечом подсказал. Так ясно прозвучали неслышимые слова. И сказал, притворно улыбаясь и за это притворство себя ненавидя:
– Бог рассудит, государь. Все дети Авраамовы, да не все чада Христовы. Ведомо мне, из Иудина племени, из шестого колена Данова приидет антихрист.
Лицо как бы иссохлой глиной измазано, так окоростовело, и будто сквозь чужую личину вглядывался Никон в государя. Впервые от него потянуло духом измены и неискренности. Ишь как мельтешит пред сирийцем.
Антиохийский патриарх-миротворец заметался меж великих государей, боясь грозы: лукавым своим умом он не ведал пока, чей приклон взять, на кого опереться, чтобы не прогадать. Один – солнце, другой – луна: два светила на русийском небе. Один в папы метит, другой – на константинопольский престол. Ежли турка сгонит. Знать, не напраслину разнесли по Европе: де, в Московии голка разгорается за власть и не вем, кто кого оборет. Два великих государя на одной стулке не усидят. В Руси не за диво мужику на престол садиться… Одно истинно: где двое меж собою пыщутся, третий не лезь, получишь на спину рожна да батожье. Собрался было вмешаться Макарий, внушить: де, солнце и луна на одном небе не светят; де, батько Никон, осекись пред царем, царь – наместник Бога на земле, его устами сам Господь учит нас. Но прикусил язык, наблюдая за Никоном, пригубил из чары. И не смог удержать дрожь нетерпения, ибо какая-то блошка невидимая укусила Макария, и внезапно в этой пре почуял гость свою дальнюю выгоду.
– Государь, яви милость, – сказал смиренно, через толмача. Был я нынче на богомолье у Троицы в монастыре. Сидят там в хиже без окон и дверей, без еды и тепла два дьякона, неведомо кем посажены на смерть. Уже посинели с голоду, слезами плачутся, издыхая, о жизни молят.
С этими словами Макарий обернулся к Никону: тот стоял, полуотвернувшись к образам, и быстро перебирал костяные зерна четок. Алексей Михайлович смущенно взглянул на московского патриарха, ожидая ответа, в лице царя мелькнул искренний испуг. Царь боялся Никонова гнева и не желал его. Еще шла война с Польшей, и лишь молитвами кира Никона спосыланы были на русское войско победы.
– Зря просишь, святитель. Я в отцовы дела не вмешиваюсь, – отказал государь поспешно. – Что, ежли не по уму, отдаст Никон мне свой посох и скажет: правь церковью сам, коли такой умный. Ты уж сам попроси у него. Великий государь, слышь? за-ради праздника прости несчастных…
Никон обидчиво закаменел, глядя в проталину заиндевевшего ночного окна: призрачная синь была обведена морозным узорочьем, и в глубине стеколка, на самом дне прорубки призрачно блуждали небесные звезды, трепеща и замирая. «Господи, я-то чего ерестюсь? – с сердечной щемью взмолился вдруг Никон, в темном омуте разглядывая свой суровый притомившийся облик. – Отмякни, патриарх, – велел себе. – Христос и на кресте улыбался. Сказал же ученикам: любите ближнего, как я люблю вас. Что за муха укусила меня? Ведь я люблю государя, истинно люблю, как родное дитя».
Никон проглотил неожиданный слезливый комок, запрудивший горло, и, слегка замедля, боясь показать лица, ответил, уставясь в окно:
– Они Бога забыли, злодейцы. Какое им прощение будет в Судный день? Чернцы они, Богу клялися служити верно и тут же постриг отринули, клятвы стоптали, ударились в похоть. Ежли простить их, то грехи на том свете утроятся.
– Ну, за-ради праздника лишь. Люди ведь, жива плоть. Ну приспело, ну приперло мужиков. Батько, простим, а? – неожиданно по-русски попросил Макарий и, пока не опомнился Никон, решительно приблизился, коварный, к патриарху, обнял за плечи: отекшее лицо сирийца едва достало груди московита, будто закованной в доспехи, а лоб больно уперся в панагии. Но Макарий и эти неудобства превозмог, еще пуще вжался в святительскую мантию, наверное пытался забодать хозяина, сронить с ног. – Ну прокляни их… Но жизнь-то вправе ли забирать? Живот наш лишь в руце Божией, – ворковал Макарий, оглаживая литые плечи Никона, а пальцы нашарили что-то жесткое, витое. Точно в цепи был закован московит.
– Нет и нет… не проси. Пусть червие пожрет их, пропащих. Но зато спасутся.
Никон вопросительно взглянул на государя, тот опустил глаза долу, значит, попросил простить. «Эх, государь, Алексей Михайлович, – с сожалением подумал Никон. – Потворствуешь, милок, проказе. Ведь дижинь в хлебы не обрать. А не с твоего ли извола дьяконов, тех, что вернулись после чумы обратно в домы к женам своим, вдруг похватали и запечатали в сруб на смерть для острастки другим… Я лишь грамоткам твоим потатчик, и в том мне один Бог судия. Твое добросердие я словом церковным зело подпираю, чтобы ты был народу калач сдобный, а я – кус оржаной. Эх-эх, Тишайший! Но почто ты из меня ката делаешь, государь? Не молчи, молви иноземному гостю истину».
Но не дождался патриарх от царя признания.
– Пусть исполнится по-твоему, отечь, – смиренно согласился Никон, подавив сердечную бурю; он отвел от государе обиженный взгляд, погладил Макария по тонзурке на голове, как малое дитяти, поцеловал в эту коричневую, в веснушках, будто опаленную, старческую плешивую маковицу. – Ну и хитрец ты, господине, ну и проныра. Замучил мою душу и, немым притворясь, облукавил обоих великих государей разом, поймал меня в тихую минуту на доброе дело. Ну да ладно, сдаюся. За-ради праздника и последнего душегубца прости и помилуй.
Никон разлил на пробу из ковша по кубкам смородинового медку. Макарий отказался пригубить, пожаловался на усталость и немочь и боковыми сеньми, минуя Крестовую, покинул Дворец. И лишь закрылась за сирийцем дверь и остались великие государи наедине, друг против друга, разделенные столом, уставленным яствами, то сразу и потупили взоры, замолчали, будто языка лишились. И в мертвой тишине стал явственен многоголосый гул за стеною в Крестовой: там продолжалась гоститва, и многопировники, не ведая устали и не видя над собою надзора, с охотою предавались гульбе.
– Отец, прости, коли что не так, – сухим ломким голосом сказал государь. – Вот праздник вроде, а душа немотствует. Это не я супротив тебя восстал, а бес. Прости, батько, – снова повинился Алексей Михайлович.
– Бог простит. – В голове Никона гудело, будто битых три часа орал он в холодном амбаре. Не голова, а пустой котел-кашник.
– Да… худо, патриарх, пасешь свою паству. Бояре на тебя всяко грешат. Вот и отцы духовные разбрелися всяк по своим селитбам и детей своих продают.
Никон недоуменно вздернул брови. И неуж его государь уличает в измене? Да нет, нет… Решил, что об антиохийском патриархе судит государь. Тоже хорош гость, нечего сказать: ведет себя в России, как лазутчик в чужом стане.
– На тебя ежедень бьют челом и жалятся. Про то сам ведаешь. И снова челобитная. – Государь подал святителю грамотку, скрученную в тугой свиток, перевязанную голубым позументом. Никон тут же собрался и прочесть, но Алексей Михайлович остановил: – Будет еще время судить и рядить.
И царь отправился в Терем, чтобы облачиться на раннюю утренницу. Уже две ночи не спал, все в заботах и молениях, а сна ни в одном глазу, лишь ноги остамели и зачужели в сапожонках, как березовые окомелки. Алексей Михайлович неспешно шел тайным переходом, освещенным слюдяными ночными фонарями, с непременною вахтою истопников у каждой двери. У образов в печурах он замедлял, молился, а после продолжал беседу с патриархом: «Я сотворил тебя, а тебе и невдомек, – в который раз повторил царь, этой неожиданной мыслью особенно согреваясь. – Слепец слепого в яму ведет, а зрячий посох – на Голгофу. С Голгофы, Никон, самый ближний путь в рай. Не унывай, святитель, доверься мне, и мы с тобою продвинем Русь на Балканы. Той стеною мы отгородимся от турка и обопремся о Черное море… Но не думал я, никогда не полагал, что ты такой обидчивый и горячий, и преизлиха гордец. Будто и не монах… А может, и не зря доносят на твои дерзости, мужик? Де, цареву стулку возмечтал схитить?..»








