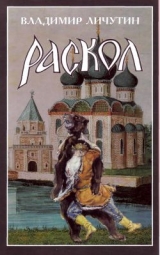
Текст книги "Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
«… Вишь вот, многих ты, милосердый, спосылывал ко мне с милостию, а сам затаился, яко лис у курятни», – оскорбился гораздо Никон последними словами дьяка; и так у Никона защемило на сердце от обиды, так невмочно стало, что дух переняло. Патриарх опустился в затенье на дубовую лавку возле часовни и мрелым взглядом уставился в заречье, где бродили плотогоны и кокотами сталкивали замелившиеся бревна обратно в воду.
Давно ли стольник Афанасий Матюшкин привозил гостинцы, окольничий Федор Ртищев был, клялся в вечной любви, Алексей Никитыч Трубецкой приворачивал с похода, просил благословения, стольник Матвей Пушкин привозил государевы милости и обмолвился, де, Алексей Михайлович кручинится от размолвки и ждет святителя у себя в хоромах. Выходит, все враки? Он вот что задумал: он меня к болотной павне подвел да тихохонько сзади норовит спихнуть, де, поди, братец, уряженной дорогою, ступай, яко Христос хаживал по водам… Но я-то не Христос, меня, грешника, и земля-то едва носит; порою вроде бы и по твердому бреду, а будто по болоту. Оле! Один я нынче, как пест, без мамки, как пес, лишен не только твоего заботного взгляда и медвяных слов, но и крох с богатой трапезы. Был я некогда во всяком богатстве и единотрапезен с тобою, не стыжусь этим похвалятися, и питан был, как телец на заколение, многими жирными пищами по обычаю вашему… А ныне всяко оболган злыми людьми, оклеветан проходимцами, испакощен злосоветчиками, и всем наветам ты, собинный друг мой, поверил и отворотился от меня, закрыл сердце от моих молитв неприступными бронями.
Ежли ты царь великий, от Бога ставленный для правды, то какая моя неправда пред тобою? Некоторые говорят, де, я много казны взял с собою. Но не себе взял, а для церковного строения, и что дано Воскресенскому казначею во время моего отъезда, и то дано не ради корысти, но чтобы не оставить братию в долгу, чтобы с работниками было чем расплатиться. А другие издержки сделаны на глазах всех людей: двор московский выстроен – стал тысяч десятка два и больше; насадный двор тысяч в десять стал; тебе, великий государь, поднес на подъем ратных людей тысяч с десять; прошлым летом лошадей куплено на три тысячи; шапка архирейская тысяч пять-шесть стала, а иного расхода нет. Святый Бог весть, сколько убогим, сиротам, вдовицам, нищим роздано, тому всему книги в казне…
А сейчас пришла весть, что пересматривали в бумагах, лихоимца из меня хотите сделать. Через Афанасия Матюшкина присылывал ты свое милостивое прощение, а теперь поступаешь со мною, как с последним злодеем. Перерыты худые мои вещи, оставшиеся в келье, перечитаны письма, а в них много тайн, которых никому из мирских людей не следует знать, много писем от других людей, которые требовали у меня разрешения в грехах, а это никому не должно знать, даже тебе, государь. Дивлюсь, как ты скоро дошел до такого дерзновения. Прежде ты боялся произнести суд над простым церковным причетником, а теперь захотел видеть грехи и тайны того, кто был пастырем всего мира. Окружила тебя лжебратия и каждое слово мое переметывает; что было сказано мною со смирением, то передано гордо; что сказано благохвально, то передано хульно и такими лживыми словами возвеличен гнев твой на меня… Но и те клеветы не приму в обиду. Миленькой государь, друг сладимый, Господа ради прости, да сам прощен будешь!
Никон вернулся в часовню, припал к оветному кресту, облобызал сокровенные письмена, достойные небесного свитка, и, утихнув сердцем, смиренный, как тихомирный инок, излучая улыбку, потащился обратно в монастырь. Солнце стояло над головою, пора трапезовать. Без чужого догляда Никон охотно опадал, вянул телом, разом дряхлел, словно бы земля обетованная тяжко поманивала его поприжухлую, рано коченеющую плоть.
3…А в монастыре возле южных ворот бранились. Завидев патриарха, братия расступилась, затихла. Никон взошел на первую приступку лестницы, ведущей в надвратную церковь. Легче крошна с кирпичом носить с насада, чем рассудить мужицкую голку, когда сутырятся, дерзят, бестолково гоношатся селяне, норовя переорать друг друга, надавить глоткой, будто в силе горла и таится вся истина. Эх, дети мои, дети! Никон переждал гам, в сутолоке слов ловя правду. Пятеро чужих мужиков, притиснутые командой стрельцов к стене, однако, посматривали на патриарха без опаски и даже с некоторой дерзостью или с вызовом, нарочито ухмыляясь; простоволосые, с порванными рубахами, без опоясок, холопы были туго опутаны сетным полотном в один тугой слитный ком и походили на многоголовую гидру. Тут подступил Александр Лускин, сын боярский из иноземцев, монастырский служивый, наймованный патриархом в охрану, и доложился, что холопишки из поместья Ивана Сытина, уж кой год творят бесчинство и вот сей раз пойманы при воровстве: на монастырском озере втай ловили рыбу для своих нужд. Для пущей острастки, чтоб неповадно было, биты на берегу озера батогами, но не повинились, мерзавцы, а грозились монастырь сжечь. Вот и приведены пред очи: пусть патриарх рассудит своим словом.
«Не ваша рыба… Рыба Божья! Всем дадена! – взовопил крайний смутитель; он возвышался над сотоварищами на целую голову и, видно по всему, шел за атамана. Дерзостник нехорошо осклабился, выказав оскал слитных белых резцов: они сверкнули, как ножи, в огненно-рыжем окладе бороды. Такой ненароком и горло порвать может. – Скоро дышать запретите, Бога забывши! Петлю затянули! Как вас земля только носит!»
«А ведь воровать тяжкий грех, – без гнева, но сумрачно напомнил Никон, помышляя отпустить православных с миром. Изведали науку – и довольно. – Знать, забыли, детки мои, отеческие заповеди. Пришли бы, спросились хозяев, де, рыбки хотим».
«Окромя ямки ничего у вас не выпросишь! Расселись на нашей земле, как окаянные клещи в мошне, – не унимался смутьян. Раскаляя сотоварищей, подговорщик подтыкивал их под ребра свободным локтем. – Вам только бы вино пить, баб блудить да деньги в подголовнике считать!»
«Уймися, лиходей! Иль мало нагрели? – подскочил Лускин, сын боярский, оголовком плети решительно пихнул сутырщика в уже намятый батогами бок. – Не дерзи, ворина. Сумей ответить, пакостник. Патриарх пред тобою!»
«Не отец он мне-ка, самоставленник! – сожигал за собою мосты мужик; он побледнел лицом, но взгляд его, несмотря на бешенину, был мертв, хвачен изнутри морозом. – Последний кусок из горла вынял… Расселись на наших отчинах… Вот ужо пустим петуха под гузно, поджарим мошну, больно хорошо! Побежите с Истры прочь, как мыши, только и видали вас… А вы-то, миряне, что языки проглотили? Режьте их ножиками! Славное дело! Иль за правду боитесь стать?»
…Совсем изгадился человек, червием изнутра выпотрошен. Никон съедал подговорщика взглядом, словно бы взывал: опомнись, пока земля держит. Но тот не унимался, и в груди Никона заклубилось нехорошо, душно накатило на сердце. Сам мертв, негодяй, уже при жизни сей и других тянет в пещи вааловы, бес. Он Господа Отца поминает всуе, а сам хочет дом Сына Его Исуса пустить в распыл. Страшнее-то ничего не мог измыслить? Боже, Ты рождаешь таких извергов всем нам в поучение, чтобы мы воистину знали в обличье, кто есть шиш антихристов…
«Ты товарищей своих не науськивай! – закричал Никон грозно. – Сам упадаешь в бездну и других к чертям на расправу тянешь. Думаешь, там пироги да перепечи? Мало тебя били, разбойник. Он дом Господень жечь… Я тебя помаслю батогами по ягодам, чтоб не сесть. Валите его наземь да еще поучите хорошенько. И братовьев его, изгильников, пока совсем не испропали».
Атамана сронили на кирпичное крошево, живо содрали порты; ветхий зипунишко из крашенины, обычный рыбацкий сряд, натянули на голову, и двое стрельцов, расстегнув кафтаны, принялись охаживать строптивца, но лениво, без натяга, прижаливая сердешного. Прочие мужики сутулились возле стены, исподлобья глядя на патриарха. Никон замедлил на приступке, что-то неволило его остаться на миру. Может, покаяния ждал? Синие жгуты проступили на белой сухомясой спине, но атаманец не просил пощады. Его лишь подымало, корчило, как рыбу. «Боже, – подумал Никон, – как глубоко угнездился в супротивнике дьявол. Ведь не рыбы жаль, но изнывающей понапрасну души человечей… Ну, повинися же, черт полосатый! Ну, повинися!» – все воззвало в патриархе. Он, казалось, прожигал взглядом безвольно растекшееся тело, оседланное с ног и головы дюжими приказными.
Никон вдруг спустился с приступка, подошел вплотную к вору. Сказал, принаклонясь, с досадою:
«Эх, сан не велит. А то бы снял скуфью, вызвал бы тебя на кулачки и наволтузил, снял кислу шерсть. Бейте его, робятки, пуще!»
«Палач ты, – донеслось с земли глухо. Шея холопа побагровела, казалось, сейчас изойдет рудою, если хорошенько надавить коленями. Стрелец, сидящий на голове христовенького, пуще вдавил ее в землю. – Не отец ты, самоставленник…» – упрямился непокорник.
«Это ты плохой отец, коли отпрысков не учишь, и худой сын был, ежли родителевым словам не внял. Аль запамятовал, как в Домострое? Лупите его, робятки, пока не вспомнит, а я стану в лад вам наставление ему нудить…„Казни сына своего от юности его… и покоит тя на старость твою… даст красоту души твоея…“ Чего не вопишь, неук? Причитывай жалобней, вопи: де, пощади, батько, дай послабки, дурак был. Господь и помилует…»
Надсмехался патриарх, тешил сердце иль вправду прижаливал гордеца, узнавая в нем себя? Но атаманец, впившись зубами в заскорузлую, смешанную с кирпичным крошевом землю, лишь монотонно мычал, и этот протяжный на низах вой, перемежаемый зубовным скрежетом, впечатлительней всего говорил о той злобе, что пожирала сердце мужика.
«Ну и ярись, дурень. Себе станет дороже. Вместо хлебов житенных ествяных кусай калачи глиняны. Тогда слушай дальше. – Палки ударяли мерно, шлепали глухо, будто выбивали перьевую перину, а патриарх, тоже войдя наперекосяк, вспоминал поучение из Домостроя, почасту запинаясь на полуслове: – „И не ослабей, бия младенца: аще то жезлом бьеши его, не умрет, но здравие будет… ты бо бил его по телу… душу его избавишь от смерти“. Вот, злодей, как я радею, пекусь о тебе. Плачу по душе, испакощенной грехами, от гибели отвращаю, а ты мне конца молишь, неблагодарный… А вы чего? Эк разошлись чужие ребра сосчитывать! Помолотили – и хватит!»
Никон взмахнул четками, остановил порку, размашистым крестом осенил столпившуюся вокруг безмолвную монастырскую братию и трудников, сошедшихся на выть, и, понурясь, загребая сапожниками грязь, ушел к себе в келию трапезовать с совсельниками, ближними монахами-старцами. Он даже не узнал имени сытинского мужика и сразу позабыл холопа, так дерзко сетовавшего на патриарха. Но досада в груди остоялась, она горчила еще от слов московского дьяка, а сытинский холоп лишь приумножил печалей. Так помнилось Никону, что и сосед-дворянин, с коим некогда и не лаялись, лишь с царева извола стал потаковником, научил крестьян лазать в чужие сады. Разве ж сам-от Иван Сытин посмел бы тягатися с патриархом, ежли бы не дворцовые наустители, что сеют плевелы во все земли.
Мрачный Никон сел за обед; куда и подевалось то утреннее азартное чувство, с которым творил послушание. Трудники, уработавшись, нынче кормлены в трапезной капустой квашеной со свининой, а патриарху и его келейным четырем монахам черный дьякон Феодосий, новый любимец Никона, принес брашно: севрюжью ушицу в медных росольниках, по горшочку гороха-зобанца и киселю грушевого. Помолились, как водится, испросили у Господа ублагостить плоть, авось и душа плотнее заживет.
Дьякону Феодосию, сбежавшему на Истру от Крутицкого митрополита Питирима, Никон всяко потакал. И тут усаживал с собою за еству, трижды приглашал за стол, а дьякон отнекался, сказался, что преизлиха удоволен святительскими молитвами. Застыл около чулана, опершись о косяк; лицо бледное, какой-то мучнистой рыхлой белизны, обметано непролазной черной порослью, и из этой шерсти нос, будто дуля, выпирал мясистым торчком. Никон не раз обернулся, томимый предчувствием, не донеся ложки до рта, щупал взглядом присадистую фигуру дьякона.
«Ты бы уважил нас, Феодосий, присел. Молитвою сыт не будешь. Чего сторожишь, как вратарь у двери? Будто бедный родственник. Сам патриарх зовет. Ись-то коли не хочешь, так посидел бы с нами», – вновь напомнил один из старцев, уловив беспокойство патриарха. Дьякон не ответил, лишь хмыкнул. А Никон вдруг сказал невпопад; знать, мысль в голове сидела гвоздем:
«Чую, Москва меня известь хощет…»
«Полно тебе, святитель. Напраслину думаешь…»
«Нет и нет. Я им поперек горла. Будто ерш стогодовалый. И Башмаков намедни с умыслом навещал. Велит ехать в монастырь Макария Калязинского. Царев наказ, де…»
«А с какой это стати?»
«И я говорю: чего там забыл? Я лучше в Зачатьевскую тюрьму сяду. Так и велел передать государю… Они там спят и видят, мои враги, как бы я помер поскорее да место освободил. Питирима я за уши из болота вытащил. Аль не помните? А ему нынь не терпится сесть на патриаршью стулку. Так высоко возомнил о себе, дурак. В архипастыри метит, а сам даже и того не знает, пошто он человек». Никон, обжегшись ухою, бросил ложку на стол, оглянулся к диакону: дескать, чего молчишь, поддакни. Феодосий лишь на миг странно замешкался. Иль почудилось святителю?
«Подавятся… Не едать щуке ерша с хвоста», – пробасил диакон и вышел из кельи, не испросясь.
«Кабыть уха нынче не сладит, – вдруг вопрошающе пожаловался тщедушный старец Феофил, отвлекая Никона от горестных мыслей. – Кабыть рыба худо чищена. Не с желчью ли сварена, а?»
«Блазнит… Это у тебя в роте горько. В твоих летах ныне все видится горько».
«И мне не занравилось, – поддержал Никон, решительно отодвинул медную глубокую мису и с прищуркою, низко наклонясь, вгляделся в уху, мерцающую золотистой, с искрами пленкою, в край севрюжьего разварного звена с перламутрово-желтоватым мясом. – Может, жир горчит? Не обрезали, бездельники, с брюшка, вот и горчит. Я им потрафляю, мягкосердый, а они дело забыли. – Никон звякнул в колокольчик, позвал служку. – Изведут когда ли великого государя ино не по умыслу, но лишь из лености. Не узнаешь, отчего и помер».
И как в воду глядел Никон. Старец Феофил при этих словах сорвался из-за стола и, сложившись вдвое, затыкая рот кулачком, скрылся в дверях. И других сотрапезников запозывало на волю: бледные как полотно, они, шатаясь, приползли в келью, завалились на лавки и с охотою приготовились умирать. Патриарх крепился до сутемок, борол недуг молитвою и святою водою. Потом причастился. Но зато свалило Никона круто и с шумом, как вековой дуб под бурею, и давай катать и корчить.
Монастырь всполошился, разыскали дьякона Феодосия, сразу заподозрив того в чаровстве. Нашелся у него и подручник, портной мастер Тимошка Гаврилов. И пока патриарха и иноков-старцев отваживали от смерти безуем-камнем и индроговым песком, приказной дворянин Василий Поскочин уже вел расспросы подозреваемых…
Изведав девять плетей, дьякон Феодосий более не запирался и подал собственную челобитную, в которой поведал, де, послал его в монастырь отравить патриарха Крутицкий митрополит Питирим и чудовский архимандрит Павел, посулив за то черному дьякону новгородскую митрополию. Тимошка же сказывал, де, Феодосий учил его делать изводное зелье из кореньев в монастырской бане.
Двух татебщиков-чаровников отвезли в Москву в Разбойный приказ. Государь приказал подвести дьякона и портного мастера под пытку. И Тимошка вдруг заперся; и когда его трижды подымали на дыбу, и жгли огнем, и били плетьми, повторял одно: что прежде клеветал на дьякона, что последний никак не учил его делать никакого состава из злого корения и что он якобы на себя и на Феодосия наговорил от мук, не стерпя побоев. А принудил так показать на диакона поляк Николай Ольшевский, по наущению патриарха…
Глава вторая
На краю кладбища церкви Благовещения юродивый Феодор Мезенец занял чужую заброшенную, сиротливо провалившуюся ямку, заглубил ее, обложил дерном и стал жить. Останки почерневших измозглых костей он зарыл тут же, в переднем углу схорона, нарыл поверх крохотный горбышек и на него, присыпав свежим речным песком, поставил путевую иконку Пантелеймона-целителя, возжег пред нею свечной огарыш. Вход в нору завесил рогозным кулем, чтобы не западал осенний ветер с дождем. Обычно же край запона был всегда отогнут. Дальше начинался речной откос, густо обросший шипишником, и утрами эта живая дикая завеса была алой от наспевших ягод и пахла елеем и нардом. Мало находилось охотников пролезать к юроду сквозь шипы, и если какая-то богомольщица навещала Феодора по пути к могилке, то с молитвою призывала монаха появиться из ямки и благословить ее. В кроткие осенние утра под серебристый перезвон частых устюжских колоколов в пещерице жилось особенно покойно. Сюда словно бы ангелы слетались опочнуть после трудов праведных, и мотыльковый шелест их крыл и благовонное бесплотное дыхание были для кающейся души Феодора слаже врачующего бальзама. Музыка и дух неба, оказывается, и землю всю пронизывали сквозь, не позабывая верных молитвенников и по их смерти. И так предположил блаженный, что ежели и бывает на миру рай, то он вот здесь, под боком у усопших. Они кротко полеживали себе на погосте, никого не потревожа, желанно растворяясь в земной тверди, и ночами Феодору было хорошо слышно, как потрескивают, ссыхаясь, их благоверные истончившиеся косточки, лишенные похотливых мясов. Феодор не уставал бодрствовать на клоче сопревшей соломы, и под игривый перепляс медного петья, уже не чуя своего тела, заглубившись в самые недра чрева своего, он мысленно бесконечно тянул Исусову молитву… Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного… И коль скоро в молитве сердце согреется и не захочет слов, нужно прекращать чтение и молиться сердцем. Как учили великие святые – это и есть начало молитвы. Когда Господь пошлет вам такую молитву, дорожите ею. Одна женщина всю жизнь постоянно, не отвлекаясь, читала про себя «Господи, помилуй». И с этой молитвой умерла. Куда же она отправилась после этого? – спросили преподобного. «Без сомнения, к Господу».
Много житий прочитал юродивый еще в послушниках, будучи в Сийском монастыре; и в Чудове в Москве почасту сидел над книгами, когда возили его с Двины на епитимию за чаровничество и ереси. Но только нынче, воистину служа Господу по обету, данному в отрочестве, юрод понял, что любой великий пример далеко отстоит от собственного подвига.
И вот однажды лежал Феодор в земляной норе, уставясь мрелым бессонным взглядом в алую колышащую завесу шипишника у лаза, и вдруг забылся в тоске, и предстал ему чудный сон. Будто несет его, безвольного, по северной реке, и он едва справляется с телом, часто хлебая густую няшистую воду, отдающую прахом и забившую гортань. И воскликнул Феодор, уже прощаясь с жизнью: «Господи, помози мне!» И тут его подтянуло к глинистой круче, ко крутому кряжу, с которого пригнетался к воде развесистый куст ивняка; из последней силы уцепился блаженный за сук и выволок тело из быстери. И увидел Феодор, что под кустом светится крохотная досточка, иконка Пантелеймона-целителя, вроде бы та самая, что у него в пещерице. И вдруг сказала икона, как бы отверзлись в ней невидимые уста: «Ступай, Феодор, и врачуй! Исцеляй души, покрытые струпьями! Других спасешь, и сам спасен будеши!»
И с этими словами блаженный проснулся. И все прежние скитания, и томление в мезенской скрытне, и нападки детей сатанаиловых, и распри с отцом духовным наполнились смыслом. Заплакал Феодор, протиснулся на коленях в передний угол, припал губами к образу святого Пантелеймона и почуял иссохлыми ржавыми губами медовый вкус нектара, словно бы напоил юный лекарь из чудной лжицы целебного настою. И в истомленную грудь, растворив ее, вместил Господь живой уголь. И разъялся верх пещерицы, крытый берестом и дерном, и сверкающий небесный луч голубым мечом разрубил скрытню наполы, и в дальнем конце светящегося столба, упирающегося в небесные тверди, разглядел юродивый сидящих на стулицах трех светлообразных мужей. Он их сразу признал, и с очей отпала темная пелена. И открылась Феодору истина о Святой Троице, кою всяко испроказили священцы, толкуя на латинский лад: де, Господь Бог един и трое в одном. Как это они друг в дружку влезают, будто векши в гайно, и тамо живут? И где тогда Бог Отец вмещает Духа Святаго и Сына своего Исуса? в утробе ли? в груди ли? в коленках ли? – так кликуши таскают своих икотиков – чертенят; иль в главизну они влезают? Эко чудо клеплют бездельники, наедясь до дурна свинины с капустою и напиясь вина. Нет и нет… Своими очами нынче зрел: всяк сам по себе сидит на стулицах, как детки подле отца, и батьку своего Саваофа слушают и почитают, как родителя и доброго наставника. И никто ни в кого не лезет. Таковое и представить смешно.
И юродивый засмеялся скрипуче, и могила проглотила смех.
Волоча вериги по волглой, испрошитой березовыми кореньями земле, Феодор вылез из могильной ямки, прободнул головою колючую завесу шипишника, подхватил губами волосатую ягоду и укусил ее. Пока выбирался из пещеры, десятки шипов впились в юрода, раскровянив лицо и руки, но от уколов терния было ему сладко… Христов венец краше царской митры в смарагдах и яхонтах…
Феодор был кладбищенским затворником; не вем отчего в страхе бежав с Видань-острова, словно бы Епифаний травил его собаками, юрод охолонул лишь на краю Устюга, на крутояре; внизу струил Юг, и дальше дорога обсекалась. И при церкви на погосте сыскал Феодор приюту, как бы кто привел его сюда за руку. Он прошелся меж могил, глазу палась сиротская ямка, затекающая землею; юрод спустился в нее и полюбил, как родной дом.
Феодор редко выбирался в Устюг кусошничать и от всякой церкви бежал прочь, как от чумы, злобно бранясь; за это причетники били его палками. И нынче он скоро пересек церковный двор, досадуя, что снова понабрался грехов возле нечестивых, но прямь ворот вдруг остановился, будто окрикнули его. Ему вспомнился сон. Только что Господь подал вещий знак, а он, Феодор, уже и позабыл его и нарушил… «Ступай, Феодор, и врачуй! Исцеляй души, покрытые струпьями!» Феодор вернулся к церкви, трижды плюнул под ноги, но вдруг поднялся на паперть. Он не замечал, как часто кланяются ему прихожане, суют в горсть кто грошик, иной яблоко, яйцо иль калач. Феодор небрежно кидал милостыньку в залубеневший пестерь (единственное напоминание о родительском доме), нимало не озаботясь, угодило ли подаяние в кошелку.
Тут народ засобирался на паперти, притек, заслышав блаженного. Слушал и страшился погибели своей. Юрод распалился, звенели цепи на тщедушной груди, ноги в струпьях и язвах стучат по доскам, словно копыта. От такого страдальца каждое слово прикипает на сердце, яко воск.
Лица смазались в одно большое белое пятно. Но вдруг проступило одно, мохнатое, с круглыми рожками во лбу; в творожисто-белых глазах зенки стоячие, с прозеленью, как у кота. О-о-о! – простонало все в юроде. Ты лишь подумай о сатане, а он уж и в ограде. Свят-свят-свят! – мелко зачертил вокруг себя крестом. Прихожане взволновались, не понимая тайных мук юрода, но близко принимая их жалостливым сердцем: бедненький, такую нужу и глад терпя, он воистину видит на сто сажен вглубь.
На паперти появился причетник, зашикал на Феодора, грубо пихнул в спину, пытаясь сронить лядащего с крыльца, но лишь руку зашиб о закаменевшие мослы блаженного.
«Поди, поди прочь, обавник! Сгинь, пустомеля! – закричал. – Это тебя с мутовкою ждут! Мутишь народ-то. Гоните, братцы, чаровника, продающего Святую Троицу!»
Феодор шел серединой дороги, и ломовые телеги с солью, и возы с сеном и хлебной кладью, и верховая чадь, и служебники, спешащие на рысях за город к заставам, и стрельцы невольно уступали блаженному путь, отворачивая загодя лошадей, чтобы не подмять копытами устюжского покровителя и предстателя пред Богом. И пожалуй, во всем Устюге, кроме священниц, сыскался ли хоть один ремественник, или из торговой сотни ларешник, иль самого кощейного звания мужик, кто осмелился бы словом утыкнуть юродивого, а не то кулаком попотчевать. В торговых рядах Феодор заходил в лавки, и каждый купчина спешил одарить монаха булкою, иль горстью медовых жамок, иль насыпал в кошелку вареных яиц, а юродивый благодарил копейкою, что подали нынче Христа ради: де, возьми, кафтанник, денежку, не упрямься, мне она нинашто, а тебе все одно в рай не угодить, злоимец, всего злата мира не хватит, так хоть в аду откупишься от огненного веника… В стены хором, где жили особые молитвенники и смиренные боголюбцы, он кидал камением, отгонял чертей, осадивших избу почтенного мирянина, пугал хвостатых, давал им бою. Нищенка подкатила: де, подай, Феодорушко, Христа ради. Юродивый отказал: «Ступай, прошачка, питаемая благодатями и готовая на заколение. Ты и без того у Спасителя в золотных ризах».
Феодор подгадал к Троицким воротам к самому часу, как бы Дух Святый вел его за руку. Во все колокола ударили многие церкви Устюга Великого. «Едут, едут!» – закричали вездесущие мальчишки, и патриарший поезд, далеко оставляя за собою хвост из десятков подвод, медленно вполз из речной прилуки на городской крестец, заполнил собою узкую улицу, вымощенную булыжником. Стрелецкие десятники и боярские дети раскатали пред воротами червчатые попоны. И юрод, вдруг не вем откуда взявшись, не страшась батогов и зуботычин, направился встречь Никону по ворсистым покровам. Любому другому не сносить бы тут головы от подобной дерзости; но юрод – он вестник от Господа, он – глашатай, заступитель, молитвенник, у него на голове корона царственная невидима бысть. Тронь лишь пальцем юрода, и неведомо как отзовется после на Страшном суде, коего никому не обойти. Да и сам-то Феодор Мезенец еще накануне не исполнился бы такой решимости; нынче же он головою подпирает небеса, ничто ему не страшно, и весь народишко, сошедший с истинного пути, был ему мелок и вял в своем неустанном и никчемном земном мельтешении. Юрод и на патриарший поезд взглянул как бы с высоченных скоморошьих ходуль, подпираемых ветром, и у извилистого пестрого тулова гада, вихляво растянувшегося по Устюгу, он разглядел и когти, и рога, и печать антихристову во лбу…
Никон высунулся из избушки, отдернув слюдяное оконце, и душа его наполнилась торжеством. Возле надвратной церкви Успения на въезде в детинец он увидел толпу посадских, торговую сотню с хлебом, церковный причт с иконами, сторожу на обломах стены, кованые железные ворота на заклепках, сейчас гостеприимно распахнутые, раскатанную до Троицкого собора червчатую кошму… Чтят пока патриарха и милуют, и ежли где и сыщется какая невзглядь и жидь, то при виде ревностных молитвенников она невольно западает в сумерки, яко моль и гнусь. Душевное тепло невольно кинет всякого гада в бега и ужас.
И вдруг увидел Никон чернца-юрода, безмятежно шествующего по червчатому покровцу встречь путевой кибитке и властно втыкающего подпиральную ключку пред собою; бубенцы прерывисто стетенькивали в лад валким, зыбким шагам монаха. И никто – ни стрельцы городовые, ни боярские дети, ни церковная братия, ни посадский люд не мешали юроду. Какая-то шалая, полудетская улыбка расплылась по ожидающим забавы лицам, и взгляды всей толпы воткнулись в растерянное лицо Никона.
…Никон, Никон, не осердися, не распаляй душу свою! Лучше воззрись пуще в это блеклое истаявшее лицо, в страдальческие синь-небо глаза, обведенные рыхлой коричневой тенью, в плоское сизое тело, едва призадернутое холщовым кабатом, словно бы изъеденным собаками. И неуж никакой крохотной подробностью своего обличил не напомнит тебе юрод былой жизни и того счастливого случая, с каким ты вырвался из смерти, когда бежал с Соловков? Владыка, памятуя о своем обете, ты заложил ныне на Белом море островной Крестовый монастырь в честь счастливого спасения. Много лет отпало с тех дней, из простого монаха волею судеб взнялся ты на ту пастырскую вершину, с коей до самого Спасителя, почитай, рукой подать; ты – явленный образ самого Христа. Ну, натужь память, первосвятитель, направь все силы сердца своего на то лето, когда ты погибал в морской голомени и, уже не чая живота, покорно погружался в студеную пучину на прокорм рыбам. И, знать, Богом было так заповедано, чтобы подьячий Голубовский вытянул тебя на днище перевернувшегося карбаса, а голубоглазый отрок, переодевшись в белую смертную рубаху, что всегда неотлучна с поморцем во всяком походе, воздел руки к небу и вдруг воскликнул по необъяснимому чувству, словно бы Божий глас требовательно позвал: «Господи! – взмолился. – Если спасемся, юродом стану!» И гневливое море тут же разом окротело и смилостивилось.
Нет, не признать тебе, Никон, в юроде Феодоре Мезенце прежнего отрока Минейку. Да и то верно; ежли бы ты помнил всякое добро, содеянное тебе во все годы, то усох бы, согнулся под тяжестью благодеяний и никогда бы не поднялся с колен от бесконечной благодарной молитвы.
«Берите баловня! ловите!» – взовопили боярские дети и, взмахивая топорками, побежали наперерез Феодору. Со стороны возов поскакали стрельцы. Поднялся шум, сумятица, сронили привальный каравай с солонкою. Но опоздала сторожа. Юрод отпахнул дверь патриаршьего возка, головою повалился в ноги святителю, верижный крест тяжело скатился на кошму и словно бы намертво приторочил юрода к избушке; служивые пытались оттащить смутьяна, заламывали руки, гнули выю – и напрасно.
«Гоните, гоните прочь изврастителя!» – хотел вскричать Никон, но язык присох. Никон отодвинул ноги от засаленного колтуна, точно боялся наступить на голову блаженного и раздавить ее, но вдруг улыбнулся, снял клобук и концом шелкового воскрилья бережно вытер распаренный лоб и розовый рубец над бровями, натертый камилавкой. И вздрогнул Никон от привязчивого выцветшего взгляда юрода – столько было в нем тоски и боли.
«Чего тебе, скажися, христовенький?» – Никон принагнулся, мелко окстил лысеющее темя, шею в рыжей дорожной перхоти, измозглые белые ключицы, остро выпирающие из рубища. Но юрод молчал, вперившись в святителя. Бугристый, с надбровными шишками покатый лоб, густая с проседью копна волос, черные без дна глаза, как бы в них навечно заселился влажный густой мрак, и в глубине этой темени блуждают, вспыхивая, золотые искры. Как бы озарило Феодора, и в ненавистнике своем он сразу признал беглого монаха, коего чудом спасли тогда у Кий-острова. Но ничем не выдал Феодор знакомства, ибо устрашился нагаданной встречи.
«А… боисся!» – возрадовался юрод. «Нет, не боюся», – спокойно ответил Никон, по-прежнему улыбаясь. «Черт тебе в упряжку, еретник!» – Феодор неловко задрал голову, а пальцами судорожно вцепился в приступку. Загнувшиеся слоистые ногти побелели. Служивые с батожьем медлили, осторонясь, ждали патриаршьего слова. Им было страшно слушать такие кощуны на Никона. А тот все улыбался, измученно искривив рот. Губы его шевелились, словно бы приговаривал святитель: де, пуще жаль меня, юрод! ой, сладко мне!








